
Начну с конца: «Удар (опричнины) изначально нацеливался на вымывание прежде всего полонизированных литовско-украинских кадров, сконцентрированных в (российских) элитах…
Опричнина знаменовала не только устранение названной публики, но и приток во власть новых лиц. С этой целью действовала (специальная кадровая) комиссия, которая рассматривала кандидатуры, вела расспросы о родстве, друзьях, о покровителях. Условие карьерного продвижения – отсутствие каких-либо связей с опальными. По результатам отбора было выдвинуто около шести тысяч человек, занявших различные (государственные) посты…»
Это слова про XVI век… Ничего не напоминает? ... Польша, Литва, Украина – самые «щирые» многовековые русофобы!!!
+++
Когда читаешь историческую литературу о времени Ивана Грозного, то примерно 95-99% авторов (особенно «маститых»!) оценивают период опричнины как «ужос-ужос»! Прям крики на разные лады: тиран, деспот кровавый, садист, сумасшедший… как под копирку. Но мы же знаем, что «историю пишет победитель»?!! А по современным событиям, мы теперь хорошо знаем о технологиях «оранжевых революций» и алгоритмах дискредитации власти одних для захвата власти другими. А также со временем... архивы открываются, и взглядам предстают данные разведок, мемуаров и личных переписок – и вдруг… прошедшие события предстают совсем в другом свете!! Исторический калейдоскоп может поменять узор.
Прочла тут очень интересные (небесспорные, конечно) версии на этот счет – делюсь! Думаю, что это полезно, чтобы не «быть лохами» и в который раз не ходить по историческим граблям)).
+++
Формула 70/30
Любые социальные революции, это, прежде всего – кадровые революции! А почему собственно? … И кто, как и зачем эти кадры подбирает/меняет/устраняет: а делают это «кланы vs. кланы»!
Ну, во-первых, алгоритм начала любой кадровой революции всегда один и тот же: «обстоятельства - возникшая угроза - стоящая задача – кто способен ее решить/кто мешает ее решению».
Причем угроза может быть как: 1. внешней (государству), так и 2. внутренней (системе правления/управления/лично правителю). Но воздействие всегда идет через персоналии (кадры). А вообще, процесс проявляется совокупно: «угроза»=«1»+«2». Так что оцифровка – это не обязательно приоритет в порядке следования (1. причина, и 2. следствие), возможен и обратный процесс (сначала 2, потом, как следствие - 1.). Мало того, в большинстве своем сам процесс «2» внутри себя связан с кадровыми революциями – борьбой кланов (элит). Но в процессе «2» сначала меняются элиты (кланы), а потом уже победившая группа меняет всю пирамиду иерархии под собой.
Не буду давать оценку самим личностям, стоявшим во главе подобных революций, поскольку: 1. В большинстве своем эта оценка определяется тем, решена ли задача (отведена ли угроза) или нет, и 2. Их противоречивость определяется тем, на какой стороне (пострадавшего от репрессий, или поднявшегося по статусу) стоит тот, кто эту оценку/характеристику дает, и эти стороны никогда не примиришь – это полюса магнита.
Я уже давала поясняющий мою позицию комментарий в каком-то из предыдущих постов: «конечно, в семье не без урода, да и полностью идеальных людей не бывает. Особенно в верхних эшелонах власти. Это понятно. Даже китайцы оценивают своего бывшего лидера Мао Дзедуна, при котором была кровавая хунвейбинская культурная революция, по формуле «70/30»: на 70% он сделал стране добро, а на 30% - зло! И гордятся им на эти 70%»!! (прим.: проценты могут разниться, но добрые дела должны превалировать над злыми).
И я считаю это правильным! Идеализированных 100%-х ни исторических процессов, ни личностей - не бывает. Но всегда находятся внешние и внутренние критиканы, которые стараются аннигилировать и дискредитировать в глазах людей эти 70%, раздувая страхи и ужасы по поводу 30%. Этим занимаются, как правило, деятели и их потомки от проигравшей стороны.
К таким нашим правителям, которые боролись с внешними угрозами методами кадровых чисток, ЗАПАДлянцы и внутренняя 5-я колонна причисляют в той или иной степени троих: Ивана Грозного, Сталина и Путина. В мировой историографии и публицистике они демонизированы по самое «нехочу»!! А вот Петра I не трогают - видимо потому, что он благое (с их точки зрения) дело делал – «окно в Европу прорубал»! Но кадровую революцию все же тоже совершил.
Так вот, во все времена основной угрозой для государства являлась война (захват или уничтожение государства), а для государя – заговор приближенных (угроза жизни).
Начнем с Ивана Грозного
Несмотря на многовековую пропаганду, лично я Ивана Грозного «отмороженным правителем» типа римских тиранов-безумцев вроде императоров Калигулы или Нерона, не считаю. Думаю, что поклеп на него был возведен преднамеренно, а потом поддерживался в «медийном пространстве»)): одними специально, т.к. они были кланово заинтересованными в поддержании этого мифа, а другими – из научной лени, трусости или по инерции, плетясь за «заинтересованными» в мейнстримном коридоре.
Давайте посмотрим на политическую обстановку второй половины 16 века, пришедшуюся на период правления Ивана IV, которого все обиженные им впоследствии нарекли Грозным. А что заставило его быть Грозным?
Как правило, первых «обиженных» любым власть имущим надо искать среди родственников, ибо во власть, как водится, не по бескорыстию и чистой любви, стремятся)). Это та еще династическая «пестня» у всех народов и во все века: в узлах свадеб и женитьб сталкиваются корыстные интересы многочисленных линий имущественных кланов (прим.: имущество + власть=еще больше имущества)).
Посмотрим на родственников:
Генеалогия Ивана IV по мужской линии (от Карамзина)

P.S.: Кстати, цифровая часть титула — IV — впервые была присвоена Ивану Грозному Карамзиным в «Истории государства Российского», так как он начал отсчёт от Ивана Калиты. До этого в историографии он считался Иоаном I Васильевичем.
Но по этой «мужской» схеме родственники не видны. А вот по «женской» - видны.
Генеалогическое дерево Ивана Грозного по женской линии

Но сначала немного коснемся биографии великого князя Ивана III – деда Ивана Грозного, чтобы понять, кто тут «понаехал»)).
Дедушка Ивана IV: Иван III. Он родился 22 января 1440 г. в семье внука Дмитрия Донского великого князя московского Василия II Темного и серпуховской княжны Марии Ярославны. Его детство пришлось на трудные времена феодальной войны двух ветвей потомков Дмитрия Донского: галицких князей (второго сына великого князя Дмитрия Ивановича Юрия Дмитриевича и его сыновей Василия Косого и Дмитрия Шемяки) и единственного сына великого князя Василия I Василия II Темного (про их семейную жизнь – см. в посте /2/).
В ходе этой борьбы было пролито немало крови: Василий II неоднократно изгонялся из Москвы, терпел постоянные поражения и, в конце концов, был ослеплен и оказался в заточении в Угличе, а затем был переведен на удел в Вологде. В 1447 г. Василий II окончательно утвердился в Москве, а в 1452 г. провозгласил своего старшего сына Ивана Васильевича своим соправителем с титулом великого князя. Тем самым, с родовым наследованием великокняжеского престола было покончено, и отныне он стал передаваться по прямой линии от отца к старшему сыну, что и происходило (за редким исключением) в московской великокняжеской (а затем царской) семье вплоть до царя Федора Ивановича.
Иван Васильевич постепенно привлекался к государственным делам и ходил в самостоятельные военные походы (поскольку его слепой отец уже не мог сам командовать великокняжеской ратью). К 22 годам, когда умер Василий II, Иван III был уже опытным и уверенным в себе в государственным деятелем, который начал методично и кропотливо создавать единое Российское государство и завершать процесс объединения русских земель вокруг Москвы, который к 1485 г. был в основном закончен (остатки самостоятельности сохранили только Псков и Рязань), удельная система (в урезанном виде) просуществовала чуть дольше, до времен Ивана Грозного.
Среди государственных забот первого государя «всея Руси» проблема престолонаследия была одной из самых важных, поскольку от этого зависела дальнейшая внешняя и внутренняя политика Московского государства. Иван III к концу своего правления создал большую семью, точнее сказать, их было две, поскольку он был женат дважды.
В первый раз Иван Васильевич женился, еще будучи только наследником престола. Его первой женой стала тверская княжна Мария Борисовна, на которой он женился, по традиции того времени, очень рано в возрасте 12 лет (в 1452 г.). Отцом Марии Борисовны был великий князь тверской Борис Александрович, хитрый и осторожный правитель, при котором Тверь уже признала старшинство Москвы, но при этом сохраняла свою самостоятельность и переживала последний период своего взлета. При сыне Бориса Александровича Михаиле Борисовиче (шурине Ивана III) в 1485 году Тверь вошла в состав Московского государства.
Версия об отравлении первой жены Ивана III имеет под собой какие-то основания. Прежде всего, похоронили ее очень поспешно, буквально через два дня после смерти, 24 апреля 1467 г. в женском Вознесенском монастыре в Кремле, где в допетровскую эпоху хоронили великих княгинь и цариц, жен представителей династий московских Рюриковичей.
Возникает вопрос, кому была выгодна смерть "кроткой и смиренной" молодой великой княгини, если она действительно была отравлена? О действиях некой придворной группировки, которая хотела подыскать Ивану III новую невесту говорить не приходится, поскольку во второй раз он женился только в 1472 г. Остается предположить, что в великокняжеской семье был скрытый конфликт между свекровью и невесткой, Марией Ярославной и Марией Борисовной. В некоторых московских источниках первый брак Ивана III преподносился как навязанный Василию II великим князем тверским Борисом Александровичем в критических условиях борьбы против Дмитрия Шемяки, исход которой тогда был еще неясен.
Международная ситуация, в которой оказался Иван III, была несколько другой, чем в эпоху расцвета «Киевской Руси». В то время европейские монархи считали для себя престижным выдавать своих дочерей за представителей династии Рюриковичей, а разница в вере (правильнее сказать, в религии = идеологии того времени) особой роли еще не играла.

Однако в период строительства Российского государства и его постепенного «освобождения от ордынской зависимости» (вот этот термин требует дальнейшего прояснения историками – кто от чего освобождался, если ТМИ не было?!! /2/), католические государи Европы уже не хотели связывать себя узами родства с православными московскими правителями.
Да и православных иноземных принцесс практически не осталось (если не считать дочерей молдавских и валашских господарей), поскольку Балканы полностью оказались под властью Османской империи, Византия также прекратила свое существование в 1453 г., а ее столица Константинополь стала столицей Османской империи - Стамбулом. Однако при папском дворе в Риме жила семья одного из братьев последнего византийского императора Константина XI Палеолога - морейского деспота - Фомы, которого турки изгнали из своих владений (у него были дочь Зоя и сыновья Андрей и Мануил).
Вдовство Ивана III после смерти первой жены продолжалось 5 лет. Второй женой Ивана III и стала та самая византийская принцесса – Зоя/Софья Палеолог.
Брак с племянницей последнего византийского императора для Ивана III мог идеологически обосновать преемственность власти московских государей от византийских императоров и поднять престиж Российского государства на международной арене. С другой стороны, папство, помимо очевидных материальных выгод (избавиться от обузы содержания морейских Палеологов), рассчитывало и на идеологические (признание русской церковью Флорентийской унии 1439 г. и возможное распространение католицизма в Московском государстве). По версии московских летописцев, прежде чем принять предложение папы о сватовстве к морейской принцессе, Иван III советовался со своими ближними боярами, матерью Марией Ярославной и митрополитом Филиппом, и только получив их одобрение, отправил русских сватов в Италию к папскому двору.
Бабушка Ивана IV: Софья Фоминична Палеолог (ок. 1455 — 7 апреля 1503) — великая княгиня Московская, вторая жена Ивана III Великого, мать Василия III, бабушка Ивана IV Грозного. Происходила из византийской императорской династии Палеологов, племянница последнего императора Византии Константина XI Палеолога. Софья Палеолог по национальности была гречанкой (ее мать: Екатерина Дзаккария - дочь последнего латинского князя Ахейского. Ахейское княжество было последним государством крестоносцев на территории современной Греции - Чентурионе Дзаккариа).
Родилась она спустя несколько лет после взятия османами Константинополя. Сначала ее нарекли Зоей. После завоевания турками Мореи семейство правителя (ее отца) было вынуждено искать прибежища в Риме. Бывший деспот был вынужден отказаться от православной веры и вместе со своими близкими перейти в лоно католической церкви, чтобы получить расположение и защиту Папы. Именно тогда Зоя и обрела новое имя — Софья.
Устройством судьбы Софьи занимался Виссарион Никейский, который был папским кардиналом и мечтал об объединении всех христиан под единой властью Рима. Когда кардинал узнал, что овдовевший правитель Московии Иван III хочет вновь жениться и занимается поиском невесты, он принял решение предложить ее в жены Великому князю. Виссарион Никейский полагал, что благодаря этому браку русская земля окажется в подчинении у Папы. Тот факт, что Софья принадлежит к католической вере, от будущего мужа папские представители скрыли.
1 июня 1472 г. в базилике апостолов Петра и Павла в Риме состоялось заочное обручение великого князя московского с его невестой. Ивана III замещал Иван Фрязин. Согласно, итальянским источникам того времени, «гостьей» на обручении была супруга правителя Флоренции Лоренцо Великолепного - Клариче Орсини. Папа Сикст IV, помимо подарков, выделил Зое Палеолог приданное в 6 тыс. дукатов. 24 июня невеста с большим обозом и свитой, в сопровождении Ивана Фрязина, выехала из Рима.
Зою также сопровождал кардинал Виссарион Никейский, на которого была возложена реализация далекоидущих планов папского престола. В свите Зои Палеолог находились: греки Юрий и Дмитрий Траханиоты, впоследствии ставшие видными русскими дипломатами эпохи Ивана III, ученый монах Кассиан Грек, будущий основатель Кассианова Учемского монастыря, Димитрий Палеолог Рало (Дмитрий Ралев), также будущий русский дипломат, папский легат Антонио Бонубре и архитектор Антон Фрязин (Антонио Джиларди), племянник Ивана Фрязина. Это был первый подобный европейский десант в Московию. Регулярные же посещения/переезды начались уже в начале XVI века (прим.: перечисленные фамилии из свиты относятся к известнейшим кланам т.н. потомков «Вавилонских жрецов», о которых в своих лекциях говорили Вальтер Аваков и Владимир Ануфриев /3/ - и это была очень важная византийская инъекция в российскую элиту, не говоря уже о клане Ховриных-Головиных, ставших наследственными казначеями при царском дворе).
12 ноября 1472 года Иван и Софья повенчались. Приданым Софьи Палеолог была легендарная «либерия» — библиотека, привезённая будто бы на 70 подводах (больше известная как «библиотека Ивана Грозного»). Она включала в себя греческие пергаменты, латинские хронографы, древневосточные манускрипты, среди которых были неизвестные поэмы Гомера, сочинения Аристотеля и Платона и даже уцелевшие книги из знаменитой Александрийской библиотеки.
Едва успев оказаться на русской земле, новоиспеченная московская Великая княгиня заявила кардиналу, который ее сопровождал к мужу, что она отказывается от католической веры в пользу православной. Для папского кардинала такое решение подопечной стало неприятным сюрпризом, поскольку его планам подчинить Московское государство Папе римскому не суждено было сбыться без ее поддержки. Тем не менее, историки приписывают Софье Палеолог авторство (скорее, продвижение) концепции «Москва — третий Рим», которая в то время не находила применения в государственной практике Московии из-за опасности превращения России в оружие западных государств. И сопротивлялся этому Иван III: ведь объявление Москвы наследницей Византии сразу сталкивало ее с османской империей, что и являлось целью католического мира. Кроме того, считается, что именно при ней в гербе князей Московских появился двуглавый орёл. Может быть это и не ее рук дело, но этот «след» в истории закрепили именно за ней)). Можно сказать, что католическая идейная инфекция в государственный организм Московии была тем самым внесена, и задуманный разворот политики произошел при ее внуке – Иване IV.
Второй брак Ивана III вскоре привел к стремительному росту великокняжеской семьи. От Софьи Палеолог у великого князя родились сыновья Василий (1479-1533) (будущий великий князь московский Василий III), Юрий (1480-1536), Дмитрий (1481-1521), Семен (1487-1518) и Андрей (1490-1537) и дочери Елена (1476-1513), Феодосия (ок. 1485-1501) и Евдокия (ок. 1482-1513) (они пережили родителей). В детстве умерли дочери Анна, Елена и Феодосия.
Судьба детей Ивана III и Софьи Палеолог сложилась по-разному. Дмитрий и Семен стали удельными князьями калужским и углицким, и умерли бездетными (из-за запрета старшего брата Василия III на их женитьбу). В заточении умерли Андрей, Старицкий князь, и Юрий, Дмитровский князь. Сын Андрея Владимир Старицкий, двоюродный брат Ивана Грозного, долгое время возглавлял оппозиционную первому русскому царю боярскую группировку и стал последним русским удельным князем. Елена вышла замуж за великого князя литовского и польского - короля Александра, Евдокия стала женой пленного казанского царевича Худа-Кула (Петра Ибрагимовича), Феодосия - видного московского воеводы князя Василия Холмского.
Во время нашествия ордынского хана Ахмата на Москву в 1480 году источники восхваляли решительное поведение наследника престола, первого сына Ивана III - Ивана Молодого, которому было поручено командование русскими войсками во время "стояния на Угре". Когда великий князь несколько раз требовал от сына приезда в Москву, он заявил, что лучше умрет в бою, чем поедет к отцу. В тот момент, вероятно, отношения наследника с мачехой Софьей Палеолог, которая была старше него всего на три года, были уже напряженными, поэтому в его окружении, оппозиционном великой княгине, вполне могла родиться версия о его храбрости и мужестве в противовес нерешительности (если не трусости) его отца и мачехи. По официальной версии событий, великий князь пробыл в Москве всего три дня, а затем выехал к войскам. "Стояние на Угре" закончилось полным поражением ордынцев, которые вынуждены были отступить. Господство Орды над русскими землями подошло к концу, а ее осколки (Казань, Астрахань, Сибирь, Крым, ногайские земли) постепенно были присоединены к Московскому государству, а затем к Российской империи.

Династическая борьба в московской великокняжеской семье продолжалась с 1477 до 1502 гг., т.е. практически до конца правления Ивана III. На первом этапе конфликта боролись придворные партии Софьи Палеолог и наследника престола Ивана Молодого, на втором этапе - группировки старшего сына Софьи Палеолог Василия и семьи Ивана Молодого (его сына Дмитрия и вдовы - Елены Волошанки).
Современные исследователи считают, что на стороне Софьи Палеолог были служилые люди (боярские дети, будущие дворяне) и дьяки - чиновники активно формирующегося при Иване III центрального государственного аппарата (Государева Двора и дворцовых ведомств), а на стороне Ивана Молодого и его семьи - старомосковское боярство и боярско-княжеская аристократия (бывшие удельные князья и их потомки), входившие а ближайшее окружение великого князя (Боярскую думу - князья Шуйские, Мстиславские, Одоевские, Патрикеевы, Ряполовские, бояре Морозовы, Захарьины и т.д.). Этот конфликт (чиновничества и дворянства, и боярско-княжеской аристократии) продолжался и при преемниках Ивана III и закончился при Петре I полной победой чиновничества и дворянства.
Династический конфликт проходил на фоне бурных внутриполитических и внешнеполитических событий (ересь "жидовствующих", борьба церковных партий иосифлян и нестяжателей, ликвидация удельной системы, две русско-литовские войны, обострение ситуации на северо-западных и юго-восточных границах Московского государства и т.д.). События развивались в духе шекспировских хроник или даже лихо закрученного детектива.
В конечном итоге верх одержала группировка Софьи Палеолог, а ее противников ждала трагическая участь. Официально право престолонаследования принадлежало старшему сыну Ивана III, рожденному от первой жены. София же хотела, чтобы правителем стал ее сын Василий. Стараниями своей матери (ее византийских интриг!) он таки получил отцовский престол.
Троице-Сергиев монастырь хранит древнюю реликвию — шелковую пелену, на которой Софья сама вышила свое имя. Интересным фактом является то, что назвала себя правительница «царевной Царегородской», вместо того чтобы написать «великая княгиня». И начиная с Софьи, все русские правители стали себя называть царями (от византийских кесарей). Что это, как не продвижение идеи «Москва – третий Рим»?
А в 1514 г. русский правитель Василий III заключил с правителем Священной Римской Империи договор, в котором подписался «Императором русов» (!). Это было первым в истории разом, когда правитель Руси был назван этим титулом. На основании именно этого документа позже Пётр I доказал свое право быть коронованным Императором.
Мать Ивана IV: Елена Васильевна Глинская — вторая жена государя «всея Руси» Василия III, мать царя Ивана IV Грозного, регентша на время его малолетства с 3 декабря 1533 года и до своей смерти в 1538 г.
В Москву девушка попала в 1508 году после бегства родителей из Литвы из-за неудачной попытки переворота (?!). До изгнания Глинские владели городами и землями на территории нынешней Левобережной Украины (!).
В эти времена, как отмечает историк А.Пыжиков /5/, московские элиты активно пополнялись так называемыми «выезжанцами» - представителями Великого княжества Литовского, состоявшего из полонизированных земель, включая и украинские (т.н. «Киевская Русь»). Прибывавшая оттуда знать со своею обслугой в Московии считалась исключительно своей - породненной греческой православной верой. Очередная клановая инфекция в российские элиты.
«По официальной трактовке (романовских историков), большинство населения Московии – это прямые потомки «Киевской Руси», чьи жители после «татарского нашествия» уже в массовом порядке переселились на северо-восток. Волна этих «высокоразвитых» переселенцев растворило местное население, сформировав новую общность. С этой точки зрения Литва могла только оздоровить государственный организм Московии, избавляя от «ненавистной всем татарщины». В ответ на эту (романовскую) историографическую идиллию нужно напомнить о «могучем литовском заде», обращенном к нам с Запада. В конце XIV-начале XV веков именно с помощью «братской» Литвы немцы и поляки пытались подмять наши земли. Однако Московскому княжеству в лице Василия Васильевича (Василий Темный - внук Дмитрия Донского) удалось выдержать натиск» (А.Пыжиков) /5/.
Елена была дочерью князя Василия Львовича из литовского рода Глинских и его жены Анны Якшич, которая была родом из Сербии. По родословной легенде, которая присутствует в ряде частных родословцев, Глинские ведут происхождение от Мамая, «коего на Дону побил Дмитрий Иванович Донской. Однако отношение к этой версии происхождения Глинских уже в XVI веке было критическим; вероятно, поэтому она не попала в Государев родословец, хотя Глинские и состояли в родстве с Иваном Грозным. По другой версии, Глинские могли происходить от Ольговичей (одной из ветвей Рюриковичей) (прим.: короче, историкам доподлинно ничего не известно, поэтому пока происхождение можно считать довольно мутным. Хотя гены генами, а менталитет воспитанием/средой определяется. Елена же была из полонизированной Литвы).
В 1526 году Елена Глинская была выбрана невестой великого князя Василия III, который развёлся (по навету заинтересованных) с первой женой Соломонией Сабуровой по причине отсутствия у неё детей. Историк Герберштейн сообщал, что великий князь настолько стремился понравиться своей новой избраннице, что даже сбрил бороду на европейский манер, чем вызвал ужас у консервативно настроенного общества. Свадьба состоялась 21 января 1526 года. На момент бракосочетания Елене было примерно 17-18 лет, а Василию III почти в три раза больше. В дальнейшем она сопутствовала мужу, объезжавшему монастыри Новгородской земли и Вологодского края. Сопровождала мужа 21 сентября 1533 года в богомольческой поездке в Троице-Сергиев монастырь, после которой он скончался.
Елена родила Василию двоих сыновей — Ивана (1530) и Юрия (1532). В 1533 году она овдовела и согласно воле мужа и его завещанию вступила в управление государством при малолетнем великом князе — будущем Иване Грозном, совместно с опекунским советом, назначенным Василием III перед смертью.
А в декабре 1533 года Елена Васильевна фактически совершила переворот, отстранив от власти семерых опекунов (регентов), и сделалась правительницей Русского государства. Таким образом, она стала первой, после великой княгини Ольги, правительницей единого Русского государства.
Как женщина не московских, а скорее литовских нравов и воспитания, Елена Глинская не пользовалась симпатиями ни у бояр, ни у народа. Ближайшим союзником Елены был женатый фаворит-любовник, князь Иван Фёдорович Овчина Телепнев-Оболенский. Эта связь, и в особенности заносчивое поведение любимца правительницы, вызывали неодобрение у бояр. За выражение этих настроений князь, ее дядя, Михаил Глинский был посажен племянницей в тюрьму. И дядя, и два брата мужа (тоже из опекунского совета при Иване IV) умерли в этой тюрьме от голода.
При ней в 1534 году начали копать глубокий ров от Неглинной, кругом посада. Работы производились всеми обывателями без исключения, кроме бояр и детей боярских («исключительные», тсз). По окончании работ иностранным архитектором около рва заложена Китай-городская стена с четырьмя башнями и воротами, образовавшая таким образом Китай-город.
Одним из наиважнейших моментов внутренней политики Глинской являлось проведение денежной реформы в 1535 году, по которой ликвидировались права удельных князей на чеканку собственной монеты, и на территории Руси была введена единая монетная система (по сути, была введена финансовая монополия. А кем? Кстати, кто был казначеем при Е.Глинской историкам вообще неизвестно: традиционно эту должность занимали представители рода Ховриных-Головиных. В 20-х — начале 30-х гг. XVI в. казначеем был Петр Иванович Головин. Последний раз в известных источниках он упоминается с этим чином в декабре 1533 г., а новый казначей, Иван Иванович Третьяков (двоюродный брат П. И. Головина), впервые упоминается в этой должности 6 июля 1538 г. Так что период казначейства 1533-1538 – «дело темное»)).
Весной 1538 года великая княгиня скончалась от отравления ртутью (прим.: то, что ртуть была причиной смерти – доказано, а вот то, что ее специально отравили –пока спорят очень «заинтересованные» потомки! А чего спорить-то? - Говорят, в тогдашней косметике – белилах - ртуть содержалась… Вопрос: в стране только она одна косметикой пользовалась?), и была погребена в Вознесенском монастыре.
Антимосковский фронт
К правлению Ивана III осколком прежнего антимосковского фронта оставался Великий Новгород с его боярско-олигархическим правлением, устроенным по польским образцам. В городе заправляли порядка 40 знатных фамилий, среди коих выделялись: Борецкие, Лошинские (к ним принадлежала известная Марфа-посадница), Шенкурские и др. Большим влиянием пользовался также немецкий квартал с сильными позициями торгового союза «Ганзы». Ферраро-Флорентийская уния 1439 года с папством резко обострила отношения Новгорода с Москвой, вылившиеся в боевые действия.
Местная олигархия приветствовала унию с латинянами, рассчитывала сохранить «вольности», не принимала автокефалии (самостоятельности) московской церкви. Так что военный союз с польским королем Казимиром, направленный против Василия Васильевича, а затем и молодого Ивана III, был не лишен религиозной подоплеки. Конфликт разрешил молниеносный рейд Великого князя - 14 июля 1471 года в битве при реке Шелони наголову разбившего противника. Боярская верхушка подверглась репрессиям, причем, что показательно, с ней поступали как с иноверцами, а мольбы местного архиепископа о помиловании успеха не имели. Новгород навсегда обязывали порвать с католической и греко-униатской Литвой, а немецкий квартал в городе был закрыт.
Новгородский погром окончательно довершил расстановку сил: прямые литовско-польские военные выпады против крепнущей Москвы прекратились. Теперь инициатива прочно перешла к Ивану III, стремившемуся к выходу к Балтийскому морю, а территориальный рост увеличивал контролируемые государством ресурсы.
В этой ситуации магнаты и шляхта меняют тактику в отношении усиливающегося соседа - именно с последних десятилетий XV века увеличился поток «выезжантов» к великокняжескому столу. Объясняется это не только жаждой личного обогащения или кормления, но и продуманной политикой по "мягкому" овладению восточного соседа. Оседавшие в Московии «выезжанты» проводили скоординированные действия в верхах, укрепляя свои позиции изнутри. Иначе говоря, на смену литовско-польской внешней экспансии пришли кадровые инъекции в московские элиты под личиной службы и заверений в преданности. Такая тактика реализовывалась и при Василии III, и при Иване IV. Когда при последнем наступил форс-мажор, то «преданные» слуги предпочли уносить ноги, дабы не попасть под карающий меч самодержца, предусмотрительно объявленного психопатом.
Но до этого «форс-мажора» (=опричнины) наплыв полонизированной публики шел полным ходом. Иллюстрацией служит пример потомков литовских Гедиминов – князей Милославских. Впервые они объявляются в Московии в 1514 году: глава этого семейства перешел на службу к Василию III, рассчитывая на богатый удел. Но… обломилось, и через год «верный слуга» бежит обратно на родину. Вскоре там у него происходит конфликт с собственным отпрыском из-за имущественного дележа. В 1526 году уже обиженный сын Федор выезжает в Московию, где под клятвы о готовности служить ему выделяют вотчину в Ярославском уезде (Юхотское владение).
Но и сыночек, обидевшись на самодержца за то, что мало дал, бежит обратно в Литву. Его хватают на границе и помещают в тюрьму. Спасло его от дальнейшей отсидки только рождение у Василия III наследника – Ивана IV. Объявляется амнистия, и Федора Милославского выпускают на волю)). Обращает на себя внимание быстрое восстановление утраченных им позиций после освобождения - этому активно поспособствовали другие «выезжанты», уже прочно освоившиеся в верхах (диаспора, тсз!) - такие, например, как семья Глинских!!
Кстати, родной брат Елены Глинской – Михаил, ярый приверженец польско-литовской культуры, слыл известным международным авантюристом (как, впрочем, и братец Софьи Палеолог, торговавший правами на Византийский престол направо и налево, и умерший нищим), но его сумели пристроить на видное место в великокняжеском дворе. К концу правления Василия III недостатка в литовско-украинской публике вокруг трона не было: Оболенские, Палецкие, Микулинские, Гедеминовичи – Щеняевы и Голицыны, Одоевские, Лятцкие, Трубецкие, Стародубские, Ромодановские, Вишневецкие и др. (об иноземных кланах в российской элите - см. /4/).
Все они составляли костяк клана, спаянного общностью представлений о том, как нужно вести русскую государственную политику. Естественно, образцом их жизне-устройства всегда оставалась Польша и ее окрестности в лице Литвы с Украиной (т.н. «Киевской Руси»). Их сильно не устраивала утвердившаяся на то время в Московии поместная система (*).
Прим. (*): Поместная система в Русском государстве XV и XVII веков — это порядок служилого землевладения. В основе системы лежало поместье — участок казённой (государственной) земли, данный государем (великим князем, царём) в личное владение служилому человеку под условием службы. Поместье было одновременно наградой за службу (государственную, в основном - военную) и источником материального дохода, с которого владелец поместья снаряжал себя для походов (отсюда слово – помещик). С прекращением службы поместье возвращалось пожалователю земли — князю или в монастырь. Эта практика была очень схожа с турецкой. Юридические основы поместной системы были закреплены в Судебнике 1497 года.
В противовес этому они откровенно превозносили боярские (олигархические) порядки, считая их оптимальными для управленческой практики. Именно эта «шайка-лейка», имевшая вполне польско-литовскую физиономию, дорвалась до власти после смерти Василия III в период опекунства малолетнего Ивана IV его матерью Еленой Глинской и ее любовника Ивана Телепнева-Оболенского. Они по факту приватизировали поместья. Отравление Е.Глинской, возможно, явилось следствием борьбы опекунов у трона. После ее смерти в 1538 году пал и фаворит. Произошла перегруппировка в верхах. В этих интригах принимали участие не только члены про-литовского «клана», но и известный боярский род Шуйских, игравший заметную роль в политических раскладах.
Чувствительный разгром клана произошел после пожара Москвы в 1547 году, в поджоге которой этот клан обвинила народная молва, либо конкуренты)). Тем не менее, нельзя сказать о полном разгроме польско-литовского клана, т.к. в дальнейшем московский трон все-таки занял ближайший родственник Глинских (по матери) - Иван IV.
Однако…
Иван IV: В этом же году впервые в русской практике «венчался на царство» подросший Иван IV, что натолкнулось на неприятие Польши, Литвы и их 5-й колонны в России, которые ни под каким предлогом не хотели именовать московского великого князя царем. Попытку обуздать разгул верхов и предпринял этот молодой царь. Для этих целей в феврале 1549 года он созвал первый Земский собор (вроде большого совещания, в котором были представлены все слои московского общества, кроме крестьянства). Речь Ивана IV в адрес бояр прозвучала в укоризненно-обвинительном тоне - массовые беспорядки в ходе пожара и народный гнев на погрязшую в безудержном обогащении верхушку побудили его одернуть бояр. Бояре молили о прощении и одновременно просили об очередных «пожалованиях».
Итогом этих событий стало принятие нового Судебника, состоявшего из 100 глав (т.н. Стоглавый Судебник). Фактически он стал подновленной редакцией Судебника 1497 года, которая декларировала «править по старинке», и: оградить население от произвола кормленщиков, ликвидировать всякие «обидные дела». Для этого отменялся «боярский суд наместников», представлявший собой высшую инстанцию, а судебные функции передавались в центр. И это было очень сильное ограничение самоуправства бояр-олигархов (по сути – феодалов-рабовладельцев).
При Иване IV происходит зримый разворот политики Московии на восток. Напомним, что Турция к тому времени (правление Сулеймана Великолепного) завладела юго-восточным углом Европы и намеревалась продвигаться дальше. Это стало общеевропейской угрозой. Поэтому западные державы и Ватикан уже давно пытались, начиная с женитьбы Ивана III на Софье Палеолог, столкнуть лбами Россию и Турцию. Камнем раздора между ними и должна была выступить историческая миссия Москвы, как преемницы Византии. Именно к этому полонизированный (литовско-украинский) клан и толкал Ивана IV. Тем самым геополитические «пешки» продолжали играть партию за Ватикан. И сейчас хохлы «играют» за ЗАПАДлянцев, самоубиваясь в борьбе с Россией за интересы своих заказчиков!!
Исторические источники свидетельствуют, что в те времена немало приказных и государевых слуг на местах являлись мусульманами: Саид-Булат господствовал в Касимове, царевич Кайбула – в Юрьеве, Ибак – в Сурожике, князья ногайские – в Романове и т.д. Эти представители элит, тесно сплетенные с разнообразным населением страны, никогда не признали бы первенство тех, кто не имел корней в низах обширной Московии. В будущем задача романовских историков состояла в том, чтобы выставить уроженцев восточных регионов чужеземцами, а литовско-польскую публику – якобы коренными, родней, тсз.
В эти же годы с Польшей заключают мир и даже вдруг возвращают завоеванные ранее Полоцк и Стародуб. Одновременно снаряжают несколько военных походов на Казань, завершившихся ее падением в 1552 году. Затем царем берется Астрахань в 1556. На этом фоне наконец-то возникает напряженность с Османской империей, к чему про-польские родственнички и подталкивали молодого царя. Они таки втянули его в несвойственную стране антитурецкую геополитику – т.е. концепция «Москва – Третий Рим» наконец заработала!!
Но политическая обстановка стала вдруг резко меняться. Иван IV уклоняется от дальнейшего вооруженного конфликта с Османской империей и на удивление 5-й колонне развязывает войну с Польшей и Литвой, известную как Ливонская война. Одним из поводов стал отказ Ливонского ордена (см. карту выше) от признания «Юрьевской дани», установленной в далекие времена Иваном III за Юрьев (Дерпт, Тарту) и давно ими позабытой. Требование об ее уплате Польша и Литва сочли оскорблением. Кроме того, согласованная позиция Ганзы и Ливонии по недопущению Москвы к самостоятельной морской торговле на Балтике привела царя Ивана к решению начать борьбу за подчинение Ливонии.
В стане 5-й колонны это обострение в планы не входило. Положение она пыталась выправить в 1560 году, когда скончалась (видимо, ей помогли) первая любимая супруга царя – Анастасия Романова (**). В новые жены сватали сестру польского короля! Но эта интрига потерпела поражение, и государь вступил в брак с Марией Темрюковной – уроженкой Кавказа, что не понравилось польско-литовскому элементу. В истории Московии назревали грозные события.
(**) Прим.: «В учебниках не рассказывают, как англичане травили Ивана Грозного. Долгие годы его придворный лекарь Елисей Бомелия, связанный с британской разведкой через купца Ричарда Ченслора травил царя ртутью. Когда его арестовали, Елисей Бомелия в этом признался. И болезнь-смерть любимой первой жены, царицы Анастасии в 1560 году, после 13 лет брака, были вызваны тоже отравлением. Так считал и сам Иван Грозный. Таково и заключение современных учёных, в 2000 году проводивших исследование останков Анастасии. Спектральный анализ сохранившейся тёмно-русой косы царицы показал аномально высокое содержание ртути - излюбленного оружия отравителей этой эпохи. По этой же причине скончался и сын Ивана Грозного – Иоан. Об этом свидетельствует вскрытие гробницы царевича Иоанна Иоанновича в Архангельском соборе Московского Кремля, произведенное в 1963 году, и последовавшие медико-химико-криминалистические экспертизы останков царевича. Превышение в 32 раза допустимого содержания в останках ртути, в несколько раз мышьяка и свинца неопровержимо свидетельствуют, что царевич Иоанн скончался в результате отравления солями ртути, мышьяка, свинца. Экспертиза также установила отсутствие каких-либо следов крови на волосах царевича. Никакого "сыноубийства" не было, а скончался царевич Иоанн в результате отравления» /6/.
Вот после этого Иван IV стал Грозным. «Грозным» также именовали и его деда – Ивана III. Но тот был грозным в смысле непримиримости к врагам, т.е. чужим. А вот внук проявил свирепость к «своим»! Кровавые события, именуемые опричниной, давно приобрели нарицательное значение. А первопричины случившегося справедливо объясняются окончательным подрывом системы уделов и обновлением верхов, предпринятым по инициативе царя.
А.Пыжиков /5/: «в боярской верхушке в преддверии опричнины присутствовал заметный литовско-украинский сегмент. В качестве своего лидера эта элитная группировка рассматривала породненного с ними через Глинских Ивана IV… Безоговорочное собственное лидерство, создание нужной экономической модели, реформирование церкви – вот те конечные цели, которые планировалось продавить с помощью царского трона. Весь XVI век казалось, что события медленно, но верно, развиваются по такому сценарию… Не будет преувеличением сказать, что Ивану IV готовилась миссия, которую во второй половине XVII века осуществил уже представитель новой династии в лице Алексея Михайловича Романова. Однако Иван IV поступил иначе, с ненавистью обрушившись на тех, кто возлагал на него столько надежд…».
Конфликт царя с литовско-украинским окружением нарастал с начала Ливонской войны. Быстро выяснилось, что начались предательства и переходы этих кадров на сторону противника, т.е. в Польшу. Видимо, в Московии они проживали на роли ино-агентов)). В литературе побег князя Андрея Курбского в июне 1564 года подают как событие, именно после которого началась опричнина. На самом деле побег был последней каплей перед ее началом. Крупные измены происходили и ранее: так Иван Бельский (прим.: наместник, боярин и воевода, глава Боярской думы во времена правления Ивана IV. Из княжеского рода Бельские, Гедиминович) пытался бежать в Вильно и даже обзавелся охранной королевской грамотой. По той же причине был арестован двоюродный брат царя – князь Василий Глинский (он обладал военными секретами, знал о разговорах в боярской думе) – его предательство могло доставить немало проблем.
Череду побегов продолжил князь Дмитрий Вишневецкий (волынский магнат, владел обширными землями в Кременецком повете, с 1551 г. - староста Черкасский и Каневский Великого княжества Литовского): ему удалось добраться до короля, который принял его как родного)). Кстати, когда побеги не удавались, за вельмож часто заступался не кто иной, как митрополит Макарий, а после его кончины – митрополит Афанасий. После взятия Полоцка последний слишком рьяно хлопотал о литовских военнопленных, чем привел царя в негодование. В подобной атмосфере эффективность боевых действий не могла быть высокой.
Всякому терпению приходит конец!! Старт был дан 3 декабря 1564 года, когда царь внезапно направился в село Коломенское под Москвой. Этот отъезд не напоминал прежние – Иван IV взял с собой иконы и кресты вместе с казной (!!!) и прислал в адрес митрополита список, где указывались боярские измены и убытки, причиненные государству, начиная аж со времен его несовершеннолетия. Приехавшая делегация от бояр урегулировать конфликт не смогла – в ответ государь потребовал покарать виновных, имения их отобрать в пользу государства (национализировать приватизированное), учредив для этого особый удел – опричнину! Это уже означало полный разрыв с прежним окружением царя. Кроме того, он обвинил церковь и лично митрополита Афанасия в покрывании предателей.
Когда-то на одном из интервью Путина спросили: «что он считает самым страшным проступком в жизни человека?», и он ответил: «предательство! - это самый страшный смертный грех»!! Грех, который вбирает в себя все остальные грехи. Очевидно, так же считал и Иван IV. И боролся с ним он абсолютно безжалостно.
Все эти события хорошо описаны в литературе – их традиционно квалифицируют как вероломство с изрядной долей умственного помешательства (***). Эсхатологический гнев Ивана Грозного обратился не просто на боярскую аристократию, а в первую очередь на представителей литовско-украинского происхождения. Ведь те не прекращали плести интриги, поддерживая связь с командующим польскими войсками А. Полубенским. Были даже перехвачены письма самого короля к видным боярам с предложением схватить царя в ходе поездки по прифронтовой полосе и доставить в Польшу. Это просто потрясло Ивана Грозного!!! Об этом «маститые» в своих трудах не писали!! А почему?
(***) прим.: Главные симптомы этой болезни отравления ртутью — глубокие депрессии, хроническая бессонница, сильно угнетенное состояние, мания преследования, психическое расстройство, выражающееся в бурных и буйных приступах, чрезвычайно опасных для окружающих. Эти приступы действительно происходили, и могли быть вызваны «эффектом шляпника» (ртуть использовалась при выделке фетра для шляп и этой болезнью страдали люди этой профессии - см. «Алиса в стране чудес») под воздействием регулярного отравления ртутью.
А.Пыжиков /5/: «Более внимательный просмотр данных о жертвах опричнины обнаруживает избирательность репрессий. Возьмем репрезентативную выборку синодиков опальных, опубликованную советским историком с дореволюционным стажем С.Б. Веселовским. Из нее следует – что около 30-40% репрессированных - выходцы из Новгорода и Пскова. Из оставшихся почти половина, т.е. еще треть – литовско-украинские выходцы и их слуги.
К примеру, Горенский (ветвь Оболенских), пойманный при бегстве в Литву и казненный вместе с 50 приближенными. Далее – Друцкой, Заряжский, Желнинский, Дубровский, Дашков из смоленской шляхты и т. д. … Михаил Воротынский из рода Михаила Черниговского, разнообразные потомки Ягайло, каких-то австрийских князей. Немало родственников подобной публики отправлено в ссылку в восточные районы страны – в Поволжье. Число погубленных в опричнину, чьи имена известны, около четырех тысяч человек….
Удар изначально нацеливался на вымывание прежде всего полонизированных литовско-украинских кадров, сконцентрированных в элитах. В народных низах того времени их просто не существовало. Отсюда ограниченность опричнины, затронувшей лишь правящие слои. Сам народ сохранил об Иване Грозном самую светлую память как о справедливом царе….
Опричнина знаменовала не только устранение названной публики, но и приток во власть новых лиц. С этой целью действовала (специальная кадровая) комиссия, которая рассматривала кандидатуры, вела расспросы о родстве, друзьях, о покровителях. Условие карьерного продвижения – отсутствие каких-либо связей с опальными. По результатам отбора было выдвинуто около шести тысяч человек, занявших различные (государственные) посты…»
Осенью 1565 года опричнина впервые вывела собственные боевые отряды на театр военных действий Ливонской войны. С этого момента и до середины 1570 года важнейшие посты, в том числе должности опричных «командармов», получала главным образом нетитулованная знать. На самом верху опричной пирамиды — и в Думе, и в армии — стояло семейство Плещеевых. Точнее говоря, рода Плещеевых-Басмановых и Плещеевых-Очиных. Среди опричных полководцев заметны были также В. И. Колычев-Умной и Я. Ф. Волынский-Попадейкин. Все они — из старинных боярских родов.
Немало почестей досталось и титулованной знати. Ведь к ней относились не только знатнейшие семейства, как, например, князья Бельские, Шуйские, Мстиславские, Ростовские, Голицыны, Микулинские. Хватало и второстепенных родов, коим недостаток знатности и влияния мешал высоко подняться. Иван IV подарил им шанс.
Так, в опричнину попали двое отпрысков княжеского семейства Телятевских. Этим князьям Телятевским царь отдавал под команду опричные полевые соединения. Они даже соперничали с самими Плещеевыми! Возглавлять самостоятельно действующие отряды и полки в составе полевых соединений приходилось князю И. П. Охлябинину, князю Д. М. Щербатову, князьям Вяземским и Хворостининым, а также Г. О. Полеву, происходившему из семейства, недавно утратившего княжеский титул. В опричных боярах ходили князья В. И. Вяземский и В. А. Сицкий, а окольничество в опричнине пожаловали князю Д. И. Хворостинину. Эта группа оказалась второй надежной опорой Ивана IV в высшем эшелоне опричнины /7/.
На государственную арену выходят Юсуповы, причем им даже не пришлось переходить из ислама в христианство (православие). Возвышаются далекие от литовско-украинской обоймы Годуновы, Щелкановы, Клешнины, Вылузгины, Басмановы и др.
Новый кадровый расклад зафиксировал уже Земский собор 1566 года (из 357 участников более половины – новые имена), твердо высказавшийся за продолжение Ливонской войны. В рамках огромного Московского государства с его мощными вооруженными силами эта замена — мелочь, статистически ничтожное отклонение. Но для незыблемого порядка, когда родовое начало при назначении на командные посты преобладает над служебным, когда «отечество» (назначение по крови) преобладает над опытом, заслугами и даже над желанием государя возвысить какого-либо незнатного человека, это почти революция.
Романовская же историография (т.н. «маститые») негативно оценивала произошедшую «кадровую революцию», когда на место «выдающихся добрых мужей» пришли «наполненные злым духом»)). В это же время в народе «беса» представляли в образе «ляха»-поляха, а Литву часто именовали поганой)).
А.Пыжиков /5/: «Но годы опричнины, помимо всего прочего, характеризовались сближением с англичанами. Кроме дарования льгот, права свободно вести торговлю, ездить в Персию – им поручалось искать и выплавлять железную руду, обучать местных мастеров различным промышленным искусствам. Кстати, торговое представительство английских купцов размещалось в опричном ведомстве (в Александровской слободе)».
И Иван Грозный, как и его дед, понимал значение индустриализации для развития страны! Теперь европейские предпочтения Ивана Грозного не распространялись на Польшу и ее литовско-украинские окрестности. Это объяснялось тем, что в формирующейся в ту эпоху мировой экономике место Польши было специфично: сырьевой придаток более развитых держав. Местная шляхта оказалась совершенно не адаптирована к промышленно-техническому строительству и мало им интересовалась. Ее приоритеты главным образом концентрировались на экспорте зерна, леса и рыбы, и на импорте промтоваров и предметов роскоши из Западной Европы. Этим и исчерпывалась экономическая модель, продвигаемая польским истеблишментом. Рост доходов магнатов и шляхты зависел от контроля над ресурсами: чем больше ресурсов, тем больше доходы. В этом смысле обширная Московия с ее природными богатствами выглядела настоящим эльдорадо, и ляхи пытались отвести ей роль дополнительного сырьевого огорода при Польше/Литве.
Литовско-украинские «слуги великого князя», оседавшие у нас в стране, нацеливались на воспроизводство привычной для них хуторской экономической модели. Вот этому-то сценарию и попытался бросить вызов Иван Грозный.
+++
Продолжение будет в следующих постах… (это я иду навстречу критике читающих по поводу слишком длинных статей ????)
По материалам:
/1/ «Династическая борьба в московской великокняжеской семье…»https://pikabu.ru/story/dinast...
/2/ «Мамай, это - генерал Власов средневековья!» https://cont.ws/@nata_urieva/2...
/3/ «Минус 21-й век… Вавилонские жрецы-олигархи и персидский спецназ))» https://cont.ws/@nata_urieva/2...
/4/ «Спит в Донском монастыре русское дворянство» https://cont.ws/@nata_urieva/2...
/5/ А.Пыжиков «Славянский разлом», изд.-во «Концептуал», 2024
/6/ «Подлый британский почерк»https://cont.ws/@nata_urieva/2...
/7/ Дмитрий Володихин «Кадровый поворот в опричнине»https://history.wikireading.ru...
/8/ Дмитрий Белоусов «Оболганный царь Иван Грозный или „Клевета на великого русского царя как инструмент информационной войны” https://cont.ws/@becas/2494581







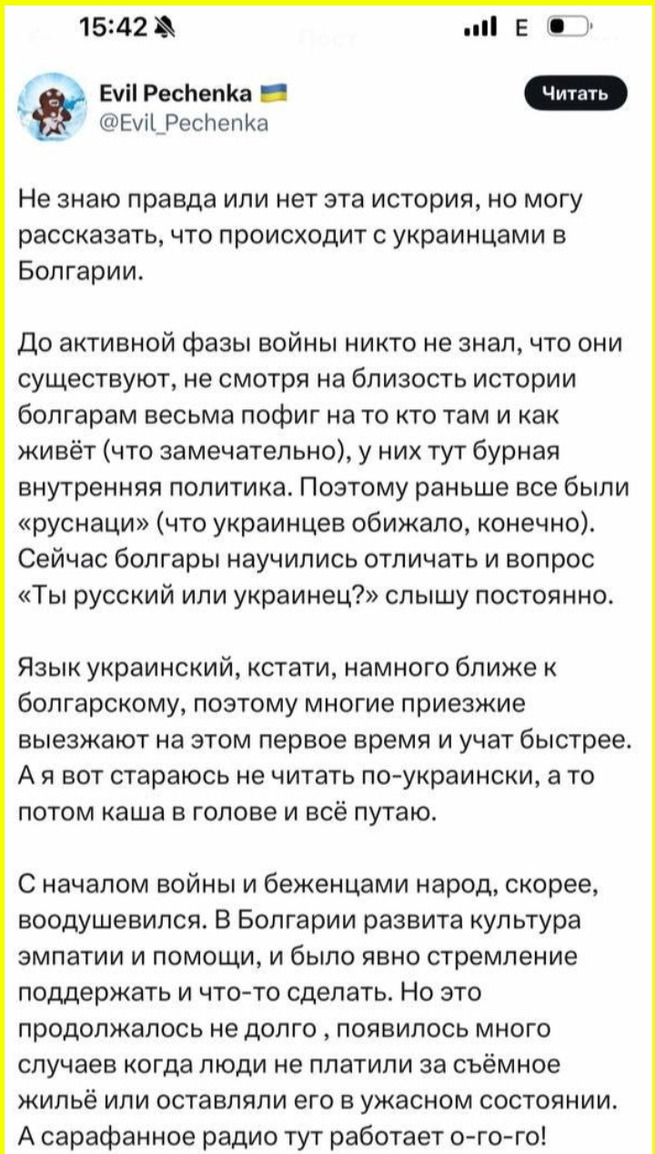
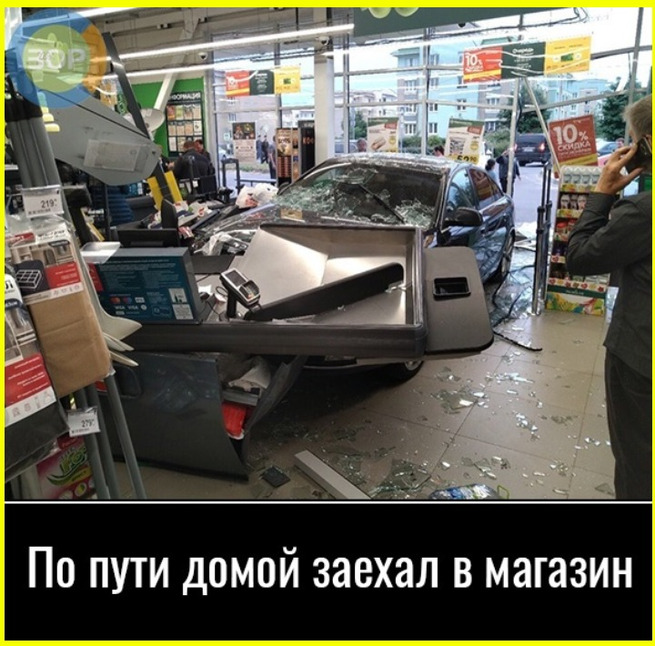





Оценили 33 человека
56 кармы