3. Бэсы.
В десятые годы обильно расцветает критика марксизма. Буржуазные социологи (далее для краткости – бэсы) подменяют действительный классовый антагонизм не столь существенными для естественноисторического общественного развития противоречиями между "стратами".
Бэсы связывают появление страт с неравенством, которое делит людей по доходам, образованию и власти. Следовательно, если страты когда-либо появились, то это тоже историческое явление, которое когда-то должно исчезнуть. Но у бэсов эти "страты" - вечные. Откуда неравенство, - неважно; есть мужчины и женщины – есть неравенство! Таков по существу псевдонаучный вывод бэсов, из которого следует, что человеческое общество обречено на неравенство и на стратификацию, основанную на неравенстве. Чем «сложнее» общество, тем больше социальное неравенство, и так будет всегда, утверждают, по существу, бэсы. Оказывается, нет антагонистических классов – буржуазии и пролетариата, есть класс богатых (верхний и нижний слои), трехслойный средний класс и двухслойный низший (бедный) класс. В «открытом» обществе – социальная мобильность, никакой классовой борьбы, бедный становится богатым, общество превращается в почти сплошной «средний класс»! Недостаток этой замечательной социологии один: она как бы признает объективную эволюцию буржуазного общества, но «доказывает» несостоятельность социалистической революции, а потому спекулятивна, то есть идеалистическая, ненаучная, скрывающая истину. Бэсы относят людей в ту или иную страту по четырем признакам: доходы, власть, образование, престиж. Само по себе ущербное, такое деление, насаждаемое в общественном сознании, есть не что иное, как мелкобуржуазность, нам всем присущая по причине существующего товарно-денежного распределения, которую Энгельс называл буржуазной «респектабельностью»; именно эта «респектабельность» - идеал бэсов в их теориях «среднего класса». Объективная ценность их исследований, которые сводятся к различным опросам определенных групп населения и к «стратификационной» интерпретации результатов этих опросов, заключается в том, что эти исследования дают некую картину расслоения по доходам внутри буржуазии и пролетариата. Исходя из того, что относительно низкие доходы, обрекающие пролетариев на жизненные лишения в экономическом, культурном и политическом смысле, порождают протестные настроения, эти исследования с одной стороны указывают на потенциально революционные «страты» внутри пролетариата, а с другой – позволяет буржуазному государству наносить упреждающие удары (как правило, в виде обещаний или каких-либо подачек).
«Выяснилось, что всего 5,2% респондентов оценивают взаимоотношения между классами в нашем обществе как дружественные; 31% считают их конфликтными, а 63,8% - нейтральными… Величина «конфликтной» группы возрастает и по мере роста уровня профессионального образования…Противоположная тенденция проявляется в зависимости от экономического статуса: чем ниже материальный уровень жизни респондентов, тем чаще они считают отношения в обществе конфликтными. В результате мы можем заключить: дискомфортно себя чувствуют, т.е. считают общество антагонистическим, конфликтным, самые образованные и самые необеспеченные».
Но важно не то, какое количество респондентов считает буржуазное общество антагонистическим, а то, что это общество является антагонистическим объективно. Классовый антагонизм существует в буржуазном обществе независимо от сознания людей, но признание этого факта пролетарской интеллигенцией (образованные и необеспеченные) имеет исключительное значение.
Стремление бэсов «отодвинуть» частную собственность и классы на «задний план» - спекулятивная уловка, призванная опровергнуть выводы исторического материализма о развитии общества. Несостоятельно также понятие «политический класс», которое обозначает по существу осуществляющую власть бюрократию господствующего класса и оппозицию этой власти. Получается ведь, что все люди, которые так или иначе участвуют в борьбе за место у руля в буржуазном государстве, якобы представляют собой некий отдельный от общества класс, не содержащий никаких действительно классовых признаков. Между тем, очевидно, что любая группа лиц во власти в буржуазном государстве - это буржуазики.
Эволюция капиталистической частной собственности к обобществлению и «менеджерская революция» вовсе не означает исчезновение эксплуататорских классов, хотя это есть прорастание социалистических общественных отношений в рамках капитализма, закономерное с точки зрения исторического материализма. Бюрократия (менеджеры) стремится использовать чужую частную собственность в своих интересах, но не отменяет эксплуатацию пролетариата. Но уже эти явления свидетельствуют, что известные тенденции развития капитализма действуют; капитализм изменяется, нарастают определенные количественные изменения, ведущие к революционному переходу в качественно другую, социалистическую, систему общественного производства.
Бэсы не устают вопить об «ошибочности» марксизма. Доказательством служат не факты общественной практики, а бэсовская спекулятивная интерпретация этих фактов, тем самым вновь и вновь извращается научная истина. Не произошло обнищания пролетариата, напротив его благосостояние повысилось, говорят бэсы. Кстати, совсем недавно они утверждали (П.Сорокин), что люди столетиями не становятся богаче, а имеют место лишь «флуктуации». Марксисты никогда не отрицали закономерное повышение стандартов жизни всех классов, в том числе и пролетариата по мере развития производительных сил. Это абсолютное повышение уровня жизни. Но важнейшее значение имеет не абсолютное, а относительное обнищание трудящихся на фоне баснословного обогащения капиталистов. Этот факт общественной практики подтверждает объективную научную истину марксизма. Не выдерживает критики и бэсовская интерпретация фактов о снижении численности пролетариата, его зарплате и революционности. Чтобы судить об этом, надо определиться, кого бэсы относят к пролетариям, а поскольку бэсы от этом помалкивают, то ясно, что мы имеем дело со спекуляцией. Сегодня пролетарии – это не только рабочие, это все люди, отчужденные от собственности на средства производства, - именно этим определяется их социальное положение. При абсолютном росте номинальной заработной платы пролетариев, неуклонно снижается относительная и реальная заработная плата. Эти факты общественной практики тоже подтверждают объективную научную истину марксизма.
Излюбленная тема спекуляций бэсов – «средний класс», термин, придуманный ими для обозначения (и искусственного объединения в отдельный «класс») получающей относительно небольшие доходы буржуазии и относительно высокие для пролетариата доходы «рабочей аристократии». Это ярко выраженная мелкобуржуазная социальная среда, представителей которой капитализм устраивает. Ясно, что это не дает оснований выделять какой-то слой буржуазиков в отдельный класс. «Средний класс - стабилизатор общества… Средний класс - самый широкий потребительский рынок для мелкого и среднего бизнеса… Средний класс никогда не выступает против существующего строя…» - восклицают бэсы. Еще бы. «Респектабельность» (мелкобуржуазность) определенной части населения всегда были «стабилизатором» буржуазного общества, контрреволюционной силой.
Некоторые исследования бэсов не лишены интереса. Например, бэсы установили: - "В США средний класс - это класс, живущий в кредит. У него хорошие дома, личные автомобили, престижная работа, но жизнь в рассрочку - это жизнь с известной степенью риска. В СССР средний класс жил от зарплаты до зарплаты, но никакого риска ни остаться безработным, ни не заплатить за жилье не существовало... ". - " В 50-60 -е годы самая высокая мобильность в мире существовала только в США и СССР». - «...С суждением о том, что можно перешагнуть через некоторые нормы морали, если стремишься преуспеть, согласились 54,9% зажиточных и 13,9% бедных. … Таким образом, вырисовывается интересная закономерность: чем богаче человек, тем с большей готовностью он может переступить нравственные нормы». - «Если большинство населения поддерживает идею передела собственности в форме конфискации в пользу государства неправедно нажитых состояний, то в составе собственно среднего класса это соотношение выглядит прямо противоположным образом: 61,2% против передела собственности, а 38,8% - за. Тем самым, хотя и не все представители среднего класса удовлетворены своим материальным положением и социальным статусом, все же их стремление к сохранению стабильности в обществе и преемственности в развитии реформ перевешивает опасный соблазн нового передела собственности». - « Средний класс политически и идеологически нейтрален: ни коммунистическая, ни либеральная, ни националистическая доктрины не находят в нем сколь-нибудь серьезной поддержки».
Последний вывод, впрочем, является несостоятельным: «нейтральность», аполитичность есть важная черта мелкобуржуазности, выгодная для капитализма как общественного строя и его государства; эта же черта в советском человеке способствовала реставрации капитализма. Таким образом «средний класс» вовсе не нейтрален, он мелкобуржуазен, поражен буржуазной идеологией. Политическая «нейтральность» является буржуазной доктриной.
Представляют определенную ценность и исследования бэсов вопроса о бедности. Хотят этого бэсы, или не хотят, но эти исследования подтверждают правоту Маркса и Энгельса: буржуазное общество необходимо порождает относительную бедность большинства трудящихся, и только ликвидация капиталистических отношений устраняет эту необходимость. Бэсы, изучая бедность, вовсю спекулируют и словами, и цифрами. Например, они утверждают: «Повышение уровня жизни составляет приоритетное направление социальной политики в развитых странах, в том числе в России». Из чего это следует, не говорят. На самом деле социальная политика буржуазных государств направлена на углубление различий между пролетариями, чтобы не допустить их единства в борьбе за коренные классовые интересы, за уничтожение частной собственности. Ведь относительная бедность – это удел пролетариев. А вот пример спекуляции цифрами: «В 30-е годы XIX века только треть англичан относилась к бедным, а через 50 лет - всего 15%. Сегодня масштаб бедности в Великобритании снизился до 10%. В прошлом бедность была уделом большинства, а сегодня – меньшинства». Тут же бэсы вынуждены признать: «В СССР к бедным относилось скорее меньшинство населения, однако позже, после <шоковой терапии> 1992 г., бедными оказались большинство людей». Или это: «Тогда как порог бедности в США составляет 10 тыс. долл., среднедушевой доход в год в Бангладеш не превышает 120 долл., в Бутане 100, на Гаити 330, а в Мали 130 долл. … Более 1 млрд. жителей стран «третьего мира» живет в бедности, имея доход ниже 370 долл. в год».
« Богатство … рассматривается как справедливое вознаграждение за то, что в течение жизни человек не проматывал свои деньги, а сберегал их, считал каждый доллар, вкладывал свои сбережения в нужные компании, вел умеренный образ жизни, стремился сделать карьеру. Если общество, устроенное на таких принципах неравенства, позволяет честному человеку стать богатым, по мнению большинства американцев, оно является справедливым. Иными словами, справедлива его социальная структура и справедливо индивидуальное вознаграждение в виде крупного выигрыша». Иными словами бедные должны быть бедными. Классовое экономическое и политическое неравенство, эксплуатация одного класса другим, когда вся тяжесть экономических кризисов перекладывается на беднейшие слои пролетариата, заменяется «справедливостью»: богат тот, кто считает и сберегает каждый доллар. Таково мнение большинства американцев, а это очень много значит для бэсов, неважно, как обстоит дело в действительности.
Характеризуя элиту буржуазного общества как самостоятельный правящий класс, бэсы искажают истину, выставляя некую касту, состоящую на службе у буржуазии, в качестве класса. Иное дело – высшая бюрократия («номенклатура») в СССР, которая действительно в особых исторических условиях заняла особое место в системе общественного производства, находилась в особом отношении (хотя и не оформленному в законах) к средствам производства, играла особую роль в общественной организации труда, отличалась особыми способами получения и размерами той доли общественного богатства, которой она могла располагать, - то есть, действительно превратилась в самостоятельный класс.
Не борьба и циркуляция элит приводят к социальным изменениям, а наоборот, социальные изменения ведут к смене элит. В буржуазном обществе смена одной буржуазной партии в правительстве на другую не устраняет капиталистическую систему, наоборот, изменения в этой системе (например, нарастание массового недовольства правительством) выносят на вершину власти иную буржуазную партию. «Властвующая элита» не что иное, как группа лиц, осуществляющая политическую власть в интересах экономически господствующего класса. В общем, верно, что эта элита пополняется за счет нее самой. Но неверно, что «богатство рождает богатство, следовательно, бедность рождает бедность». Вероятность увеличить богатство выше у богатых, но как раз наличие бедных есть непременное условие наличия богатых. Поэтому, наоборот, бедность пролетариев порождает богатство буржуазии, а увеличение богатства буржуазии – углубление бедности пролетариата. «Несомненно, в распоряжении элиты находится значительная часть средств производства (земля, вода, пастбища, денежный капитал, фермы и фабрики). Те же, кто родился на низшей ступени иерархии, имеют лишь небольшой шанс на то, чтобы повысить свой статус в результате социальной мобильности. Поскольку всеми правами собственников обладает элита, обычные люди не имеют свободного доступа к ресурсам…. В США она составляет 0,5% населения, владея 35% национального богатства. Сходное положение наблюдается и в современной России.» Такова на самом деле «мобильность» «открытого» буржуазного общества. Тут и добавить нечего.
Размышляя про десятые годы текущего века, нетрудно заметить: есть солидные победы капитала. Например, империалистам удаётся поддерживать состояние непрерывной войны, а это существенная победа империализма: ведь известно, что без войн он, так сказать, неполноценный. Собственно говоря, его без войн пока не бывало.
Так вот, десятые годы века текущего чем-то похожи на тридцатые годы века минувшего. Как и в те времена, империалисты используют в своих классовых интересах экстремистские общественные движения. Тогда они вынашивали и поддерживали фашизм в надежде на его "блицкриг" против СССР. Теперь совершенно так же вынашивают и поддерживают исламизм. На риторику здесь обращать внимание не следует: и антифашистской риторики было достаточно. Но в прошлом веке американские, английские и французские империалисты малость просчитались: у немецких фашистов имелись собственные интересы. Есть собственные интересы и у исламистов. Так что, играя с ними, империалисты США и НАТО тоже наверняка неприятности получат. (И получали уже, но надежда использовать исламистов оказывается сильнее). Исламистов роднит с фашизмом многое. Называется всё по-другому, а суть та же. Что "тысячелетний рейх", что "всемирный халифат", - не всё ли равно, учитывая те дикости, которые демонстрируют исламисты? Исламисты уже представляют собой довольно массовую и агрессивную силу, подогреваемую религиозным фанатизмом. Ясно, что империалисты надеются использовать эту силу в своих классовых интересах. Вначале - исламистские перевороты в светских государствах. Потом агрессия против России, Китая или других стран как бы с целью насаждения ислама, а на деле - с целью решить империалистические классово-геополитические задачи.
Что в итоге? Изменить естественноисторический процесс смены общественно-экономических формаций невозможно, но его можно затормозить, несмотря на «ускорение истории», поддерживая соответствующую тенденцию и препятствуя противоположной. Господствующие классы не раз пользовались и продолжают пользоваться этой возможностью. Ярким примером является вторая мировая война, как попытка империализма силой остановить социальный прогресс, а когда эта попытка не удалась, - более эффективной в новых условиях оказалась «холодная война». Но очевидно, что только глобальная катастрофа, гибель человеческой цивилизации способна остановить естественноисторический процесс замены капитализма коммунистической общественно-экономической формацией. Глобальные проблемы возникли, во-первых, потому что производительные силы планеты значительно опередили общественные отношения; во-вторых, потому что «побудительные мотивы» тех, кто «командует» производительными силами, - капиталистов, - противоположны интересам тех, кого они эксплуатируют. Неравномерность развития разных народов не повлекла бы глобальные проблемы, если бы не капитализм. Общественные отношения так отстали от производительных сил планеты потому, что капитализм пытается сохранить себя, препятствуя естественноисторическому процессу, тормозя его войнами, неоколониалистской политикой, поддержкой контрреволюции, лицемерной и лживой идеологией, коммерциализацией культуры и насаждением ложных «ценностей», использованием в своих классовых целях достижений науки и техники, идеализмом философии и прочими ухищрениями.
Стало быть, теории бэсов отражают объективную эволюцию капитализма, прорастание в его недрах новых общественных отношений, для которых обузой становится капиталистический характер производительных сил.
Что же, самое время подумать о будущем.



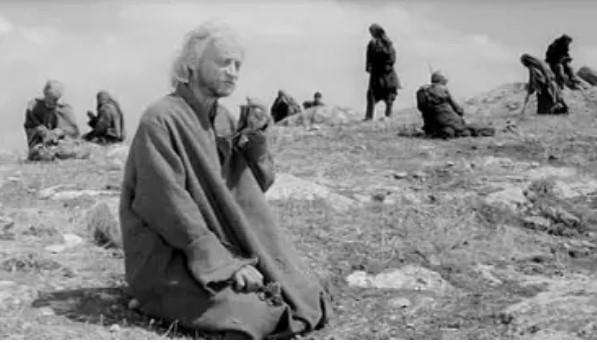

Оценили 0 человек
0 кармы