Говорят, у потерявшего зубы только свободнее язык.
А может быть стены Иерихона пали просто потому, что в городе слишком сильно дули в фанфары.
Овладел наукой, но не оплодотворил ее.
Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобождает.
После общения с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности.
Всегда боюсь за святых – как бы их не разорвали на реликвии.
Страшнее всего - моральная грязь, она обычно ведёт к кровавой бане.
У каждого века своё средневековье.
Многие встречали ёмкие сатирические высказывания великого гуманиста XX века Ежи Леца. Однако многие ли знают об авторе крылатых выражений?
*******************
Люди всегда ценили ёмкое и выразительное слово, оформляющее собой небанальную, острую мысль. Меткая, к тому же ломающая стереотип рутинного мышления фраза живёт порой дольше сотен страниц манускриптов или печатных изданий. Так, скажем, славу великого мыслителя эллинского мира Сократа, ни единой письменной строчки которого не дошло до потомков и о взглядах коего мы судим по произведениям его учеников Платона и Ксенофонта, поддерживает знаменитое уничижительно-вызывающее изречение этого мудреца:
«Я знаю только то, что я ничего не знаю»,
подчёркивающее относительность любого человеческого знания. «Отцом» классического афоризма бывал иногда и вовсе не профессионал-философ: из тони реки забвения Леты людская память спасла имя римского императора Октавиана Августа, жившего на рубеже дохристианской эпохи и новой эры и давшего нам практичный во все времена совет:
«Festina lente»(«Торопись медленно»).
Случалось в истории и так, что какая-то «крылатая» мысль опошлялась ее назойливым тиражированием, использованием ни к селу, ни к городу — в недавние времена нашего топорного агитпропа анонимный лозунг
«Знание — сила»,
фигурировавший даже на спичечных этикетках, хотя и не подтверждавшийся достойным материальным вознаграждением, воспринимался как дежурный призыв в кампании по ликбезу, тогда как при жизни его автора сэра Фрэнсиса Бэкона (1561—1626) он прозвучал как откровение убеждённого рационалиста («Knowledge is power»).
Ренессанс возродил в памяти европейцев чеканные строки великих поэтов античности — Горация, Овидия, Вергилия и породил своих творцов, ставших мудрыми наставниками человечества — Данте, Шекспира, Сервантеса... Просветители и романтики сделали искусство афоризма важной сферой интеллектуальной и духовной борьбы с суевериями, косностью и предрассудками. Д. Дидро и Ж.-Ж. Руссо, Ж. Лабрюйер и Ф. Ларошфуко, Ф. Шатобриан и А. Ламартин, И. В. Гете и Ф. Шиллер в своих высказываниях о современной им эпохе и вечных проблемах бытия дали людям замечательные образцы глубокого постижения жизни, ее закономерностей и парадоксов. В XIX веке государственные и политические деятели, дипломаты, военные стратеги, экономисты и социологи — Наполеон Бонапарт, Ш. Талейран, К. Клаузевиц, О. Бисмарк, К. Маркс, Ф. Энгельс и др. — сформулировали идеи и доктрины долговременного исторического действия.
Славянская Европа и Россия устами своих великих мыслителей и моралистов от Я. Гуса и Я. А. Коменского, А. Б. Мицкевича и Ц. К. Норвида до Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского — закрепили богатейший духовный и нравственный опыт этой семьи народов в изречениях и сентенциях, вошедших в золотой фонд мировой афористики. Русской культуре принадлежит и заслуга создания сатирического образа, псевдофилософа, самодовольно вещающего пустопорожние банальности Козьмы Пруткова, апокрифического «любомудра», озвучивавшего иронические фразы, написанные братьями Жемчужниковыми и А. К. Толстым. XX век, как, пожалуй, ни одно из предшествующих столетий, превратил борьбу идей в кровавые битвы людей, в насильственное насаждение монопольных идеологий, обслуживавших тоталитарные режимы. Именно поэтому так характерно для него было унылое начётничество, долбление затвержённых на все случаи жизни сакраментальных цитат, ощущение цензурного «намордника», напяленного на людей искусства и науки.
И как раз на изломе века, во второй половине 1950-х годов, в литературе появился автор, которого часто называют «последним классиком афоризма», «гением сатирической метафоры». Даже в англоязычном мире, где его знали только по переводам, популярность изречений этого острослова и остроумца была беспримерной: во время XVII сессии Организации Объединенных Наций делегат США Эдлай Стивенсон процитировал одно из них в своём выступлении, слегка изменив его звучание, тогда Генеральный Секретарь ООН У Тан, включив микрофон, поправил докладчика, точно произнеся текст в его английской версии. Автором упомянутого высказывания был польский поэт, сатирик и философ Станислав Ежи Лец (1909—1966), а книгой, откуда его почерпнули, являлся знаменитый сборник афоризмов «Непричесанные мысли».
Станислав Ежи Лец родился 6 марта 1909 г. во Львове, крупном культурном центре польской Галиции, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи. Отец будущего писателя, родовитый австрийский дворянин Бенон де Туш-Летц (второй частью его двойной фамилии в ее польском написании пользовался автор «Непричёсанных мыслей») умер, когда сын был еще ребенком. Его воспитанием занялась мать урождённая Аделя Сафрин, представительница польской интеллигенции, высоко ценившей образование и культуру. Польская, немецкая (австрийская) и еврейская составляющие его духовной личности на разных этапах жизненного пути писателя то гармонизировались ярким художественным дарованием, то вступали друг с другом в драматическое, порой мучительное противоречие. Начальное образование он получал в австрийской столице, так как приближение фронта (шла Первая мировая война) заставило семью переехать в Вену, а затем завершал его во Львовской евангелической школе. Получив в 1927 г аттестат зрелости, юноша изучает в дальнейшем юриспруденцию и полонистику в университете Яна Казимежа во Львове.
В эту студенческую пору он начинает литературную деятельность, сойдясь с коллегами, живо интересующимися творчеством. Весной 1929 г. молодые поэты устроили первый в их жизни авторский вечер, на котором прозвучали и стихи Леца, а в конце того же года в литературном приложении к популярной тогда газете «Ilustrowany Kurier Codzienny» (Иллюстрированный Ежедневный Курьер) было напечатано его дебютное стихотворение «Весна». «В нем говорилось, ясное дело, о весне, — пояснял Лец спустя годы, — но это не была традиционная весна, по настроению эти стихи выглядели ... пессимистическими. А почему я выбрал именно «IКС» Это издание выписывали и читали в нашем доме, а я хотел прослыть поэтом прежде всего в семье».
Уже тогда воспитанный на лучших образцах мировой гуманистической культуры и ощущавший себя ее духовным питомцем, Станислав Ежи Лец сделал выбор важнейших для него жизненных ценностей, какими он считал достоинство и права человека — как отдельной личности, так и состоящей из личностей массы. Борьба словом и пером писателя с властью, покушавшейся на них, а тем более — их попиравшей, стала главным содержанием его, по этой причине полной трудностей и испытаний, жизни.
Эти убеждения естественно привели его в ряды левой творческой интеллигенции. В 1931 г. группа молодых поэтов, встречавшихся у Леца на квартире, начала издавать журнал «Тгуbу» (Наклонения), в первом номере которого он опубликовал стихи «Из окна» и «Плакат» (в последнем две завершающие строфы были выброшены цензурой). Тираж же второго номера издания почти полностью уничтожила полиция. В 1933 г. во Львове выходит первый поэтический томик Леца «Barwy» (Цвета).
В нем преобладали поэмы и стихи острого социально-политического звучания: оставшаяся кошмарным воспоминанием его детских лет Первая мировая война навсегда сделала поэта страстным антимилитаристом. В дебютном сборнике помещено стихотворение «Вино», полное мрачной и горькой иронии. Человеческая кровь, пролитая на множестве фронтов Европы во имя ложных догматов и националистических крестовых походов, кровь разных поколений и народов уподоблена им ценным винам урожайных лет, которые надо бережно хранить, чтобы предотвратить новые кровавые жатвы из окрестностей «Пьяве, Танненберга, Горлиц»:
было много крови в Европе, было крови что воды
на той войне за цивилизацию
забыли набрать ее в бутылки как молодое вино мы
отыщи теперь ошибку в калькуляции
В «Цветах» были также оглашены первые юмористические и сатирические фрашки Леца (польская разновидность стихотворной миниатюры-эпиграммы, жанр, культивируемый творцами национальной поэзии от жившего в XVI веке Яна Кохановского до наших дней). Эту грань художественного дарования молодого поэта проницательно подметил и высоко оценил Юлиан Тувим — крупнейший мастер польского рифмованного слова того времени, включивший в свою знаменитую антологию «Четыре века польской фрашки» (1937) три стихотворения недавнего дебютанта.
Фрашка Леца — ближайшая родственница его будущих «непричёсанных мыслей». Здесь те же объекты сатирического осмеяния, та же упругость иронических формулировок — констатаций нравственных проблем:
Я помню много милых лиц И нахожу в том утешенье.
Теперь их нет уже в живых,
Они пошли на повышенье.
( «Воспоминания »)
Гораздо легче расширить фронт,
Чем умственный горизонт.
(«Легче»)
Переехав в Варшаву, Лец регулярно публикуется в «Варшавском цирюльнике», становится постоянным автором «Шпилек», его произведения помещают на своих страницах многие литературные журналы во главе со «Скамандром». В 1936 г. он организовал литературное кабаре «Teatr Kretaczy» (Театр Пересмешников). «Наш маленький театрик, вспоминал Лец, — дал всего 8 представлений. Тогдашние власти выдумывали самые невообразимые предлоги, чтобы его закрывать. Откопали, например, предписание, запрещающее нам пользоваться „настоящей сценой”, в связи с чем мы собственными руками и топорами развалили всю конструкцию сцены, оставив только подиум. Не скажу, чтобы хозяин этого зала был восхищён нашими преобразованиями. Наконец, пришлось закрыться. Почему? Потому что в глазах властей мы неизменно представляли какую-то опасность. Литературное руководство театром я осуществлял совместно с Леоном Пастернаком, мы писали также тексты песен, эстрадные монологи, скетчи, комментирующие актуальные события. Актёрами были студенты и безработные рабочие».
В этот период он начинает сотрудничать с варшавской газетой «Dziennik Popularny» (Популярный Ежедневник) — политическим изданием, пропагандировавшим идею создания антифашистского народного фронта, в котором публиковалась его ежедневная судебная хроника, вызывавшая особое раздражение «блюстителей порядка». После приостановки властями издания газеты, чтобы избежать грозившего ему ареста, Лец выехал в Румынию. Спустя некоторое время он возвращается на родину, крестьянствует в деревне на Подолье, служит в адвокатской конторе в Чорткове, затем, вернувшись в Варшаву, продолжает литературную и публицистическую деятельность.
Перед самой войной он завершает подготовку к печати обширного тома фрашек и подольской лирики под названием «Ziemia pachnie» (Пахнет землёй), но выйти в свет книга уже не успела.
Начало войны застало Леца в его родном городе. Об этом страшном (и героическом) этапе своей жизни он рассказал позднее в нескольких скупых строчках автобиографии: «Пору оккупации я прожил во всех тех формах, какие допускало то время. 1939— 1941 гг. я провёл во Львове, 1941—1943 гг. — в концлагере под Тернополем. В 1943 году, в июле, с места предстоявшего мне расстрела я сбежал в Варшаву, где работал в конспирации редактором военных газет Гвардии Людовой и Армии Людовой на левом и правом берегах Вислы. Потом ушёл к партизанам, сражавшимся в Люблинском воеводстве, после чего воевал в рядах регулярной армии». Здесь рассказано далеко не обо всем, что довелось изведать и совершить молодому писателю, но о чем известно читателям его стихов и воспоминаний боевых товарищей Леца. При повторной попытке бегства из концлагеря он был схвачен и приговорён к расстрелу. Эсэсовец заставил обречённого на смерть рыть себе могилу, но погиб сам от его удара лопатой по шее (стихотворение «Кто копал себе могилу»). Переодевшись в немецкий мундир, Лец в таком виде пересёк всю Генеральную Губернию, как гитлеровцы именовали захваченную Польшу, и, добравшись до Варшавы, установил контакт с силами сопротивления и стал работать в подпольной прессе. В Пруткове редактировал газету «Zolnierz w boju» (Солдат в бою), а на правом берегу Вислы — «Swobodny narod» (Свободный народ), где печатал также свои стихи. В 1944 г., сражаясь в рядах первого батальона Армии Людовой, скрывался в парчевских лесах и участвовал в крупном бою под Рембловом. После освобождения Люблина вступил в 1-ую армию Войска Польского в звании майора. За участие в войне получил Кавалерский Крест ордена «Polonia Restituta» (Возрожденная Польша).
В1945 г., поселившись в Лодзи, Лец вместе с друзьями — поэтом Леоном Пастернаком и художником-карикатуристом Ежи Зарубой возрождает издание популярнейшего юмористического журнала «Шпильки». На следующий год вышел его стихотворный сборник «Notatnik polowy» (Полевой блокнот), включавший стихи военных лет и строфы, посвящённые сражениям партизанской поры и павшим товарищам поэта-солдата. Тогда же был опубликован томик его сатирических стихов и фрашек, созданных перед войной, — «Spacer cynika» (Прогулка циника). «Эти стихи, — писал во вступлении автор, — были написаны и частично оглашались с 1936 года до военного сентября. Стихи беззаботно-весёлые перемешаны здесь с теми, в которых я пытался передать ощущение нарастающей мировой трагедии. Эти небольшие примеры с болезненной очевидностью подтверждают ту максиму, что сатирик, к сожалению, ошибается редко».
Подобно своим старшим коллегам по литературе в довоенное время (Ян Лехонь, Ярослав Ивашкевич) и писателям-ровесникам в первые годы после освобождения (Чеслав Милош, Тадеуш Бреза, Ежи Путрамент), привлекавшийся к дипломатической работе, Лец в 1946 г. был направлен в Вену в качестве атташе по вопросам культуры политической миссии Польской Республики. Вскоре (1948 г.) на родине опубликован томик его сатирической поэзии, созданной после войны, — «Zycie jest fraszka» (Жизнь — это фрашка), а затем (1950 г.) сборник «Новых стихов», написанных в австрийской столице — городе его детства; отсюда в этих стихотворениях так много реминисценций, связанных с новым, свежим восприятием памятников искусства и архитектуры этого вели¬кого центра европейской культуры.
Наблюдая из Австрии процессы, происходящие в Польше того времени, утверждение режима партийной диктатуры, подавление творческой свободы и во-ли интеллигенции, Лец в 1950 году принимает трудное для себя решение и уезжает в Израиль. За два года, проведённых здесь, им написана «Иерусалимская рукопись» (Recopis jerozolimski), в которой доминирует мотив переживаемой им острой тоски по родине. Содержанием этих стихов, сложенных во время странствий по Ближнему Востоку, стали поиски собственного места в ряду творцов, вдохновлённых библейской темой, и неотвязная память об убитых под другим, северным небом. Существование вне стихии польского языка и культуры, вдали от родных и друзей, привычного мазовецкого пейзажа становится мучительно-тягостным:
Туда, на север дальний, где некогда лежал я в колыбели,
Туда стремлюсь теперь, чтоб там же и отпели.
Написав эти строки, Лец в 1952 году вернулся в Польшу и сполна получил от новых властей за демонстрацию своей политической оппозиционности и свободомыслия. В течение ряда лет действует негласный запрет на публикацию его собственных произведений (как это было, скажем, с М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой у нас). Единственной оплачиваемой формой литературного труда становится для него переводческая работа, и он целиком посвящает ей себя, обращаясь к поэзии И. В. Гёте, Г. Гейне, Б. Брехта, К. Тухольского, современных немецких, русских, белорусских и украинских авторов. Но и в этих условиях он отказывается послушно выполнять официальные заказы. «Я перевожу обычно, говорил Лец, — только сочинения, которые выражают как правило, иначе, чем сделал бы это я сам, мысли, волнующие меня».
Мощные общественные выступления поляков в октябре 1956 года, заставившие власти объявить о разрыве с предшествующим периодом «ошибок и извращений», значительно ослабить контроль над идеологией и творчеством, превратили Польшу, по ироническому высказыванию диссидентов, в самый «открытый и свободный барак соцлагеря». Одним из свидетельств перемен и стало возвращение к читателям книг Леца и издание его новых произведений.
Первой из таких прежде задержанных публикаций была «Иерусалимская рукопись» (1956 г.). «Эти стихи, — писал Лец, — завершённые в середине 1952 г., по разным причинам, пролежали в ящике письменного стола вплоть до 1956 г. Я знаю, что это самая лиричная из моих книг. Каждый выпущенный томик является, по крайней мере для меня, спустя некоторое время как бы сочинением другого человека, которое — не стыжусь в этом признаться — читаешь порой даже с интересом. Тогда тебе открываются какие-то новые детали и в стихах, и между строчек».
На гребне польской «весны», «оттепели», в атмосфере радостного освобождения от гнетущего догматизма и сервилизма появляется книга, принёсшая ее автору мировую известность — «Mysli nieuczesane» (Непричёсанные мысли). Спустя несколько лет после ее выхода в свет (1957 г.) Лец признавался: «Я всю жизнь писал фрашки и подозреваю, что это изначально были „вольные мысли“, только насильно заключённые в корсет традиционных форм. Я писал их время от времени — по мере того, как они рождались во мне под воздействием самых разнообразных причин и обстоятельств. За многие годы их набралось много в моих блокнотах и тетрадях, и я подумал о том, чтобы опубликовать эти вещи. Пожалуй, теперь я даже жалею об этом решении, так как они целиком заслонили моё творчество поэта-лирика».
Вскоре появляется и авторская антология «Из тысячи и одной фрашки» (1958 г.), содержащая стихи- эпиграммы, создававшиеся на протяжении всего творческого пути поэта, о связи которого с сатирическим фольклором поляков говорил на примере произведений военной поры сам автор во вступлении к сборнику: «Во время оккупации общество могло убедиться в силе, целесообразности и благородных устремлениях подлинной сатиры, ведь оно само — массово и анонимно участвовало в создании теперь уже исторической оккупационной сатиры. Не знаю, много ли произведений иных литературных жанров устоит перед временем, но думаю, что наши правнуки в учебниках истории наткнутся на многие меткие строки военного сатирического творчества поляков. В этой традиции черпаешь силу. На мой взгляд, сатира, пожалуй, лучше всего отображает истинный профиль прогрессивной части общества своего времени ».
Последние поэтические томики Леца (Насмехаюсь и спрашиваю про дорогу — 1959), «Do Abla i Kaina» (Авелю и Каину — 1961), «List gonczy» (Объявление о розыске — 1963), «Роета gotowe do skoku» (Поэмы, готовые к прыжку - 1964) — отмечены, по свидетельству самого автора, наблюдаемой им у себя «склонностью ко все большей конденсации художественной формы». Это относится и к опубликованному на страницах литературной прессы циклу «Ксении», состоящему из коротких лирико-философских стихотворений, и к серии прозаических миниатюр «Маленькие мифы», форму которых Лец определил как «новый вариантик непричёсанных мыслей с собственной фабулой-анекдотом ».
В 1964 г. появилось второе издание «Непричёсанных мыслей», а через два года поэт успел еще подготовить том «Новые непричёсанные мысли», содержащий огромное богатство тем, среди которых особой популярностью пользовались его историософские афоризмы.
После долгой, неизлечимой болезни, давно сознавая свою обречённость, Станислав Ежи Лец скончался 7 мая 1966 г. в Варшаве.
До конца дней его не покидала ясность сознания и высказываний. Еще за два месяца до смерти он попробовал оценить свой жизненный и творческий путь:
«Был в моей жизни такой период упадка, который доселе является стартовой площадкой моих самых смелых свершений. Когда я чувствую себя особенно усталым от тягот, то мысленно возвращаюсь в эту пропасть, чтобы сила давнего падения вновь вытолкнула меня вверх. Какой там из меня философ? Ведь у меня нет никакой теоретической подготовки в этой области, хотя существуют, впрочем, и мужики-философы. Но я очень недолго носил мужицкую сермягу. Пожалуй, это расчленение моего творчества на философию, лирику и сатиру пахнет педантизмом профессионально-критического разбора. Поэзия имеет разнообразные обличья. В ней есть все, а точнее все должно быть. И каждый находит в ней то, что ищет. Разве что в ней, действительно, нельзя ничего найти. Некоторые придерживаются мнения, что автору труднее всего оценить самого себя. Если это правда, то лишь отчасти, ибо если автор к чему-либо стремится, то может проверить, в какой мере он приблизился к поставленной им (или эпохой) цели. А какими он пользуется мерами и весами, это опять- таки определяется его ощущением времени и перспективы... Что ж, я хотел своим творчеством охватить мир. Эту задачу мне усложнили, расширив его эскападами в космос».
«Непричёсанные мысли» стали вершиной и квинтэссенцией творчества Станислава Ежи Леца. Внутренняя, духовная свобода и интеллектуальная смелость, которые характерны для его высказываний, были особенно поразительны для эпохи подневольных умов и тщательно выверенной степени допустимого критицизма. Недаром один из первых читателей этой книги Ян Юзеф Липский написал, в частности: «Непричёсанные мысли» это самое значительное на протяжении многих лет явление в нашей литературе на современную тему. Лец скептический рационалист — сознательно отказывается от всякого пафоса, а его критицизм заключает в себе больше сарказма, чем проповедничества, что не мешает ему постоянно сопоставлять свои знания о со¬временности, наблюдения, почерпнутые из жизни, с собственной системой моральных критериев и с собственной концепцией человека. «Непричёсанным мыслям» суждено занять заслуженно почётное место среди книг, являющихся не только документом определённого этапа идейного, интеллектуального и художественного прогресса, но и свершением, имеющим непреходящую ценность».
О том, как возникали «Непричёсанные мысли», рассказал сам автор:
"Эти высказывания несут на себе отпечатки пальцев нашей эпохи... Если бы варшавские кафе закрывались на два часа позже, „мыслей” было бы процентов на 30 больше... Как и фрашка, „непричёсанная мысль” возникает сразу, но в форме самой лапидарной прозы. Можно бы, в крайнем случае, назвать это конденсированной эпиграммой. Но нет! Тогда бы ощущалась трудоёмкость работы, рифма и ритм ограничили бы свободу непокорной мысли. Отсюда так много недоразумений, случающихся с нашими авторами фрашек, которые часто насильно стараются зарифмовать то, о чем подумали. «Непричёсанные мысли» записывались в кафе, в трамваях, в парках, ба! — даже в клубе литераторов. Вообще-то, я всегда мыслил таким образом, только врождённая скромность не позволяла отважиться на то, чтобы записывать, а тем более публиковать эти мои „непричёсанные мысли”... Это беседы с самим собой, их можно было бы определить как попытку охарактеризовать явления нашей действительности... Даже при создании той игры понятий и слов, какими являются „Непричёсанные мысли”, нужно быть поэтом..."
Последнюю мысль об однородности литературного наследия Леца в его философских, лирических и сатирических проявлениях выразительно развил крупный польский поэт и прозаик наших дней Тадеуш Новак: «Если хлорофилл является основной составной частью растительной клетки и будет одинаков в клетке водоросли, полевого хвоща или яблочной листвы, то подобная субстанция, питающая все жанры творчества, в каких работал Лец, это поэзия».
Конечно, «непричастность» мыслей Леца не только в импровизационности, спонтанности их возникновения и фиксации, ведь внимательный читатель, конечно, обратит внимание на виртуозность, с какой он оперирует словами на минимальном пространстве афоризма. «Непричёсанность» в первую очередь — в отказе подчиниться густому гребешку и ножницам цензуры, в сопротивлении, которое этот настороженный и все подвергающий сомнению ум оказывает узам привычных схем мышления, давлению общепринятых взглядов, ложной многозначительности различных догм и нравственно-бытовых стереотипов. Внешне миниатюрной художественной форме тут надлежало воплотить в себе все напряжение творческой воли писателя-гуманиста.
Читатель, ознакомившийся с основными вехами жизненного и творческого пути Леца, без труда заметит, что «Непричёсанные мысли» — это также скрытая автобиография поэта. Он заключил в этой книге все свои вызовы силам, противостоящим человеческому достоинству и принципам демократии, все свои суждения о природе исторического процесса, его опасностях и деформациях, своё знание «анатомии власти» и механизмов ее осуществления. Он с беспокойством отмечает театральность обыденного человеческого поведения и обыденность мещанского кругозора у людей театра.
Он идёт путём поисков новой литературной формы, лапидарной и отточенной, как бы конкурирующей с математическими формулами: «Будем писать кратко, — говорил Лец, — чтобы закончить предложение в ту же самую эпоху, когда его начали».
Создавая самую лаконичную хронику пережитого современным художником из Восточной Европы, писатель выступал поборником активного гуманизма сочетавшим в себе горечь и печаль трудного исторического опыта с терпимостью и добротой, а его выводы обретали универсальную значимость и масштабность, ибо, как писал известный польский поэт и драматург Станислав Гроховяк: «„Непричёсанные мысли“ останутся произведением, в котором, пожалуй, точнее всего прослеживается эскалация современного заблуждения: от позиции интеллектуального самодовольства до глупости, от глупости до узурпирования права изрекать „истины”, от узурпирования права до тирании, от тирании до преступлений. Эти чётки собраны из бусинок столь малых, сколь миниатюрны афоризмы Станислава Ежи Леца».
Отчеканенные в гибкой и ясной польской речи, «Непричёсанные мысли», по высказыванию видного польского поэта-новатора Юлиана Пшибося, «являются, может быть, лучшей практикой, предваряющей чтение хороших современных стихов: они обостряют внимание к каждому слову, пробуждают и приводят в движение языковую образность и фантазию читателя ».
Одно из популярных изречений Леца гласит:
«Л хотел сказать миру только одно новое слово, но так как не сумел этого — сделался писателем».
Вряд ли читатель знаменитой книги польского поэта здесь с ним согласится, хотя, конечно, отметит присущую ему скромность. Ведь «Непричёсанные мысли», безусловно, стали новым словом в искусстве афоризма — этой древнейшей и ценимой во все времена разновидности литературно-интеллектуального творчества.
Что отличает Леца от многих, впрочем, заслуженно знаменитых мудрецов и мыслителей, классиков афористического жанра? Прежде всего то, что его высказывания, как правило, не содержат непререкаемых суждений и приговоров. Вместо окончательной истины Лец предлагает нам сентенции, произносимые с иронией или сомнением.
Редкостно разнообразны и формы его изречении. Здесь афоризм-определение, дефиниция, подвергаемая сатирической актуализации
«Настоящая сатира та, на которой ставят крест»
псевдоцитата
«Из книги бытия: „Только один жил с начала света и до его конца - страх“»
пародия на официальные пропагандистские лозунги
«Сбываются наши самые смелые мечты! Может, пора исполняться и несмелым?»
короткий диалог
«Я - поэт завтрашнего дня» - сказал он. «Поговорим об этом послезавтра». — ответил я»
мини-рецензия
«Вот это пьеса! Столько сценических персонажей, которые говорят о том, что автору нечего сказать!»
крохотный рассказ со своим сюжетом
«Крикнул: „А король-то голый. . Но придворные заткнули ему рот: „Молчи!". — „Почему?" — „Может простудиться!"»
фрашка в одно предложение, с внутренней рифмовкой
«Следование догматам грозит матом»
и т.д. Лец расширил традиционную ёмкость афоризма, заполнил его тесные рамки конденсированным содержанием современных проблем, страхов и прогнозов, концентрируясь, в основном, на комичных и болезненных аспектах человеческого существования.
«Непричёсанные мысли» принесли своему автору широчайшую известность. Их переводы на основные языки света, появившиеся в США, Англии, ФРГ Швейцарии, Италии и других странах Запада уже в 60-е годы, долгое время возглавляли списки бестселлеров. «Мысли» эти повторяли американские президенты и германские канцлеры, парламентарии разных стран.
В советскую же печать антитоталитарные, бунтарские «Непричёсанные мысли» просачивались лишь в виде небольших газетных или журнальных подборок, а единственное их издание у нас отдельной книжкой (1978 г.) подверглось оскоплению «благоразумными» переводчиками и редакторами .
Между тем именно нашему обществу, которому объекты едких насмешек Леца — демагогия, политическое хамелеонство, агрессивное невежество, националистический популизм — знакомы как никакому другому, особенно важно пройти школу остро-парадоксального и истинно демократического мышления у Леца.
[в 1999 году выпущено издание «Непричёсанных мыслей», в переводе Максима Малькова, наиболее полное на русском языке]
Жизнь писательского слова этого гуманиста без страха и упрёка, свечение интеллекта человека, не желавшего в угоду кому бы то ни было причёсывать свои мысли, продолжаются…
«И умершие молчат лишь до времени, которое выскажется за них»



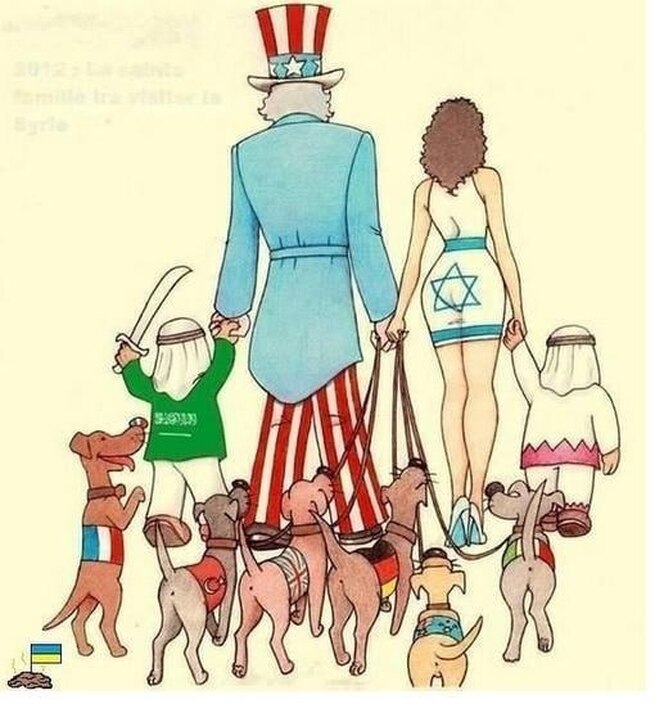






Оценили 11 человек
21 кармы