В XIX веке в Луганске жил известный фотограф Лев Моисеевич Матусовский, работы которого украшали практически каждый дом. Его сын Миша, будущий известный автор стихов к песням, запомнил отца как человека, чья жизнь была тесно переплетена с судьбой родного города. Семья жила размеренно, и ничто не нарушало ритма этой жизни, пока не грянула гражданская война, внезапно изменившая привычный уклад бытия. Однажды, в самый разгар описываемых событий, отца срочно вызывали на железнодорожный вокзал. Он быстро собрал все необходимые принадлежности для фотосъёмки, строго наказал детям сидеть дома и вышел.
Однако мальчишками овладело неудержимое любопытство. «Пойдём, Мотя, — стал уговаривать Михаил старшего брата Матвея, — посмотрим, куда папа так быстро убежал. Ведь там наверняка что-то интересное».
Матвей колебался. В отличие от вечно находящегося в движении Миши, он был очень спокойным и рассудительным. Однако всё то, что происходило в последнее время, так молниеносно менялось, что он, немного подумав, твёрдо сказал: «А, была не была. Пойдём! Только бы нам с тобой не потеряться!»
На вокзале, куда два брата прибежали спустя полчаса после того, как там появился отец, они увидели огромный бронепоезд. Михаил поначалу даже струсил – такого гиганта ему видеть ещё не доводилось. Но ещё больше поразили его лозунги, были неаккуратно нанесены на обшивку красной краской. Больше всех ему запомнились слова: «Ещё многие лягут костьми, но идея коммунизма не умрёт». Фраза резкая, бескомпромиссная – она будто врезалась в память мальчика.
Через какое-то время из бронепоезда вышел грозный, внушительных размеров, красный командир, лицо которого, казалось, отражало всю суровость тех дней, и потребовал у фотографа запечатлеть для истории весь его отряд. Открыв рты, мальчишки смотрели, как украшенные пулемётными лентами бойцы стали располагаться на фоне бронепоезда.
Вдруг высокий и широкоплечий командир увидел Мишу. Взяв его на руки, он посадил ребёнка в самый центр, желая подчеркнуть этим, что война затронула даже самых маленьких. Отец сделал несколько снимков. В тот момент Мише показалось, что всё вокруг словно замерло в ожидании чего-то нового. Полный решимости и какой-то странной энергии, командир начал рыться в карманах, чтобы что-то подарить мальчику на память, но, как назло, ничего подходящего не находилось.
Тогда командир, улыбнувшись суровой улыбкой, вытащил из кобуры наган и протянул его мальчику. «Тебе. На память. Смотри только в батьку не пальни», – проговорил он.
Этот спонтанный жест запомнился мальчишке навсегда. Он сохранил в памяти не только грозный облик командира и пугающий своими размерами бронепоезд, но и этот неожиданный подарок, который стал символом жестокой и непонятной для него войны. Наверное, именно тогда он понял, что война — это не только грохот выстрелов и смерть, но ещё и люди, которые, несмотря ни на что, умели сохранить в себе какую-то искру жизни, какое-то чудо посреди ужаса.
Намного позже он будет много писать и о людях, и об их чувствах, и стихи эти будут жить в мыслях, в сердцах, в памяти. Он будет писать о людях и для людей. Но будет излагать мысли легко и светло, не пуская внутрь то ощущение страха и тревоги, которое родилось при виде бронепоезда, оставшегося на всю жизнь в памяти…
В сырых землянках, в сумраке траншей —
Нигде я не встречал плохих людей.
Боец, с которым не был я знаком,
Со мной делился крепким табаком...
Как ангел, но без крыльев за спиной,
Военный врач склонялся надо мной...
Казалось, здесь Россия собрала
Всё лучшее, что только лишь могла.
Михаил распахнул двери Литературного института в 1935 году, словно входя в храм слова. В 1937-м, будто вдохновлённые музой, Матусовский и его верный соратник, Ян Сашин, сочинили песню для студенческого вечера, даря новогоднему празднику крылья. Эта мелодия, словно выпущенная на волю птица, упорхнула в народ еще до грохота войны и, как говорили древние, «ушла в века». «Сиреневый туман» (в основном, мы знаем эту песню в исполнении Владимира Маркина) до сих пор звучит в сердцах людей, подобно эху далекой эпохи, а имена творцов, к сожалению, растворились в дымке времени. Что же, «Sic transit gloria mundi» – «так проходит мирская слава». Ничего вечного на земле нет.
А потом… Потом словно гром среди ясного неба обрушилась на Матусовского война. Она застигла его в стенах института философии, литературы и истории, где он работал над диссертацией с очень непростым содержанием: «Очерки поэтического стиля древнерусских воинских повестей периода татарского нашествия на Русь». Защита была назначена на 27 июня 1941 года, но ей было не суждено состояться.
Получив мандат военного корреспондента, Матусовский шагнул в огненное пекло фронта. Его научный руководитель, светоч в области филологии, профессор Николай Гудзий, проявив недюжинную настойчивость, добился разрешения на защиту диссертации заочно. И вот, среди грохота канонады, до Матусовского долетела телеграмма, которая извещала его о том, что ему была присвоена степень кандидата наук.

А он продолжал писать и фотографировать, запечатлевая на фотопленке и на бумаге события тех поистине страшных лет. Имя поэта(ещё без приставки "песенник") Матусовского к тому времени стало очень популярным, о нём заговорили, но сборники его работ выходили крайне редко.
Когда от неба и до земли
Летели клочья седого дыма,
И только люди сносить могли
Все, что для камней невыносимо,
Когда, одетый в огонь и дым,
Мир накренился, как в бурю судно,
И было трудно лежать живым,
А мертвым было уже нетрудно,
Когда под скрежет весенних льдин,
Прощаясь с миром последним взглядом,
Я оставался в снегу один,
А немцы были почти что рядом,
Когда, разбужен ночной стрельбой,
Весь лес был полон предсмертной дрожи,
Я не прельщался другой судьбой,
Я повторял лишь одно и то же:
Жить не украдкой, жить не ползком,
Подобно горной лететь лавине.
Мне нужно счастье всё, целиком,
Мы не сойдёмся на половине.
1945
***
Однажды вдали от отцовского дома,
Шагая слепыми путями войны,
Под небом чужбины, где всё незнакомо,
где даже рассветы угрозы полны,
Где пепельной пылью дорога покрыта,
Где отдых короткий нам выпал на час, -
Нашел я на рельсах кусок антрацита
И тихо сказал ему: «Здравствуй, Донбасс!»
1945
(Редакция «Фронтовой Правды». 8 мая 1945 года)
Эти колонки мне в свежем макете
Строгим редактором отведены:
«В праздничный номер стихи о Победе
В двадцать ноль-ноль вы представить должны!»
…Лётчик с застрявшей под рёбрами пулей,
Нянюшка шепчет: «Спаси его бог».
Школьное здание – госпиталь в Туле.
За ночь двенадцать воздушных тревог.
Вижу соседа в линялом халате,
На костыли не сумевшего встать.
Кучу бинтов в процедурной палате,
Что после стирки сгодятся опять.
Близких зениток мучительный кашель,
Будто с войны долетевшая весть.
Миска с остывшею пшенною кашей,
С тою, что некому будет доесть.
Раненых мальчиков белые лица.
Мёртвый, зажавший кисет с табаком.
Как мне попробовать к ним подступиться,
Как мне сейчас рассказать о таком?
Вижу проломы разбитого дота,
Чей-то сапог на песке у реки…
Честно пытаюсь придумать хоть что-то
И написать не могу ни строки.
1985
…На даче Матусовских висит фотография смеющейся пары. Молодой мужчина в шинели и юная женщина, на лице которой ожидание счастья. Этот фронтовой снимок был сделан в мае 1943-ого года.

Можно только предположить, что его стихи воспринимались не из газет и журналов, а со слуха. И, конечно же, подобно произведениям Алексея Фатьянова, Михаила Исаковского, Булата Окуджавы, стихи Матусовского многие люди даже представить себе не могли без музыки. Весь мир знает хоть одну фразу из «Подмосковных вечеров». Русской визитной карточкой называют эту песню Матусовского. А первой её слушательницей была супруга Михаила Львовича – Евгения Акимовна.

Михаил и Евгения встретились в апреле военного 1943-ого года. Матусовский приехал тогда в Москву из госпиталя после ранения. С палочкой, измученный и усталый, он остановился у своего друга и в первый же вечер познакомился с Евгенией. Через три дня они решили пожениться.
Но Михаил мог провести в Москве всего четверо суток. В ЗАГС молодые люди зайти не успели – Матусовский отбыл на фронт. Оттуда он постоянно звонил Жене. Командир Михаила однажды сказал: «Этот майор всё время звонит своей любимой. Пусть она уже приезжает на фронт, и они освободят телефон».
Женя приехала. Такой свадьбы, как у Матусовских, история не припомнит. В качестве подарка им вырыли отдельную землянку с печкой-буржуйкой. С этим жилищем не мог сравниться ни один дворец.
Вообще, "Подмосковные вечера" можно назвать феноменом. Ведь именно с её помощью происходило влияние на общественное мнение и на… международные отношения в период оттепели и чуть позже. Казалось бы, чего общего может быть у песни и у политики? Вряд ли кто-то без колебаний ответит на это вопрос. Однако пропагандистская машина холодной войны рисовала весьма мрачные картинки советской действительности.
Прорвать же этот информационный барьер сумели не политические деятели, а песня. Невероятный случай в истории, но песня эта сравнима, а, возможно, и превосходит достижения дипломатов различных рангов того времени. Да-да – именно «Подмосковные вечера» и стали своеобразным приглашением в мир, которого так боялись и одновременно так хотели увидеть те, кто жил на Западе.
Мелодичная и трогательная, пронизанная искренностью и глубоким чувством, песня послужила тому, что европейцы и американцы, несмотря на идеологические противостояния, устремились в Советский Союз, очарованные музыкальным шедевром, в основу которого легли стихи Михаила Матусовского. Устремились хотя бы для того, чтобы своими глазами убедиться в том, что в стране, которую им представляли как «красную угрозу», могут жить и живут люди, способные на глубокие, нежные чувства.
Сам Матусовский, конечно же, ни к каким гениям себя никогда не относил. Однако народ, как в Советском Союзе, так и за его пределами, ощутил, что эта песня – не просто красивая мелодия, а эмоционально-притягательный образ России, который вот уже на протяжении нескольких десятков лет вызывает симпатию у людей по всему миру.
Секрет успеха песен Матусовского заключается в том, что он умел выражать глубинные человеческие эмоции простым и понятным языком.
Кстати, нельзя не заметить того, что некоторые песни Матусовского начинаются с вопроса или содержат вопрос внутри:
«С чего начинается Родина?»,
«Что так сердце, что так сердце растревожено?»,
«Отчего, отчего, отчего мне так светло?» —
вопросы эти отражают вечные человеческие загадки и поиски смысла жизни – таким необычным был его поэтический стиль.
Песни Матусовского могли звучать по радиоприёмнику каждый день и не вызывать раздражения, могли исчезнуть из репертуара радио и телевизора и после возродиться, оставаясь при этом в памяти разных поколений: от стариков до юношества. И кажется, что пока эти песни живут внутри нас, мы не потеряем умения сохранять сочувствие, взаимопонимание и будем обладать способностью к проявлению доброты и взаимной поддержки.
Среди тишины московской ночи
И вокзальной сутолоки дня
Не забудьте, я прошу вас очень,
Вспоминайте изредка меня.
Жил на этом белом свете
Полюбивший сразу и навек
Очень добрый, очень неуклюжий,
В сущности, хороший человек...

Магдалина Гросс








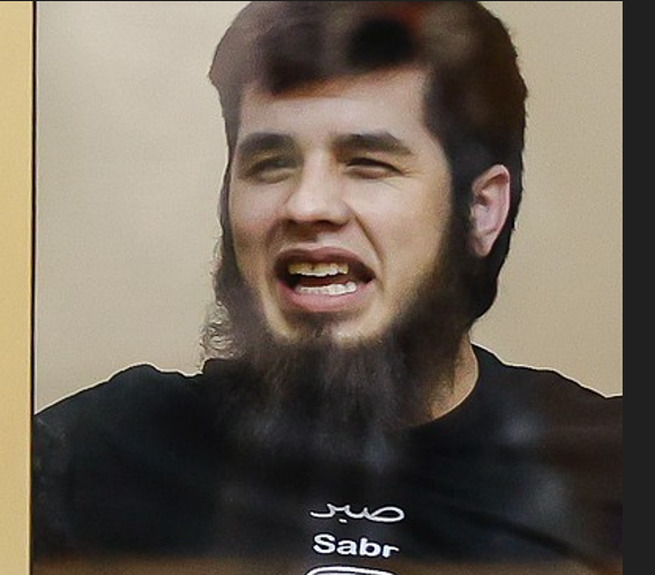






Оценили 19 человек
41 кармы