Глава I
Российская стабильность
Прочность России стала одним из величайших сюрпризов войны. Это не должно было быть сюрпризом, его легко было предвидеть и объяснить. Реальный вопрос заключается в следующем: почему западные страны до такой степени недооценили своего противника, когда его сильные стороны не носили скрытного характера, а данные о них были доступны? Как, имея разведывательное ведомство из ста тысяч человек только в Соединенных Штатах, они могли вообразить, будто отключение SWIFT и санкции приведут к краху эту страну площадью 17 млн. кв. км, располагающую всеми возможными природными ресурсами и которая с 2014 года открыто готовилась ответить таким санкциям?
Чтобы показать чудовищность просчетов в восприятии, имевших место на протяжении всех путинских лет правления, давайте начнем с заголовка колонки газеты Le Monde от 2 марта 2022 года, подписанной редактором Сильвией Кауфманн: «Следствие политики Путина во главе России – это долгое нисхождение во ад страны, из которой он сделал страну-агрессора». Вот как основная французская газета описала период, который после краха 1990-х годов был именно периодом выхода из ада. Речь здесь идет не о том, чтобы осуждать, возмущаться, обвинять в недобросовестности людей, которые искренне так думают9, а о том, чтобы понять, как могли писать такую чушь, когда было легко заметить, что положение России стало намного лучше.
Успешная стабилизация: доказательство с помощью «моральной статистики»
В период с 2000 по 2017 год, ставший центральным этапом путинской стабилизации, уровень смертности от алкоголизма в России снизился с 25,6 на 100 тыс. населения до 8,4, уровень самоубийств – с 39,1 до 13,8, уровень убийств – с 28,2 до 6,2. В абсолютных цифрах это означает, что смертность от алкоголизма снизилась с 37 214 в год до 12 276, самоубийств – с 56 934 до 20 278, а убийств – с 41 090 до 9 048. И это идет речь о стране, пережившей такую эволюцию, которую нам представляют как «долгое нисхождение во ад».
В 2020 году уровень убийств упал еще ниже: до 4,7 на 100 тыс. жителей, что в шесть раз меньше, чем при приходе Путина к власти. А уровень самоубийств в 2021 году составил 10,7, что в 3,6 раза меньше. Что касается ежегодной младенческой смертности, то она упала с 19 на 1 000 «живорожденных детей» в 2000 году до 4,4 в 2020 году, что ниже показателя в США, составляющего 5,4 (ЮНИСЕФ). Следует принять во внимание, что последний показатель особенно важен для оценки его общего состояния, поскольку он касается самых слабых его членов.
Но эти демографические показатели, которые социологи XIX века называли «моральной статистикой», указывают на реальность, а она еще более осязаема и глубока, чем другие статистические данные. Если мы посмотрим на экономические показатели России, то увидим, что в период с 2000 по 2010 год уровень жизни быстро восстановился, а в период с 2010 по 2020 год началось торможение, вызванное трудностями, спровоцированными, в частности, санкциями, последовавшими за присоединением Крыма к России. Но тенденция, проиллюстрированная моральной статистикой, является более устойчивой, глубокой и отражает, после кризиса 1990-х годов, состояние социального согласия в обществе, когда россияне заново открыли для себя возможности стабильного существования.
Эта стабильность, подтверждаемая убедительными фактами и демографическими данными, стала фундаментальной для страны и является одной из основных идей в выступлениях Путина. Эти объективные факторы не помешали различным НПО, являющимся чаще всего косвенными агентствами правительства США, которые можно обозначать как ПНПО, псевдо-неправительственные организации, постоянно понижать рейтинг России в своих классификациях. До такой степени, что они могут нести всякую чушь. Когда в 2021 году Transparency International, оценивающая страны мира по уровню коррупции, поставила США на 27-е место, а Россию – на 136-е, многие удивились. Страна, где уровень младенческой смертности ниже, чем в Соединенных Штатах, не может быть более коррумпированной, чем они. Младенческая смертность, отражающая подлинное состояние общества, вероятно, является сама по себе лучшим показателем реальной коррупции, чем эти сфабрикованные в соответствии с не совсем понятными критериями показатели. Кстати, страны с самой низкой младенческой смертностью – те, в которых мы можем также проверить, что они наименее коррумпированы: это скандинавские страны и Япония. Мы замечаем, что в верхней части рейтинга показатели детской смертности и коррупции коррелируют.
Экономическое восстановление
Нельзя винить газету Le Monde и ЦРУ за то, что они не использовали младенческую смертность в качестве показателя тенденций. В случае с экономическими данными, они ведь были хорошо известны. В течение всего периода мы отмечаем, помимо повышения уровня жизни, низкий уровень безработицы и возвращение России в стратегические экономические отрасли.
Самая впечатляющая из них – сельское хозяйство. Как показывает нам Дэвид Тертри в своей книге 2021 года, России за несколько лет удалось не только достичь продовольственной самообеспеченности, но и стать одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире: «В 2020 году российский экспорт сельскохозяйственной продукции достиг рекордно высокого уровня, 30 миллиардов долларов, что больше, чем выручка от экспорта природного газа в том же году (26 миллиардов). Эта динамика, которая первоначально обеспечивалась зерновыми и масличными культурами, теперь также зависит от экспорта мяса. […] Показатели сельскохозяйственного сектора позволили России впервые в своей новейшей истории стать нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции в 2020 году: в период с 2013 по 2020 год российский экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился в три раза, а импорт сократился в два раза»10. Это пощечина советскому строю, который, как известно, потерпел крупные неудачи в данной области.
Сохранение за Россией второго места как экспортера оружия менее удивительный факт. Наоборот, после Чернобыльской аварии недавно приобретенный статус крупнейшего в мире поставщика атомных электростанций, оставляя далеко за собой Францию, стал еще одним сюрпризом. Государственное предприятие «Росатом», отвечающее за этот сектор, по состоянию на 2021 год располагал портфелем из тридцати пяти реакторов, строящихся за рубежом, в частности, в Китае, Индии, Турции и Венгрии11.
Еще одна область, в которой россияне проявили гибкость и динамизм, – Интернет. Поскольку эта сфера для нас воплощает современность, можно было ожидать, что компетентные службы будут осведомлены о прогрессе, достигнутом россиянами. Но не тут-то было.
Тертри убедительно объясняет, почему россияне придерживались в этом вопросе одновременно государственнической и либеральной, национальной и гибкой позиции: они были полны решимости оставаться в конкурентной среде и в то же время стремились сохранить свою автономию. «На самом деле, – отмечает он, – российская версия регулирования Интернета, как и во многих других областях, находится на полпути между положениями, принятыми в Европе, и положениями, принятыми в Китае. В России, как и в Европе, присутствуют американские интернет-гиганты, они пользуются значительной аудиторией в Рунете (особенно это касается YouTube). […] Но в отличие от Европы, которая в значительной степени бессильна в этой области, Россия может полагаться на национальных лидеров во всех сегментах Интернета, чтобы оставаться автономной и предлагать альтернативные решения российским пользователям Интернета»12. Оставаясь «широко открытой для западных решений», она «несомненно, является единственной державой, в которой проявляется реальная конкуренция между компаниями GAFA и их местными аналогами»13.
Франсуа Олланд вслед за Ангелой Меркель заявил, что подписал Минские соглашения 2014 года, чтобы дать украинцам время вооружиться. Это, безусловно, было намерением украинцев. В более туманных представлениях Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, кто может знать? Но что мало кто заметил и о чем свидетельствует работа Тертри, так это то, что данные соглашения также были способом выиграть время14 и для россиян. Одна из причин, по которой в 2014 году они не пошли дальше присоединения Крыма и согласились на прекращение огня, заключается в том, что они не были готовы к отключению от SWIFT, что в то время было бы катастрофическим. Минские соглашения были подписаны потому, что все хотели выиграть время. Украинцы – подготовиться к войне на местах, россияне – быть готовыми к максимальному режиму санкций. Как сообщает Тертри, еще в 2014 году Центральный Банк России создал российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС)15. В апреле 2015 года была запущена Национальная система платежных карт (НСПК), «которая гарантирует функционирование карт, выпущенных российскими банками на территории страны, даже в случае введения западных санкций. В то же время Центральный Банк России создает карточную платежную систему “Мир”»16.
Спасибо санкциям!
Когда мы наблюдаем за развитием России после краха коммунизма, нас не может не удивлять ее чрезвычайно хаотичный путь: очень резкое падение, за которым последовал стремительный подъем. Но больше всего поражает приспосабливаемость, какую страна продемонстрировала после введения санкций, вызванных присоединением Крыма в 2014 году. Каждый режим санкций, по-видимому, заставлял Россию проводить одно за другим экономические преобразования и восстанавливать свою автономию по отношению к западному рынку.
Пример производства пшеницы, пожалуй, самый впечатляющий. В 2012 году Россия производила 37 млн тонн пшеницы, в 2022 году – 80 млн удвоилось за десять лет, даже более. Эта гибкость приобретает смысл, если сравнивать ее с негативной гибкостью неолиберальной Америки. В 1980 году, ко времени прихода Рейгана к власти, производство пшеницы в США составляло 65 млн тонн. К 2022 году их осталось всего 47 млн. Давайте посмотрим на этот спад как на введение в реальность американской экономики, о котором поговорим в главе IX.
При Путине россияне никогда не вводили полный протекционизм, принимая факт того, что у ряда видов деятельности возникнут проблемы. Их гражданская авиационная промышленность была принесена в жертву, поскольку они купили «Аэробусы». Пострадала и автомобильная промышленность. Но если стране удалось сохранить относительно высокую долю своей рабочей силы в промышленности, не интегрироваться полностью в глобализованную экономику и не поставлять собственную рабочую силу на службу Западу, как это делали бывшие страны народной демократии, то это потому, что она извлекла выгоду из частичного протекционизма и из обстоятельств.
Жак Сапир просветил меня по этому вопросу. «Основной мерой защиты промышленности и сельского хозяйства стало сильное обесценивание рубля в 1998–1999 годах. Выраженное в реальном обменном курсе (сравнивая соответствующие индексы инфляции и роста производительности), обесценивание рубля к концу 1999 года составило как минимум 35 %. Впоследствии номинальный обменный курс падал меньше, чем увеличивался инфляционный разрыв, но значительный рост производительности с 2000 по 2007 год сохранил обесценивание реального обменного курса на уровне около 25 %. Это обесценивание смягчилось с 2008 по 2014 год. Затем, с изменением стратегии Центрального Банка России (переходом к таргетированию инфляции), рубль снова обесценился в реальном выражении с 2014 по 2020 год»17.
Добавились к протекции, порожденной слабым рублем, таможенные пошлины: «Что касается тарифных мер, – продолжает Сапир, – Россия с 2001 года применяла 20 % ставку на промышленные товары, прежде чем принять ставку в размере 7,5 % с момента вступления во Всемирную торговую организацию в августе 2012 года. Очевидно, что с войной на Украине все это больше не касается западной продукции. Что касается сельскохозяйственной продукции, то в 2003 году пошлины составляли около 7,5 % (фрукты и овощи), а после вступления России в ВТО стало 5 %. Но, опять же, эмбарго позволило восстановить жесткую протекционистскую политику».
Как мы понимаем из чтения книги Тертри, западные санкции 2014 года, хотя и вызвали определенные трудности в российской экономике, открыли также и возможности: они вынудили ее найти альтернативы импорту и произвести внутреннюю перестройку. В статье, опубликованной в апреле 2023 года, американский экономист Джеймс Гэлбрейт оценил, что санкции 2022 года имели такой же эффект18. Они позволили создать систему защиты, которую, учитывая ныне сильную приверженность россиян рыночной экономике, режим никогда бы не осмелился навязать населению. «Без санкций, – пишет он, – трудно представить, как могли возникнуть возможности, которые сегодня открываются перед российскими компаниями и предпринимателями. С политической, административной, правовой, идеологической точек зрения даже в начале 2022 года российскому правительству было бы очень трудно принять сопоставимые меры, как тарифы, квоты и вытеснение иностранных предприятий, учитывая идеологическое влияние, которое идея рыночной экономики оказывает на политиков, влияние олигархов и якобы ограниченный характер “специальной военной операции”. В этом плане, несмотря на шок и на издержки, понесенные российской экономикой, санкции, безусловно, стали подарком».
Путин – не Сталин
Опять же, все эти данные были доступны, они показали силу и приспособляемость российской экономики. Главное, повторяю, не в том, чтобы отметить эти сильные стороны, а задать себе вопрос: почему западные официальные лица эту реальность не заметили?
Их представление о нынешней России, о стране, в которой правит «чудовищный» Путин и населенной глупыми россиянами, возвращает нас к Сталину. Все это было истолковано как возвращение России к ее предполагаемой большевистской сущности. Но, помимо превосходной книги Дэвида Тертри, в распоряжении специализированных аналитиков и комментаторов были работы и Владимира Шляпентоха.
Шляпентох (1926–2015) родился в советском Киеве. Он был одним из основоположников эмпирической социологии в брежневскую эпоху. Столкнувшись с антисемитизмом загнивающего советизма, Шляпентох эмигрировал в Соединенные Штаты в 1979 году, продолжая там работать над проблемами России, Соединенных Штатов и вопросами общей социологии. Его книга Freedom, Repression, and Private Property in Russia была опубликована в 2013 году в издательстве Cambridge University Press, которое вряд ли можно назвать маргинальным или внесистемным. Эта книга предлагает детальный и весьма компетентный (и враждебно настроенный по отношению к Путину) взгляд человека, жившего в брежневской России и изучавшего путинскую Россию, став гражданином США. Когда это читаешь, становится легко определить путинский режим не как проявление власти монстра инопланетянина, подчиняющего пассивный и серый народ, а как понятное явление, вписывающееся в общую историю России и в то же время имеющего определенные особенности.
Разумеется, государственный аппарат сохраняет центральную роль. Как, впрочем, может быть иначе, учитывая важность энергетических ресурсов? Только государственная власть может контролировать такую компанию, как «Газпром». Конечно, КГБ, ставший ФСБ, из которого вышел Путин, продолжает играть жизненно важную роль. Разумеется, Россия не стала либеральной демократией. Со своей стороны, я склонен определять ее как авторитарную демократию, придавая каждому из этих двух терминов – «демократия», «авторитарный» – равный вес. Демократия потому, что, хотя выборы немного сфальсифицированы, опросы общественного мнения – и это никем не оспаривается – показывают нам, что поддержка режима неизменна как во время войны, так и в мирное время. Авторитарный, потому что, вероятно, режим в вопросе уважения прав меньшинств не соответствует критериям, присущим либеральной демократии. Всем думать в унисон, очевидно, характеризует режим, что влечет за собой ограничение свободы СМИ и различных групп гражданского общества.
Но режим Путина особенно примечателен несколькими чертами, сами по себе они свидетельствуют о радикальном разрыве с авторитаризмом советского типа. Прежде всего, как напомнил Джеймс Гэлбрейт, внутренняя приверженность рыночной экономике, несмотря на центральную роль, которую играет государство. Эта привязанность вполне понятна тем, кто пережил грандиозный провал госплановской экономики. С другой стороны, хотя Путин фактически отстранил от власти высшую элиту Москвы и Санкт-Петербурга, он уделяет особенное внимание требованиям рабочих и постоянно стремится заручиться поддержкой народных масс своего режима. Я полагаю, что последняя черта в наши дни осуждается на Западе в целом, где в принципе презирают людей, от которых может исходить только… «популизм».
Один важный момент должен был сосредоточить внимание западных аналитиков на новизне исторического объекта, который они обсуждают: непоколебимая приверженность Путина свободе передвижения. Под его властью россияне имеют возможность выехать из России, и они сохраняют это право даже в военное время. Здесь мы сталкиваемся с одной из характеристик либеральной демократии: полной свободой выезда из страны. Это признак режима, который по-своему уверен в себе или считает, что можно быть уверенным.
Последнее новшество, очень знакомое для еврея Шляпентоха, вынужденного из-за этого бежать из СССР: полное отсутствие антисемитизма, которое должно нас радовать, подтверждая, что российский режим и российское общество ощущают уверенность в себе. Традиционно, когда российские лидеры сталкивались с трудностями и пытались восстановить свою власть, они часто использовали антисемитизм. Шляпентох напоминает, как при Сталине, а затем с 1968 года СССР использовал антисемитизм. По этой причине евреи массово уехали, как только после краха системы у них появилась такая возможность.
Приписывать Путину эти две уникальные и положительные черты – свободу передвижения и отсутствие антисемитизма – было, видимо, невыносимо для западных журналистов и политиков. Хотя они должны были, по крайней мере, навести их на мысль о чувстве самоуверенности строя, о его стабильности. Априорная вера в хрупкость режима, которому угрожали средние классы, обманула их и продолжает вводить в заблуждение. Это подтвердилось, когда 24 июня 2023 года западные комментаторы напрасно возлагали свои надежды на мятеж Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер». Ослепленность Запада не менее стабильна и уверена в себе, чем российский режим и общество.
Российских инженеров больше, чем американских
Стабилизированное общество, функционирующая экономика: должны ли мы прекратить анализ на этом этапе? Достаточно ли его уже для того, чтобы понять, насколько эффективны россияне в ходе самой войны? Накануне вторжения в Украину, напомню, Россия, включая Беларусь, составляла всего 3,3 % ВВП Запада. Как эти 3,3 % смогли удержать и произвести больше вооружения, чем противник? Почему российские ракеты, которые, как ожидалось, исчезнут из-за истощения запасов, продолжают падать на Украину и ее армию? Как могло развиться массовое производство военных беспилотников с начала войны, после того как российские военные обнаружили свою слабость в этой области?
Когда мы будем говорить о Соединенных Штатах, я покажу в значительной степени вымышленный характер их ВВП, в котором регистрируются в том числе особые виды деятельности, и при этом не совсем понятно, следует ли их квалифицировать как бесполезные или виртуальные. Пока давайте просто скажем, что ВВП России в большей степени представляет собой производство материальных благ, чем плохо определенные виды деятельности.
Давайте пойдем дальше, углубимся в социологические аспекты экономически активного населения, потому что лучше и шире, чем ВВП, экономика – это рабочая сила с ее различными уровнями образования и типами навыков. Однако что принципиально отличает российскую экономику от экономики США, так это то, что среди людей с высшим образованием гораздо большая доля тех, кто выбирает инженерное образование: в 2020 году их было 23,4 % по сравнению с 7,2 % в Соединенных Штатах.
Россия в этом не одинока, и мы быстро поймем, что эта цифра показательна, если уточним, что в Японии обучается 18,5 % студентов-инженеров, а в Германии, чьи промышленные показатели нас восхищают, их 24,2 %. Франция на уровне 14,1 %, из которых следует вычесть всех тех выпускников, кто направится делать карьеру в банковский сектор и в «финансовый инжиниринг»19.
Что представляют собой эти 23,4 % россиян в количественном выражении по сравнению с 7,2 % американцев? Давайте сравним эти проценты с населением обеих стран. В России тогда проживало 146 млн человек, в Соединенных Штатах – 330 млн. Давид против Голиафа. Об этом забывают из-за площади российской территории, но в демографическом плане борьба асимметрична. Соединенные Штаты сами по себе и без своих союзников огромны. Россия едва ли более населена, чем Япония, и поэтому ее население можно было бы без особых усилий сосредоточить на узком Японском архипелаге.
Возьмем число людей в возрасте от 20 до 34 лет в обеих странах: 21,5 млн в России (в 2020 году) и 46,8 млн в Соединенных Штатах. Здесь мы обнаруживаем общий дисбаланс. С другой стороны, и хотя в России и в Соединенных Штатах высшее образование определяется не совсем одинаково, давайте подсчитаем, что в этих двух странах 40 % группы имеют высшее образование. Теперь мы можем приступить к важному расчету. В Соединенных Штатах 7,2 % из 40 % из 46,8 млн человек дают 1,35 млн инженеров. В России 23,4 % из 40 % от 21,5 млн дают 2 млн. Несмотря на непропорциональную численность населения, России удается подготовить значительно больше инженеров, чем Соединенным Штатам.
Я осознаю упрощенный характер данного расчета, не учитывающего тот факт, что Соединенные Штаты ввозят инженеров и, в более общем плане, значительную часть своего научного сообщества, которые часто китайского и индийского происхождения. Тем не менее мы можем понять, как российский Давид сумел справиться с американским Голиафом в промышленном и технологическом, а следовательно, и в военном отношении.
Средний класс и антропологические реалии
При рассмотрении западных социологических и политических работ 1840–1980-х годов становится ясно, что рабочий класс был центральным вопросом; проблемный класс, от поведения которого зависели порядок или хаос, стабильность или революция. На него надеялись или он отпугивал, в зависимости от точки зрения. Сегодня в нашем глобализованном мире, когда основные задачи наших рабочих классов были перенесены в Азию, именно средние классы привлекают внимание социологов и политиков, и эта книга, кстати, не является исключением из правила; мы надеемся на них, когда они растут, и беспокоимся о них, когда они истощаются. Марксизм ожидал революции, исходящей от пролетариата. Неолиберализм ждет от подъема среднего класса – российского, китайского, иранского – падения режимов, сопротивляющихся западному порядку. Начиная с урока Аристотеля (я напомнил об этом в Предисловии), на Западе принято считать, что без господствующего среднего класса общество не может быть сбалансированным, демократическим, либеральным. И действительно, в последние десятилетия наблюдается связь между появлением образованных средних классов и развитием либеральных и даже либертарианских тенденций. Но является ли классовая структура, определенная в экономических или образовательных терминах, единственным фактором успеха или неудачи либеральной демократии?
Давайте посмотрим на российский средний класс. Можем ли мы представить, что он когда-нибудь свергнет авторитарный путинский режим?
В конце концов, именно созревание определенного типа среднего класса привело к краху коммунизма. В 1976 году в своей книге «Окончательное падение. Эссе о распаде советской сферы» я оценил экономическую несостоятельность системы и предсказал ее упадок, основываясь на наблюдаемом росте младенческой смертности. Однако инициирующим фактором падения, как мне сейчас кажется, был не экономический паралич системы, а, скорее, появление обученного в ВУЗах среднего класса.
Но что представлял собой советский коммунизм? Первая стадия массовой грамотности. Мы можем эмпирически связать распространение первичного демократического темперамента в различных формах, либеральных или авторитарных, эгалитарных или неравноправных, в зависимости от антропологических структур каждой страны, с преодолением порога в 50 % грамотных мужчин. В англо-американском мире этот переход породил чистый либерализм в XVII и XVIII веках, во Франции – эгалитарный либерализм начиная с XVIII века, в Германии – социал-демократию и нацизм в XIX и XX веках, в России – коммунизм. Аналогичным образом впоследствии поступление в ВУЗы 20–25 % молодежи в каждом поколении привело к разрушению этих основных идеологий, связанных со стадией массовой грамотности. Происходит новая стратификация общества; отношение к письменному тексту и идеологии становится более критическим, слово Божье, заклинания фюрера, указания партии или даже партий перестают быть трансцендентными. Россия достигла этого порога в период с 1985 по 1990 год (в США это было примерно в 1965 году; мы еще вернемся к этому).
Таким образом, мы действительно наблюдаем параллелизм между появлением средних классов с высшим образованием и крахом коммунизма. Но это было три или четыре десятилетия назад. Путинский режим возник в результате данного кризиса, он пришел на смену коммунизму после фазы анархии (а не либерализма) 1990-х годов.
Запад мечтает о средних классах двойного назначения, которые свергли бы Путина, после того как они «свергли» коммунизм. Отсюда их неоднократные обращения к передовому среднему классу крупных российских городов. Эта надежда не является полностью абсурдной. Совершенно верно, что именно в образованных и высших классах Москвы и Санкт-Петербурга проживает наибольшее количество россиян, враждебно настроенных по отношению к Владимиру Путину. Более того, именно те же классы и те же города поддерживали Бориса Ельцина, разрушителя СССР, этого любимца либеральных реформаторов российской экономики, приехавших из Америки в начале 1990-х годов. Исследования Александра Лаца по географии выборов показывают, что действительно партии, оппозиционные Путину, наиболее сильны в самых богатых районах крупных городов, где сосредоточено наиболее образованное население20.
Можно было бы даже попытаться построить социально-политическую модель, которая противопоставила бы Россию Западу, подчеркивая различную классовую направленность. С одной стороны, российский строй, который опирался бы на низовые классы наряду с сокращением роли средних классов. С другой стороны, западная система, в которой высшим средним классам в союзе с центральными средними классами удалось бы маргинализировать низовые слои населения21. Но такое представление не объясняет, что́ отличает российские средние классы от их западных аналогов. Хотя российские средние классы, безусловно, немного более либеральны, чем остальная часть населения, они далеко не во всем похожи на западные средние классы. Тот факт, что они производят гораздо больше инженеров, уже показал нам это. Их различие коренится в особой антропологической подкорке, которая, кстати, является одним из элементов объяснения устойчивости России в противостоянии с Западом.
В 1983 году я выдвинул гипотезу о связи между коммунизмом и крестьянской семьей-общиной, какую можно наблюдать не только в России, но и в Китае, Сербии, Вьетнаме, Латвии, Эстонии или во внутренних районах Финляндии22. Этот семейный, патрилинейный тип, объединяющий отца и его женатых сыновей на ферме, передавал ценности авторитарности (власть отца над сыновьями) и равенства (между братьями). В России этот тип появился достаточно недавно, затрагивая крестьянство только на рубеже XVI и XVII веков, в то же самое время, что и крепостное право. Он пока не сильно понизил статус женщин, как, например, в Китае. Патрилинейный принцип сегодня символически увековечен в России системой фамилии, имени и отчества. Владимир Владимирович (сын Владимира) Путин; Сергей Викторович (сын Виктора) Лавров. Во Франции это привело бы к рождению Эммануэля сына Жан-Мишеля Макрона, или Марин, дочери Жан-Мари Ле Пен. Эта система является общей для всех социальных классов и распространяется на людей нерусского происхождения. Председателя Центрального Банка России, родившуюся в татарской семье, зовут Эльвира Сахипзадовна Набиуллина.
Коммунизм возник не из плодотворного мозга Ленина, прежде чем был установлен активным меньшинством; он появился в результате распада традиционной крестьянской семьи. Отмена крепостного права в 1861 году, урбанизация и грамотность освободили человека от удушающей общинной семьи. Но освобожденный индивид оказался совершенно дезориентированным, он искал в партии, в централизованной экономике, в КГБ замену отцовской власти. Можно сказать, что КГБ был в определенном смысле институтом, наиболее близким к традиционной семье, потому что лично занимался людьми, причем пристально.
Учитывая эту общественную естественнообразность коммунизма в российской истории, было маловероятно, что после его краха на территориях между Москвой и Владивостоком возникнет альтернативная либеральная демократия западного типа. Ценности авторитарности и равенства, наблюдавшиеся в семье, а затем и во всей общественной жизни в советское время, не могли исчезнуть всего за несколько лет. Данное предположение кажется мне разумным и реалистичным. Но я добавлю, что оно банально.
Слепота к разнообразию мира
Мы должны помнить, что существование специфического русского общественного темперамента, сторонящегося политики, но способного влиять на нее, давно широко признано в Западной Европе. Возьмем великолепную работу Анатоля Леруа-Болье «Империя царей и русские», первое издание которой вышло в 1881 году, а третье, дополненное, в 1890 году. Он писал:
«На фабрике, как и в деревне, мужик проявляет себя малоиндивидуалистично; его личность охотно растворяется в обществе; он боится одиночества, ему необходимо чувствовать себя единым целым со своими собратьями, быть с ними единым целым. Большая патриархальная семья под властью отца или старейшины, деревенские общины под властью мира заранее приучили его к совместной жизни, следовательно, к объединению. Как только мужик приступает к какой-либо работе, особенно как только он покидает свою деревню, он объединяется в артель. Так случается, в частности, с большинством рабочих крестьянского происхождения на крупных фабриках. Они знают силу объединения и образуют между собой временные артели, которые вдали от своей избы и деревни служат им местом жительства и семьей. Артель – их убежище и опора во время ссылки на фабричную работу; благодаря артели они чувствуют себя менее изолированными и обездоленными. Артель с ее коммунистическими тенденциями и солидарной практикой является стихийной, национальной формой объединения»23.
Мы уже в 1890 году сталкиваемся со словом «коммунист» по отношению к российскому народу. То, что можно было представить во Франции первой половины Третьей республики (1870–1940), невозможно вообразить в наши дни. Когда примерно в то же время, в 1892 году, мы знали, вступая в союз с Россией, что наш партнер – царская империя, страна с общинным, если не сказать коммунистическим характером.
Рискуя удивить еще больше, я напомню, что Америка Эйзенхауэра осознавала российскую (русскую) специфику. Американская антропология в области культуры была привлечена к работе над российской (русской) культурой. Прежде всего напомним две книги: Soviet Attitudes Toward Authority Маргареты Мид (1951)24 и The People of Great Russia Джеффри Горера и Джона Рикмана (1949)25. Горер был британцем, но учеником М. Мид. Сошлемся также, из-за особенно запоминающегося названия, на The Impact of Russian Culture on Soviet Communism Динко Томашича (1953)26. Прекрасная статья 1953 года Culture and World View: A Method or Analysis Applied to Rural Russia (Культура и мировоззрение: метод или анализ, примененный к сельской России), опубликованная в журнале «Американский антрополог», дает весьма четкое описание русской общинной семьи и украинской нуклеарной семьи. Я воспользуюсь этой статьей в следующей главе, чтобы изложить, что отличает Малую от Великой России. В разгар холодной войны Америка проявляла интерес к своему противнику и, в более широком плане, не отказывала себе в том, чтобы искать в культурных недрах наций источник их отсталости (в Италии)27 или их авторитарных причуд (в Германии или Японии)28.
В то время в умах царила идея, что мир неоднороден. Кульминацией этого положения явился ставший культовым (и часто критикуемый) текст Руты Бенедикт The Chrysanthemum and the Sword, написанный в 1944–1945 годах по просьбе Пентагона на основе интервью с японскими военнопленными. Нужно было понять менталитет врага, чтобы подготовиться к оккупации страны. Эта работа помогла осознать, что японцы – другие и императора нужно оставить на троне. Таким образом, в строившейся американской глобальной системе существовала допустимость разнообразия, основанная на сформированном школой разумной антропологии плюралистическом американском характере.
Я убежден, что одна из причин, по которой холодная война не переросла в настоящую, заключается в том, что, хотя американские лидеры на сознательном уровне считали себя защитниками свободы «в целом», в противостоянии с коммунизмом «в целом», они чувствовали, что существует российская специфика и коммунистическая угроза не являлась такой уж «универсальной». Можно было считать Джорджа Кеннана, изобретателя концепции сдерживания, кем угодно, но не слепым антикоммунистом: он говорил по-русски, знал и любил русскую культуру. Стратегия, которую он разработал, была направлена на предотвращение вооруженного противостояния. До глубокой старости (он умер в 2005 году в возрасте 101 года) Кеннан не переставал возмущаться тем, как она была искажена, во Вьетнаме или Рейганом. Одно из его последних публичных заявлений в 1997 году предостерегало нас от расширения НАТО на Восток29.
Конечно, Соединенные Штаты также пережили маккартизм, универсальную (всеобъемлющую) паранойю, от которой Кеннана тошнило. Но вспышка была краткой и ограниченной. Чтобы нетерпимость проявилась во всей своей красе, нужно было дождаться неоконсерваторов, этих триумфалистичных наследников маккартизма.
Именно война во Вьетнаме, на мой взгляд, стала датой абсолютной универсализации коммунистической угрозы американским руководством. Уолт Ростоу (1916–2003), советник по национальной безопасности при администрациях Кеннеди и Джонсона, был одним из инициаторов этого интеллектуального упадка в своей книге «Стадии экономического роста: Некоммунистический манифест, 1960». В этой книге есть одна очень правильная идея и одна – ошибочная. Очень правильная идея заключается в том, что все страны в процессе своего развития переживают опасную фазу, во время которой может возникнуть политический кризис. Ростоу связывает это с экономическим развитием, я же приписываю это грамотности. Затем появляется ошибочная идея. Было бы достаточно вмешаться, чтобы предотвратить политический кризис и позволить стране (благодаря американским военным) напрямую перерасти в либеральную демократию. Ростоу был одним из «ястребов войны» во Вьетнаме, и идея, лежавшая в основе его работ, состояла, очевидно, в том, что коммунизм может распространиться повсюду.
Вьетнам, страна общинной семьи, имел предрасположенность к коммунизму, который, таким образом, восторжествовал там, несмотря на вмешательство США. Камбоджа, где существовала архаичная нуклеарная семейная система, но которая была близка к Вьетнаму, стала также зоной военных действий, и они вылились в геноцид красных кхмеров. Тем не менее коммунизм, подлинный или мнимый, не продвинулся дальше ни в Малайзии, ни в Таиланде, странах с нуклеарной семьей.
Нынешнее отношение к России, выражавшееся в неспособности воспринимать путинский режим иначе чем в общих чертах, как и отказ принять во внимание существование русской культуры, которая могла бы его объяснить, является следствием постепенного изменения западного подхода, начиная с 1960-х годов. Исчезновение наших навыков воспринимать многообразие мира лишает нас реалистичного взгляда на Россию.
Было очевидно, что посткоммунистическая Россия сохранит общинные черты, несмотря на переход к рыночной экономике. Одной из этих черт будет существование более сильного государства, чем где-либо еще. Другой чертой станет отношение этого государства к различным классам общества, отличное от существующего в странах Запада. Следующей чертой будет признание в той или иной степени во всех классах общества, – более сильное в народных кругах, смешанное в средних классах, – определенной формы авторитаризма и стремления к социальной однородности.
Мы также должны понимать, что то, что составило прочность России и позволило ей сохранить свой суверенитет в глобализованной системе, – это ее способность предотвращать развитие абсолютного индивидуализма (никаких оценочных суждений в этом выводе нет, я говорю здесь языком американского антрополога 1950-х годов). В России сохранилось достаточно общинных ценностей – авторитарных и эгалитарных – для того, чтобы в ней остался идеал компактной нации и возродилась особая форма патриотизма.



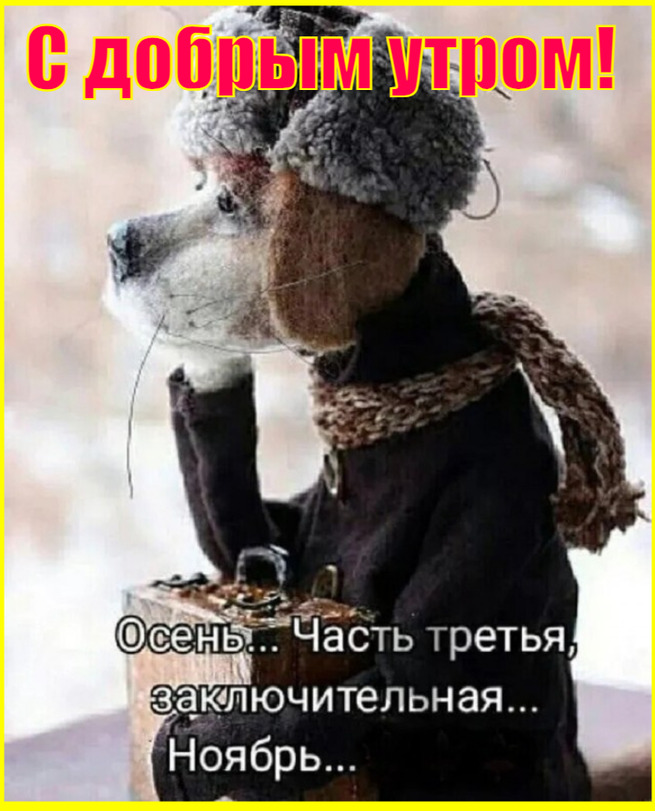
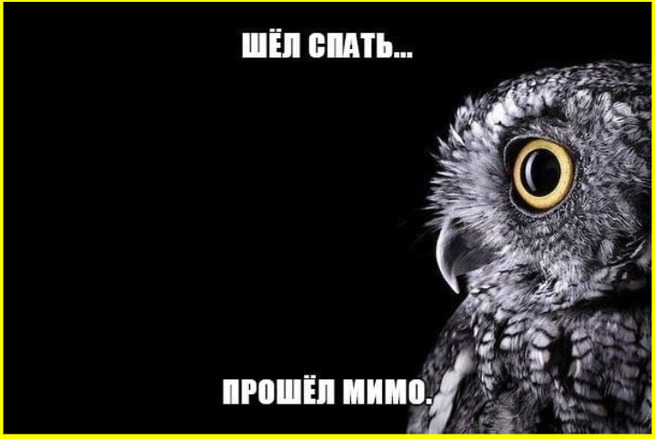

Оценили 3 человека
8 кармы