
1. К вопросу об уважении к учителям, которого, как полагают многие, в позднем СССР было намного больше, чем сейчас, и которое сегодня некоторые требуют ввести принудительно. Инженер-нефтяник, который сам работал учителем в 1990-е, разбирает четыре популярных мифа (ссылка):
А. Учитель — самая трудная работа.
Б. Раньше дети были лучше.
В. Раньше учителей уважали.
Г. Раньше платили хорошо.
Если коротко, автор считает, что все четыре пункта довольно далеки от советских реалий. Учителей уважали, но далеко не всех, так как советские дети были теми ещё хулиганами: могли задирать учителей или сообща издеваться над ними. Зарплаты были значительно ниже, чем в большинстве других отраслей экономики, а также, добавлю от себя, у учителей не было ни доступа к блату, ни лёгких способов встать в очередь на жильё.
Отчасти это было справедливо, так как особенно трудной работой — по мнению Инженера-нефтяника — ведение уроков в школе также не является.
Я не учитель, поэтому не буду ни спорить с вышеизложенным, ни опровергать. Замечу, однако, что уважают тех, кто высоко стоит на статусной лестнице, то есть круто выглядит или может причинить неприятности. Если физрук может дать в морду хулигану, и ничего за это физруку не сделают, физрука будут уважать. Если математик приезжает в школу на машине за 20 млн рублей, его будут уважать. Если учительница химии выглядит и одевается, как Мелания Трамп, её будут уважать. Это не цинизм — это реализм.
Лично я вижу один рабочий способ заставить школьников уважать учителей, не ломая всю классно-урочную систему целиком. Надо вернуть учителям возможность причинять неприятности, то есть разрешить им ставить неучам двойки и направлять хулиганов на расправу к штатному карателю. Не так, как сейчас, в форме фарса, а так, как было до 1917 года — чтобы двоечника вначале наказывали, оставляя что-то делать после уроков, например, а после нескольких неудач исключали из школы или оставляли на второй год.
Что касается собственно уважения к учителю, то оно, конечно же, необходимо. Учёба — это подражание, а эффективно подражать люди могут только тем, кого уважают. Поэтому «крутой» учитель не просто тешит своё эго — при прочих равных его питомцы учатся в два-три раза быстрее, чем у учителя, которого дети ни в грош не ставят.
2. Советская цензура в разное время запрещала Михаила Булгакова, Бориса Пастернака, Александра Солженицына. Мало того — даже Ильф с Петровым были некоторое время при Сталине запрещены. Цитирую (ссылка):
В документе, осудившем выход «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка», говорилось, что выпуск дилогии тиражом 75 000 экземпляров является «грубой политической ошибкой»: «Редактор отдела советской литературы тов. Тарасенков даже не прочёл этой книги, целиком доверившись редактору книги т. Ковальчик». В перечне причин, по которым книга Ильфа и Петрова объявлялась «вредной», указывалось, что авторы романа о поисках сокровищ, не сразу поняв направлений общественного развития в СССР, «преувеличили место и значение нэпманских элементов». Директивная часть постановления поручала критику Владимиру Ермилову подготовить для «Литературной газеты» публикацию, «вскрывающую клеветнический характер книги Ильфа и Петрова».
<…>
Запрет на издание произведений Ильфа и Петрова продолжался с 1949-го до середины 1950-х годов. В годы ранней хрущёвской оттепели, позволившей «реабилитировать» дилогию об Остапе Бендере, выход романов сопровождался комментариями, которые свидетельствовали о продолжении литературоведческих дискуссий вокруг идеологических взглядов соавторов. Так, писатель Константин Симонов, участвовавший в выпуске первого после паузы издания «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка» («Художественная литература», 1956), отметил в предисловии, что Ильф и Петров были «людьми, глубоко верившими в победу светлого и разумного мира социализма над уродливым и дряхлым миром капитализма».
Лично я здорово сомневаюсь, что Ильф и Петров глубоко верили в победу социализма над капитализмом. Во-первых, репрессии коснулись их близко — к примеру, в 1938 году Сталин расстрелял тестя Евгения Петрова, Леонтия Грюнзайда. Мужчине был 61 год, и единственная его вина заключалась в том, что он принадлежал к неправильному сословию — занимался до революции коммерцией.
Кроме того, Ильф и Петров были в 1935-1936 годах в США, причём не в составе официальной делегации, а в как писатели-репортёры. Они купили новый автомобиль «Форд», за два месяца пересекли Америку от Атлантики до Тихого океана и обратно, побывали во многих городах, осмотрели массу достопримечательностей, встретились с несколькими знаменитостями, включая Генри Форда.
Учитывая острый ум и наблюдательность авторов — а из их книг мы можем заключить, что они обладали и тем, и другим — я вынужден сделать вывод, что никаких иллюзий по поводу победы социализма над капитализмом Ильф и Петров не испытывали.
3. Беня Лазерман пишет в комментариях, что в дореволюционной русской литературе были и откровенно антиреволюционные произведения. Товарищ Крупская, разумеется, решила их в школьную программу не включать. Цитирую (ссылка):
Был такой прекрасный русский писатель Всеволод Крестовский. Те, кто его знает, знакомы с ним, в первую очередь, по роману «Петербургские трущобы». Второй из его больших романов называется «Кровавый пуф». «Пуф» в данном, архаичном значении нужно понимать, как «надувательство, нелепая выдумка».
Это антинигилистический роман о событиях 1861-1864 годов: освобождении крестьян, польском мятеже и антиправительственной деятельности той прослойки, что нынче зовётся «белоленточным хомячьём», а в те годы — социалистами и нигилистами. Отличная прививка от нигилизма молодым людям. Автор умело срывает всяческие покровы, а читатель не перестаёт удивляться аллюзиям с нынешними событиями: те же вечно всем недовольные студенты/сектанты/[свидетели Гибнущей России], то же поношение власти, те же лондонские подстрекатели и подрывная литература – в данном случае Герцен с его «Колоколом», те же националистические сепаратисты, в данном случае польские.
На мой взгляд, лучше всего революционную идею освещают «Бѣсы» Достоевского. Неудивительно, что при Сталине роман был запрещён, а после смерти вождя разрешён, но пессимизирован — издавался только в составе собраний сочинений.
Также мне кажется, что русская литература 19-го века содержит ещё немало скрытых сокровищ, которые имеют полное право встать на одну полку с общепризнанными классиками.







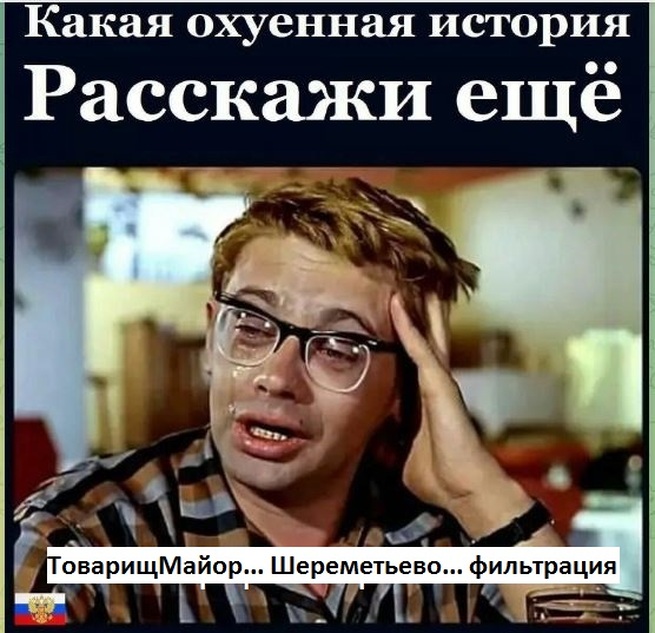
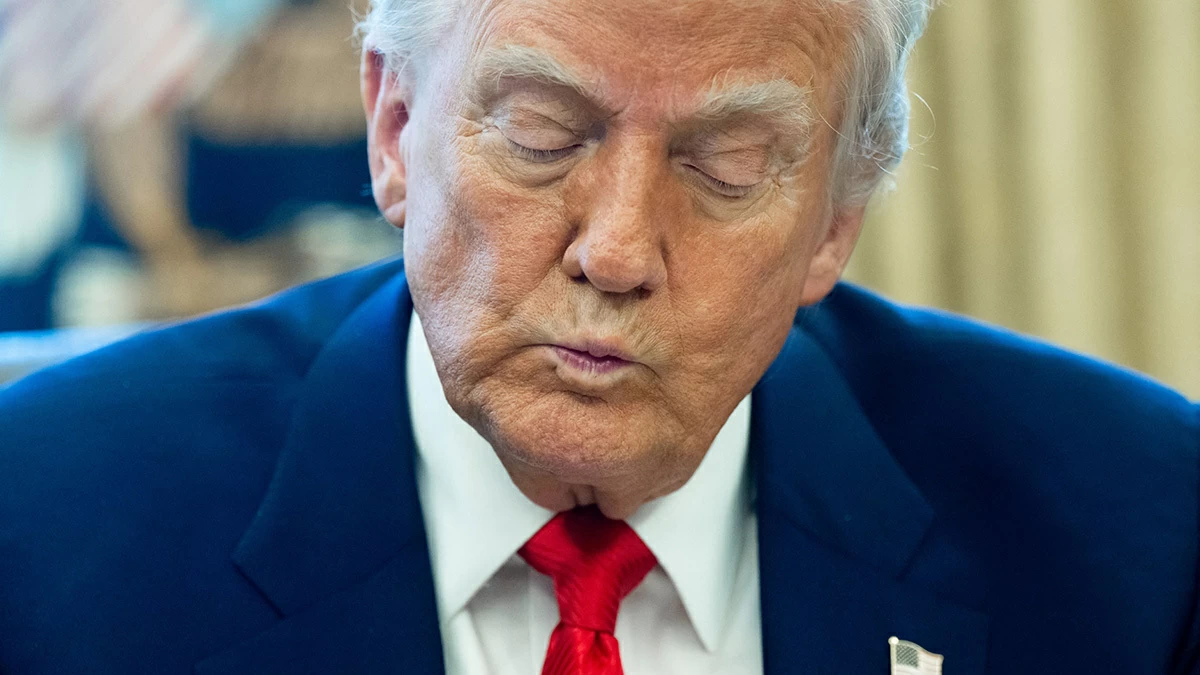
Оценили 30 человек
43 кармы