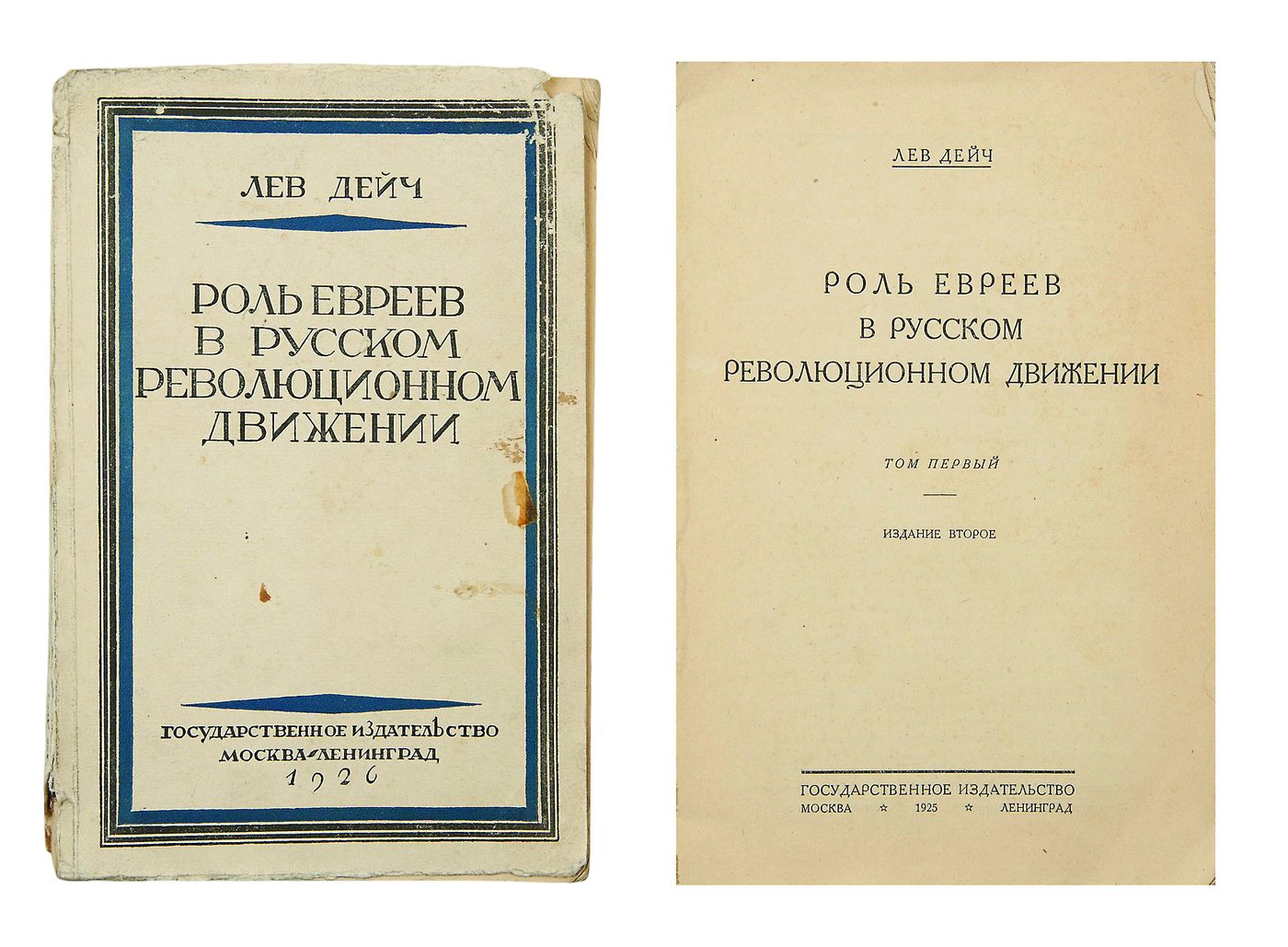
Том I ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД Главлит № 40597. ГИЗ. № 9792. Тираж 5000 экз.
"Типография Госиздата «Красный Пролетарий». Москва, Пименовская, 16.
Предисловие Проф. Столешникова А.П.
Лев Дейч http://www.hrono.ru/biograf/deich.html – это старший «тов-ариц» Троцкого. На этом фото Лев Дейч справа, Парвус слева, в центре молодой Троцкий: http://www.trotsky.ru/img/album/1906.jpg После победы еврейской, под кодовым названием «большевистская» «революции» в России, Дейчу уже было много лет. Поэтому ему поручили лёгкую работу – собирать материалы по истории революционного движения в России. Лев Дейч выпустил несколько книг, из которых эта – с прицельным названием «РОЛЬ ЕВРЕЕВ В РУССКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ» имеет наиболее интригующее нас название. - Почему? Потому что, мы, выросшие в СССР, не помним, чтобы вообще в нашем образовании и воспитании где-либо вообще так ставился вопрос. Революция в России – «Великая, Октябрьская» всегда считалась по дефолту, дескать, делом пролетариата – «пролетарской революцией» - «народной революцией», и допустить роль в ней евреев, которых трудно заподозрить в принадлежности к пролетариату, значит допустить её «мелкобуржуазность», а это уже трещина во всей концепции. Видимо именно поэтому, мне не удалось найти информацию, а вышел ли вообще второй том книги. Но материал-то на него был, если он уже стоял в планах издательства! Значит роль-то евреев была большая! Но цель этой книги Дейча совсем другая – показать, что роль евреев в революционном движении в России была даже не второстепенной, а третьестепенной, если не вообще ничтожной, то есть вообще никакой. Вот Дейч на стр. 10 нумерации Дейча, говорит «евреи играли третьестепенную роль, лишь в немногих случаях второстепенную». При этом его определение евреев, если не заподозрить в нём нечестность можно назвать в лучшем случае наивным.
Дейч тут, как и Солженицын, по выражению самого Солженицына, «ушёл в глухую несознанку». Вот на стр. 9 нумерации Дейча он, например, он считает евреев принявших христианство – гоями!
«Единственным исключением, насколько мне известно, является Николай Утин, прикосновенный к обществу «Земля и Воля», но и он лишь наполовину был евреем, так как отец его принял православие».
Вот характерное высказывание по ходу книги: «Я вовсе не еврей,—заметил ему пришедший,—а христианин,—и он назвал свою фамилию». Утверждение, типа, католик не может быть евреем.
Также для Дейча не является евреем человек, у которого русскоподобная фамилия на «ов»-«ев». И прочие подобные примитивные еврейские «штучки», рассчитанные на гойское сознание 19-ого века. Таким образом, Троцкий для Дейча не еврей, а «поляк». Однако своей книгой, даже только одним первым томом Дейч доказал прямо противоположное тому, что хотел доказать, - что, якобы, в организации государственного переворота в России в свою пользу евреи, играли «третьестепенную роль, лишь в немногих случаях второстепенную». Когда читаешь книгу Дейча от еврейских фамилий рябит в глаза – прочтите хотя бы алфавитный указатель в конце книги. А если смотреть по руководству подпольных организаций – там гоям делать нечего вообще.
Книга читается залпом, как детектив, с этой стороны вы Россию конца 19-ого века никогда не читали, - это совсем другая, действительно, изТОРИЯ России.
Эта книга изумительным образом вскрывает изнутри механизм внутреннего функционирования еврейской среды и её международные связи.
Кроме того, если читать внимательно, то эта книга является учебным пособием по методам организации революционной борьбы и перспективам успеха того или другого метода.
Видимо поэтому эта книга редчайшая библиографическая редкость и была изъята отовсюду, мне удалось её приобрести чисто случайно в Нью-Йорке у человека, отец которого эмигрировал ещё в революцию. На Интернете этой книги нет, поэтому я её сам отсканнировал и с большим удовольствием представляю вам.
Проф. Столешников. А.П.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.
Предлагаемые записки имеют относительно давнее происхождение: задумывался я над этой темой, лелеял мысль написать брошюру по поводу участия евреев в русском революционном движении еще в самом начале восьмидесятых годов,—вскоре после первых крупных антиеврейских погромов, разразившихся во многих местностях юго-западной России вслед за убийством народовольцами «Царя-Освободителя». До этих печальных событий, повлекших за собой чрезвычайно крупные последствия, никому решительно из нас, революционеров,—насколько могу теперь припомнить,— не приходило на ум предположение о необходимости вы пустить в свет брошюру или статью, специально трактующую о (евреях в связи с революционным нашим движением. Не чувствовалось никакой надобности в подобном литератур ном произведении, потому что ни в прогрессивной части русского общества, ни тем более в нашей среде не существовало ни малейших разногласий по поводу отношения к евреям, лишенным тогда элементарных политических прав. Но погромы, сопровождавшиеся в начале восьмидесятых годов насилиями и убийствами обездоленных и беззащитных евреев, пробили брешь во взглядах некоторых представителей интеллигентных профессий: по разным мотивам и причинам, отчасти; вследствие господствовавших в то время народнических воззрений, стали раз даваться голоса, оправдывавшие темные, невежественные массы ввиду «эксплуататорских», «хищнических наклон новостей» еврейского населения. Даже сама «Народная Воля», эта наиболее "крайняя революционная партия, пользовавшаяся чрезвычайной популярностью, в лица некоторых ее членов не избегла крупного промаха] в этом вопросе, о чем подробно сообщу ниже.
Не дремал, конечно, и всесильный тогда Департамент государственной полиции: он хорошо учел и народный взрыв против несчастных бедняков и несправедливые, бестактные оправдания погромов разными недоумками. Тогда-то впервые начали утверждать—и чем дальше, тем все чаще и настойчивее—всякие правительственные агенты, будто все зло на Руси, все постигающие ее бедствия происходят от евреев: не будь их, не было бы революционного движения, не убили бы «батюшки - царя», осчастливившего крестьян дарованной им свободой от крепостной зависимости; евреи—главные инициаторы и организаторы всяких преступных тайных обществ, заговоров и пр.
Новый царь, Александр III, еще в качестве наследника известный как ярый антисемит, ухватился за эти нелепые обвинения целой нации, и на головы несчастных евреев посыпались всевозможные скорпионы: еще более ограничили «черту их оседлости», сузили и до того незначительный круг дозволенных им занятий, введена была «процентная норма» при приеме их в учебные заведения, до ужасных размеров довели ссылку еврейской молодежи административным порядком в самые отдаленные места Якутской области и т. д.
С другой стороны, эти же антиеврейские погромы, в связи с упомянутыми выше возмутительными объяснениями их со .стороны даже некоторых передовых русских людей, вызвали среди значительной, если не сказать — преобладающей части моих соплеменников взрыв негодования, возмущения и огорчения. Не только вообще интеллигентные евреи, но и некоторые революционеры-евреи, раньше не чувствовавшие ни малейшей связи со своей национальностью, так как они вполне ассимилировались с христианами, вдруг признали себя обязанными посвятить свои силы и способности несправедливо преследуемым их соплеменникам.
Вместе с моими ближайшими товарищами—П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич, Г. В. Плехановым, В. Н. Игнатовым, С. М. Кравчинским—я находился тогда в эмиграции. Доходившие до нас известия о возникшем на родине антисемитическом
движении чрезвычайно нас всех огорчали. Мы считали необходимым отозваться на это новое, крайне печальною явление и были вполне солидарны, в его оценке, но несколько расходились в определении способа, пути для решения еврейского вопроса в России. Так, между прочим, помню, что одно время П. Б. Аксельрод отстаивал необходимость переселить евреев в Палестину, с чем мы, остальные, совершенно не соглашались.
Тогда же впервые возникла у нас с ним мысль о выпуске брошюры по поводу погромов и раздававшихся по адресу евреев обвинений. Подумывал и я взяться за нее, но вскоре затем нашел, что в переживаемый тогда моими соплеменниками крайне тяжелый момент неизмеримо большее значение для них приобретет такое произведение, если оно будет написано известным социалистом из христиан. И я, а также Аксельрод попеременно обращались с этим предложением к Плеханову, Лаврову, Кравчинскому (Степняку). Но каждый из них, вполне соглашаясь относительно необходимости этой брошюры, находил более подходящим в качестве автора не себя, а кого-нибудь другого из только что мною перечисленных известных эмигрантов. Поэтому всеми признаваемая крайне нужной в ту пору: печатная защита угнетенной нации со стороны русского социалиста так и не увидела света.
Вскоре затем,—весной 1884 г.,—я был выдан Бисмарком русскому царю и надолго отправлен в Сибирь на каторгу, где, понятно, был лишен права; о чем-либо писать. Но мысль выступить на защиту своих соплеменников никогда меня не оставляла. Однако, возможность осуществить ее—и то лишь отчасти—явилась у меня только лет 15 тому назад, когда судьба забросила меня в Нью-Йорк.
Это было в самый разгар столыпинщины и щегловитовщины, когда преследования евреев достигли кульминационного своего пункта, вылившись в знаменитое дело Бейлиса, ввиду т ого же вздорного предлога, будто главными, если не единственными виновниками принимавшего все более и более грозные размеры революционного движения в России являются евреи.
Редактор издающегося в Нью-Йорке в течение нескольких уже десятилетий на еврейском языке ежемесячного социалистического журнала «Zukunft» («Будущее») предложил мне написать ряд очерков об известных мне наиболее выдававшихся евреях—участниках русского революционного движения.
Я охотно согласился на это, но несколько расширил его предложение, задавшись целью написать в ряде статей, печатавшихся в названном журнале в течение трех с половиной лет, не только краткие биографии и характеристики большинства выдававшихся евреев - революционеров минувшего столетия, но попутно дать также сжатый очерк нашего движения той замечательной эпохи, ввиду полного незнакомства с ней читателей «Zukunfa». Но всемирная война и последовавшее затем мое возвращение в Западную) Европу лишили меня возможности довести до конца эту широко задуманную мною тему.
Нужно ли упоминать о дальнейших событиях, послуживших помехой появлению до сих пор этих записок на русском языке? Обремененный текущей работой во время Великой русской революции, я лишь изредка мог вспоминать о начатых в Нью-Йорке еще весной 1913 г. и не законченных осенью 1916 г. записках. Только теперь,—и то при крайне неблагоприятных внешних обстоятельствах,—я принялся за радикальную переделку,—за необходимые местами сокращения, а также и за значительные дополнения и исправления сохранившейся у меня русской рукописи статей моих, помещавшихся в «Zukufte» в переводе на еврейский язык.
Удастся ли мне на этот раз довести ее до конца? Кто знает! С своей стороны, я сделаю для этого все от меня зависящее, так как мне чрезвычайно сильно хочется оставить моим соотечественникам,— как христианам, так и единоплеменникам,—все или почти все существенное, что в течение более полувека я видел, передумал и испытал по поводу еврейской проблемы,—этого жгучего вопроса русской действительности не только в прошлом и настоящем, но наверно еще и в довольно далеком будущем.
Коснувшись во Введении, в самых общих чертах, вопроса об участии, евреев в русском революционном движении минувшего столетия, я затем подробнее останавливаюсь на наиболее выдававшихся их представителях, чтобы таким образом конкретно показать, насколько неправильна приписываемая многими, христианами, а также и некоторыми моими соплеменниками, евреям роль. Полагаю, все сколько-нибудь беспристрастные лица, по прочтении настоящей моей книги, должны будут признать, что я изображаю события и обстоятельства, поскольку это мне доступно, объективно.
В заключение замечу, что я далек от того, чтобы считать настоящие мои записки исчерпывающими данную тему: это, по-моему, лишь первая попытка,—подготовка материала.
Далее, само собой разумеется, я также не претендую на внесение какого-либо вклада в историю русского революционного движения, так как преобладающее большинство сообщаемых мною фактов и обстоятельств давно известно лицам, интересующимся нашим прошлым. Новы будут, быть может, лишь некоторые детали и личные мои впечатления! о многих встречавшихся мне участниках, а также кое-какие мои взгляды и признания.
Наконец, я также не обольщаю себя надеждой, что у меня нет промахов и ошибок. Вполне допуская их, как неизбежные в такой обширной работе, я заранее выражаю признательность тем, которые их укажут, руководствуясь стремлением к исторической правде.
Берлин-Шарлоттенбург, январь 1923 г.
7
ВВЕДЕНИЕ.
КРАТКИЙ ОЧЕРК ПОЛОЖЕНИЯ ЕВРЕЕВ В РОССИИ И ИХ РОЛИ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ.
1. В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I
.
Каждый сколько-нибудь интеллигентный человек в России знает, что наше освободительное движение ведет свое начало от Радищева (К характеристике крови самого Радищева. Явно не гой: http://www.rulex.ru/01170157.htm Прим. Проф. Столешникова), жестоко поплатившегося в конце царствования «матушки» Екатерины II за свою, в сущности, очень невинную книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Но русское революционное движение не находится в непосредственной, неразрывной связи ни с этим литературным произведением, ни с ужасной расплатой за него автора. Родоначальниками активной, смелой и открытой борьбы с господствовавшим в самодержавной, крепостной России произволом были, как известно, декабристы. Участниками основанного при Александре I тайного общества являлись почти исключительно военные, к тому же значительное число их принадлежало к высшей, титулованной аристократии,—князьям, графам, баронам.
Уже ввиду одного этого обстоятельства евреи не могли принимать участия в этом заговоре. (Дейч явно игнорирует вопрос о криптах. Прим. Проф. Столешникова)
Правда, к делу декабристов был привлечен принявший православие Григорий Перец, сын откупщика, но, по-видимому, произошло это потому, что было открыто его знакомство с Пестелем, с которым оп обсуждал план разрешения еврейского вопроса, не подозревая, вероятно, ничего о заговоре. В Еврейской энциклопедии сказано, что Перец был по деду декабристов сослан в Сибирь, но не указано, откуда это почерпнуто.
8
Но не только в этой отчаянной попытке — свергнув нового царя, установить федеративно - республиканский строй, — вполне отсутствовали евреи: они не участвовали также и в последовавших затем в России нескольких значительно менее «преступных» умственных движениях передовой части тогдашнего общества.
Известно сообщение Герцена о том сильном влиянии, которое имело на него и на его закадычного друга Огарева дело декабристов. Да не только на этих двух знаменитых наших глашатаев свободы чарующим образом действовали, толкая и их на тернистый путь борьбы, образы погибших на виселицах, а также страдавших в нерчинских рудниках и в лютой сибирской тайге; героев-мучеников, участников восстания 14-го декабря: они вдохновляли длинный ряд русских борцов в течение нескольких десятилетий.
Мне нечего долго распространяться, так как и об этом знает каждый мало-мальски образованный читатель,—о том, что ни в знаменитых кружках 30-х—40-х годов Станкевича и Белинского, а также Герцена, Огарева и др., ни в последовавшем quasi-опасном для целости России «заговоре» Петрашевского и товарищей, тоже не было ни единого еврея. Между тем, только лица, совершенно не осведомленные относительно процесса развития общественной мысли в России, могут отрицать колоссальное значение названных выше кружков для возникшего впоследствии у нас революционного движения.
Нужно ли мне, далее, останавливаться на появившихся уже в 60-х годах тайных организациях, на кружке Ишутина-Каракозова, Нечаева и др., чтобы напомнить, что и во всех этих организациях евреи также вполне отсутствовали.
Лишь в начале семидесятых годов, да. и то всего несколько евреев сознательно примкнуло к возникшему вновь в России, впервые после попытки декабристов, обширному революционному движению, но носившему, в отличие от того заговора, социалистический характер и задававшемуся совсем другими целями.
(Единственным исключением, насколько мне известно, является Николай Утин, прикосновенный к обществу «Земля и Воля», но и он лишь наполовину был евреем, так как отец его принял православие. Замечу здесь, что в настоящих записках я обхожу полным молчанием евреев, принимавших то или иное участке как в националистическом, так и в социалистическом движении Польши, так как не считаю себя достаточно в этом отношении осведомленным и не располагаю соответствующими литературными источниками).
9
Уже из этих немногих фактов видно, насколько соответствуют истине утверждения невежественных юдофобов, будто виновниками начавшегося с довольно отдаленного времени революционного движения в России являются евреи, что, не будь «жидов», на святой Руси не разразилась бы ужасная революция. Между тем история с несомненностью показывает, что прошло около полустолетия, прежде чем к антиправительственному, оппозиционному движению в России примкнуло всего несколько еврейских юношей. К тому же, как ниже увидим, в течение долгого периода времени евреи играли третьестепенную роль, лишь в немногих случаях второстепенную и только несколько евреев на протяжении полустолетия выдвинулись в первые ряды русского революционного движения. В этом отношении, как, впрочем, и во многих других, Россия представляет полную противоположность Германии, в которой, как известно, евреи Маркс и Лассаль явились главными основоположниками рабочего, социалистического движения.
Чем же объясняется столь позднее присоединение в России евреев к задолго до того возникшему в ней революционному движению? Формулируя ответ в немногих словах, нужно сказать: исключительным их положением в нашей стране.
С присоединением части Польши после ее раздела, а также юго-западного и северо-западного края к России, евреи, став подданными русского царя, в течение долгого времени оставались совершенно чуждыми всему русскому. Хорошо помню то время, когда мои соплеменники считали грехом учиться русскому языку, и лишь ввиду необходимости допускалось ими употребление его, конечно, только в сношениях с христианами («гоями»).
Скученные тысячами в жалких местечках и городишках, в которых не было ни достаточного заработка для ремесленников, ни торговли, еврейская масса обречена была влачить тяжелое, полуголодное существование, коснеть, в невежестве и предрассудках, фантастически придерживаться своей древ-
10
ней религии, а также старых обычаев и взглядов,—все это в значительной степени, вероятно, и до сих пор еще существует во многих глухих местечках юго-западного и северо-западного края, а также в Галиции.
Николай I, один из наиболее жестоких русских деспотов, относившийся с крайней ненавистью к евреям, решил «исправить» их, для чего сделал для них обязательной воинскую повинность, от которой они до того были освобождены. Не довольствуясь тем, что военная служба длилась целых двадцать пять лет и сопровождалась ужасной муштровкой, неимоверными наказаниями шпицрутенами, палками и кнутами, этот кровожадный царь ввел еще так называемый «институт малолетних рекрутов» или «кантонистов»: двенадцатилетних, а то и меньшего возраста детей отрывали от родителей и отправляли в далекие восточные окраины, навсегда разлучая их, с близкими. Этих несчастных мальчиков, путем всевозможных насилий и мучений, заставляли принимать православие, а в случае отказа их забивали до смерти.
Это, в своем роде, иродово избиение еврейских детей сопровождалось такими мучениями, что, при воспоминании о слышанных и прочитанных мною еще в юности сообщениях очевидцев или некоторых уцелевших бывших кантонистов, еще и теперь жутко становятся.
Тысячи малолетних, разутых, голодных, выбиваясь из сил, в стужу и непогоду, подгоняемые свирепыми дядьками, массами своих трупов устилали путь на восток
Не лучшая доля ожидала немногих остававшихся в живых из этих детей по приходе на места их назначения.
Наряду с этими бесчеловечными приемами «исправления» и «обрусения» евреев, венценосный изверг приказал обучать их русской грамоте. Нетрудно представить себе, как преданные слуги исполняли этот царский приказ.
11
На средства, известные под названием «коробочного и свечного сборов» и выжимаемые из самых бедных слоев еврейского населения, кое-где в черте еврейской оседлости; основано было несколько низших «казенных училищ», а также два средних, «раввинских училища», в Вильне и Житомире, для подготовки «казенных раввинов» и учителей. Лица, окончившие одно из этих средне-учебных заведений и выдержавшие экзамены по некоторым дополнительным предметам, принимались в университеты и некоторые специальные высшие учебные заведения. Еврейских мальчиков стали принимать также в гимназии, а по их окончании и в университеты, предоставлявшие, как известно, врачам и кандидатам прав из евреев кое-какие привилегии (право повсеместного жительства).
Но в течение очень долгого периода времени евреи, за крайне редким исключением, относились к «просветительным» мерам этого царя самым враждебным образом. В виде иллюстрации приведу интересное сообщение об этом П. Б. Аксельрода из автобиографического его очерка, предоставленного им мне в рукописи для моих записок, предназначавшихся для «Zukunftа, но пока еще мною целиком неиспользованных в печати.
«Нет худа без добра, замечает Аксельрод, нищенскому положению родителей я, главным образом, и обязан, что попал в школу для обучения еврейских детей русской грамоте, подготовившую моля к вступлению в гимназию.
«Школа эта, по убеждению евреев, устроена была правительством и содержалась на счет российской казны, с целью подорвать в их детях приверженность к священным заветам предков, к вере и обычаям еврейского народа, а, может быть, даже чтобы предрасположить и подготовить их к принятию христианства. Поэтому евреи, за крайне редкими, единичными исключениями, не посылали своих детей в «казенную школу», и ей постоянно грозила опасность совсем опустеть. Но это шло в разрез: с личными интересами смотрителя школы (он же был и учителем), христианина, производившего поэтому энергичное давление на ответственных представителей еврейской общины, в том смысле, чтобы они принимали меры к обеспечению школе необходимого минимума учеников.
12
И одним из средств давления на них, в случае недостатка учеников, служили разные придирки к меламедам, обучавшим детей в хедерах закону божию, талмуду, и угрозы закрыть эти хедеры по тем или; другим основаниям.
«И вот в такую-то критическую минуту я и попал в «гойскую» (христианскую) школу. Чтобы спасти душу большинства детей, власть имущие представители местных евреев решили пожертвовать душами детей нескольких бедняков. Не знаю, удалось ли бы склонить моего отца, фанатически слепо приверженного не только к «вере отцов», но и к одежде и ко всем мелочам, завещанным стариной, отдать меня в «гойское» учебное заведение, где от учеников требовалось, чтобы пейсы у них были более короткими, чем носили все другие евреи. Но его тогда не было в местечке, а мать усмотрела в школе средство или путь вывести меня «в люди». Слишком соблазнительно было для нее также и обещание официальных представителей общины сшить мне теплую одежду и сапоги, - зима была тогда лютая: против перспективы увидеть меня тепло одетым и обутым трудно было ей устоять. Мне еще давали два дня в неделю стол у зажиточных евреев. Таким-то путем я, год или два спустя после нашего переселения в местечко Шклов, очутился в учебном заведении, по окончании которого мог поступить в гимназию».
Это сообщение П. Б. Аксельрода относится к концу пятидесятых годов, следовательно, уже к царствованию нового либерального царя. Если в то время евреи столь отрицательно относились к обучению своих детей «гойской грамоте», то, само собой разумеется, во времена жестокого отца его они прибегали к еще более сложным приемам, чтобы избавиться от этой «опасной повинности».
Неудивительно поэтому, что евреев, получивших в царствование Николая I среднее, в особенности же высшее образование, можно было бы по пальцам перечесть. Одно уже это обстоятельство, полагаю, в достаточной степени объясняет, почему в это царствование совершенно не слышно было: о каком-либо участии евреев не только в оппозиционных стремлениях передовой части русского общества, но и вообще в умственной жизни страны.
Положение их, а вместе с этим и роль их, как известно, резко изменились со вступлением на престол Александра II.
13
2. ПРИ "ЦАРЕ-РЕФОРМАТОРЕ".
С наступлением нового царствования, прославившегося, как известно, в качестве либерального, реформаторского, кое-что перепало также и на тяжелую долю евреев. Александр II не проявлял необузданной ненависти и жестокости к моим соплеменникам, хотя, невидимому, и не питал к ним ни малейшей симпатии. Все же при нем они вздохнули с облегчением: кроме сокращения неимоверно длинного срока воинской повинности и полной отмены варварского учреждения кантонистов, евреи получили также кое-какие облегчения в правах жительства и занятий. Несколько облегчены были и условия приема еврейских детей и молодежи в средние и высшие учебные заведения. К тому же, под влиянием распространившегося с воцарением Александра II нового веяния, администрация относилась к евреям менее придирчиво, не проводила строго некоторых существенных для последних ограничений в их правах и нередко, как говорится, сквозь пальцы смотрела на те или иные нарушения низшими чинами «законов» против евреев, что, понятно, совершалось небескорыстно. Затем следует упомянуть, что генерал-губернатором юго-западного края состоял кн. Васильчиков, считавшейся либералом. Ввиду его доброго отношения к моим соплеменникам, помню с детских лет, как они отзывались о нем: «это не начальник, а отец родной». Попечителем учебного округа оказался также расположенный к евреям знаменитый хирург Пирогов, который своим гуманным отношением в сильной степени содействовал ослаблению враждебного отношения моих соплеменников к «гойским» школам и наукам.
Еще более важным, чем перечисленные, обстоятельством, заставившим евреев чувствовать расположение к новому царю, было наступившее некоторое улучшение в их экономическом положении.
Как известно, то было вслед за Севастопольским разгромом, когда патриархальная крепостническая страна, с господствовавшим в ней натуральным хозяйством, стала быстро превращаться в капиталистическую: началась усиленная постройка железнодорожных путей, создавались разнообразные промышленные и коммерческие предприятия, возникали акционерные общества, банки и пр.
14
В качестве преимущественно промышленно-торгового и посреднического слоя, многие евреи, благодаря начавшемуся в стране экономическому подъему, нашли в перечисленных выше предприятиях широкое применение своим силам и дарованиям, что, понятно, немало благоприятствовало улучшению материального их положения, а для немногих послужило причиной неимоверно быстрого их обогащения: достаточно назвать народившихся тогда архи-миллионеров ("Олигархов". Прим. Проф. Столешникова) Полякова, Варшавского, Бродского, Гинзбурга, Розенбергаи др.
Евреям, окончившим высшие учебные заведения, а также купцам 1-й гильдии и ремесленникам разрешено было устраиваться и вне «черты оседлости».
Все мною перечисленное в значительной степени содействовало как улучшению материального положения евреев, так и сближению их с Коренным населением. Не говоря о молодежи, быстро приобщавшейся к русскому просвещению, в 60-х годах среди евреев, живших в крупных центрах, можно было встретить и пожилых людей, не являвшихся уже ортодоксальными, а, наоборот, отказавшихся от многих предрассудков и принявших вполне европейскую внешность. Тогда же стали попадаться евреи, проповедовавшие ассимиляцию, слияние с коренным населением.
Я прекрасно помню, как на моих глазах начало коренным образом изменяться отношение моих соплеменников к «гойской» науке: прошло всего 10—12 лет со времени воцарения Александра II, как число евреев, поступавших в средние и высшие учебные заведения, быстро увеличивалось,—тогда не существовало возмутительной «процентной нормы».
Таким образом, даже незначительное лишь облегчение, полученное евреями при Александре II, в неизмеримо большей степени способствовало их обрусению, чем жестокие, насильственные меры, предпринятые для этого его кровожадным отцом. Здесь считаю уместным коснуться некоторых черт, присущих многим представителям нашей нации.
С большой практичностью некоторые евреи соединяют и чрезвычайную склонность к идеализму, оптимизму и фантастическим планам. При малейшем поводе евреи, кажущиеся даже вполне трезвыми реалистами, не прочь заноситься в заоблачные страны, готовы строить воздушные замки, предаваться мечтам о несбыточных планах и т. п. Этой черты не чужд был даже чрезвычайно практичный, гениальный Ф. Лассаль, мечтавший вслух, по сообщению некоторых его современников, о том времени, когда его изберут в президенты объединенной германской республики.
Несмотря на то, что набожный еврей посвящает много времени изучению старины, поглощая древние писания, он, однако, живет не прошлым, а тем менее своим неприглядным настоящим, но, преимущественно, воображаемым будущим: он мечтает о том времени, когда будет вновь восстановлен Иерусалим во всей прежней его красе, величии, могуществе.
(Вот на эту их цель и обратите особое внимание. Всё остальное – зачистка этой планеты от гоев – это необходимое условие этой цели. Прим Проф. Столешникова.)
Другие бедняки, перебивающиеся с хлеба на квас, обольщают себя надеждой, что вдруг Иегова даст им возможность разбогатеть, ведь испытывал же он терпение Иова, подвергая его лишениям и страданиям, и мало ли известно случаев, что бедняки стали богачами?
Эта склонность к витанию в области фантазий, объясняющаяся тяжелым прошлым нашего народа, имела благоприятное влияние на характер, а также и на судьбу евреев: благодаря отчасти этой черте, в связи с практичностью, выработавшейся у них многовековою, полной неисчислимых бедствий и страданий жизнью, у них развилась большая выносливость и, относительно, чрезвычайная живучесть.
С другой стороны, расположение евреев к мечтам и фантазиям обусловливает присущую многим из них склонность к новизне, к радикальным политическим и социальным переменам. Вот почему евреи охотнее других наций присоединяются к возникающим в странах, где они живут, новым течениям и партиям, что, сверх того, объясняется также бедственным их положением и ограниченными почти повсюду политическими и гражданскими их правами.
Но в сильной степени преувеличено существующее у некоторых представление, будто евреи всегда и везде являлись основоположниками новых общественных порядков: за крайне незначительными исключениями, евреи на протяжение долгой, многовековой своей истории мало выделялись инициативой, изобретательностью, способностью открывать и указывать другим совершенно новые пути, они лишь скорее других,
16
без особенно долгих колебаний улавливают преимущества той или другой теории и быстрее других усваивают их. Только очень набожные, ортодоксальные евреи, живущие в провинциальных, мало или совсем некультурных местностях западного края, консервативны, но и они остаются такими лишь до первого столкновения с широким внешним миром, с просвещением и цивилизацией. При незначительном даже прикосновении к «гойской» грамотности, еврею уже не трудно отказаться от предрассудков и суеверий, в которых, он и его предки коснели в течение многих веков, если не тысячелетий. Но раз сделана ,брешь в его ортодоксальном мировоззрении, он способен идти дальше до самых крайних пределов. Нужно только умело доказать нелогичность и неосновательность его устарелых взглядов, привычек, обычаев, и еврей способен от одной крайности быстро перейти к другой.
Примкнув в России к «гойскому» просвещению, еврейская молодежь вскоре затем присоединилась также и к наиболее передовому Общественному движению, распространившемуся в то время в нашей стране и с легкой руки Тургенева получившему название «нигилизм». Как мы ниже увидим, это умственное течение имело огромное влияние на судьбы России вообще и евреев в частности.
Отрицая устаревшие обычаи, восставая против неразумных взглядов, понятий, предрассудков, не признавая авторитетов и т. д., нигилизм прокладывал путь идее о равенстве всех без различия людей. Ему, между прочим, Россия обязана тем общеизвестным замечательным фактом, что в вашей малокультурной стране женщины стали раньше, чем в самых цивилизованных государствах, стремиться к высшему образованию, а затем и к равенству в правах с. мужчинами, что уже имело огромное значение, а в будущем, вероятно, сыграет еще большую роль в судьбах нашей родины, да, быть может, и веет цивилизованного мира.
То, чего, как сообщил П. Б. Аксельрод, столь боялись набожные евреи, а именно, что дети их, начав обучаться «христианской» грамоте, отступят от «веры отцов» и заветов старины, сделал вместе с «гойской» школой «нигилизм».
17
Нисколько не будет преувеличением, если я скажу, что в среде еврейской учащейся молодежи нигилизм сыграл еще более благотворную роль, чем в христианской. Оно и понятно
(В смысле подрыва основ существующего государственного строя. Этот нигилизм потом успешно сыграет такую же роль чрез 100 лет – когда евреи будут разваливать ССССР в пользу Израиля. Проф. Столешников).
Высшие слои коренного населения России в некоторой степени давно уже приобщились к западно-европейским взглядам, нравам и обычаям. У них, поэтому, еще до распространения нигилизма—отчасти под влиянием Франции, ее философов, романистов, театра, мод,—исчезли некоторые старые обычаи, взгляды и предрассудки. Иное положение было в невежественной, мещанско-купеческой среде, являвшейся преобладающим слоем, из которого выходила еврейская молодежь, стремившаяся к просвещению, образованию: здесь целиком господствовали нравы и понятия, совершенно аналогичные описанным Островским в его пьесах.
Еврейская девушка, например, не только не могла выйти замуж по любви, но до венца она не должна была даже видеть намеченного ей родителями, при содействии «шадхена» (свата), жениха. Без родителей или кого-либо из родственников она не могла никуда отлучиться из дома и т. д.
Принесенные братьями-гимназистами и студентами новые «нигилистические» взгляды, а также затем соответствующие сочинения выдающихся русских писателей произвели колоссальный и вместе чрезвычайно быстрый переворот в строе ветхозаветной еврейской семьи. Встречая со стороны родителей резкий отпор в стремлении к просвещению, еврейская молодежь, даже в самых глухих городишках, тайком уходила из дома, нередко с небольшим узелком и без всяких средств к существованию, чтобы учиться «гойским» наукам. Так, между прочим, поступила, ставшая впоследствии известной Геся Гельфман.
(На квартире которой собирались участники успешного покушения на Александра II. Прим Проф. Столешникова)
Столь же магическое влияние имели взгляды нигилистов и на закоренелых, казалось бы, молодых фанатиков, «ешиботников», погруженных в изучение талмуда и других древне-еврейских писаний: двух—трех бесед с ним нигилиста бывало достаточно, чтобы ешиботник расстался со всеми своими патриархальными взглядами, а также и со своей специфической внешностью, привычками и пр. Отказавшись от бесплодных занятий, которым этот недавний фанатик посвящал все свое время в течение многих лег, он затем принимался за изучение разных наук, в которых нередко оказывал большие успехи. Я знал таких «ешиботников», отличавшихся блестящими способностями; о некоторых сообщу ниже.
18
Вполне понятно, почему нигилизм имел большой успех среди молодых евреев: апеллируя к логике, разуму, доказывая необходимость доискиваться во всем смысла, последовательности, целесообразности, нигилизм отвечал тем именно запросам, которые толкали способных, а нередко и очень талантливых молодых евреев к изучению древне-еврейских писаний, в которых они, однако, не находили полного удовлетворения своим ненасытным стремлениям к знанию.
Но не только среди молодых евреев нигилизм пользовался популярностью: против него, по крайней мере в крупных городах, не особенно резко восставали и пожилые мои соплеменники. Сужу, правда, только по Киеву, где знал «на Подоле»,—«черте оседлости» в этом «святом» городе,—немало еврейских семейств, но не могу припомнить ни единого, в котором особенно отрицательно относились бы к нигилизму не только «дети», но даже и «отцы».
Не то, как известно, происходило в то же время в аналогичных слоях христианского населения: там из-за нигилизма молодого поколения происходили иногда довольно большие конфликты между «отцами» и «детьми».
В «нигилизме» обыватели готовы были видеть чрезвычайно опасное направление, могущее привести ко всевозможным бедам. Между тем, в действительности, «нигилизм» не представлял ни малейших опасностей для основ современного капиталистического строя. Скорее даже наоборот: он в некоторых отношениях поддерживал и укреплял его своим решительным отрицанием революционной деятельности и проповедью, вместо последней, мирного, постепенного движения вперед. Нигилизм признавал возможным прогресс человечества лишь как результат совершенствования отдельных индивидуумов.
«Живи согласно с разумом, руководствуйся правильными, логичными соображениями во всех своих поступках», проповедывали «нигилисты». «Раз образованные люди освободятся от всяких предрассудков и нелогичных воззрений, раз они будут вести свою жизнь соответственно современным знаниям, понятиям и воззрениям, то их примеру обязательно последуют вскоре другие, мало или вовсе еще некультурные слои населения; таким образом общество быстро изменится к лучшему, исчезнут недостатки и несовершенства людей, господствующая несправедливость заменится полным равенством и братством, без всяких над кем-либо насилий и революций».
Не в одних лишь указанных выше отношениях «нигилизм» сыграл у нас и, повторяю, (особенно среди евреев, огромную роль) крупное влияние его проявилось не только в быстрой эмансипации наших женщин, оно сказалось также в вопросах воспитания, в отношениях детей к родителям, воспитателям, к старшим, к авторитетам и т. д. Во внешних манерах, в обращениях друг с другом и пр. «нигилисты», как известно, отличались от людей своего же круга, но не примкнувших к этому благотворному течению, говорю «благотворному» потому, что, главным образом, ему русское общество обязано тем, что в короткое время, в каких-нибудь 10—15 лет, оно не только нагнало передовых западно-европейцев, но в некоторых отношениях даже значительно опередило их.
Особенно подробно, красноречиво и страстно, как известно, пропагандировал «нигилизм» Д. Писарев, отчасти также Добролюбов и Чернышевский.
(А у нас в СССР они изучались почему-то по школьной программе. Вот кто их в неё ввёл, и с какой целью? Прим. Проф. Столешникова).
Из столиц и университетских городов нигилизм проникал даже в глухие провинциальные захолустья и находил там адептов среди евреев.
Но и в это течение, как и в сменившее его затем революционное движение, евреи не внесли решительно ничего нового, своего, не обнаружили ни малейшей инициативы, никакой оригинальности: они только легко усваивали выработанные христианами понятия, идеи, привычки. Утверждаю это, как на основании знакомства с литературой того времени, так и на основании личных наблюдений.
В середине 60-х годов в нашем городе существовал довольно значительный кружок, состоявший исключительно из еврейской учащейся молодежи обоего пола и придерживавшийся всех взглядов и привычек, усвоенных нигилистами,—я также входил в него. На улицах Киева можно было часто встретить молодого еврея-студента или «футуруса», т.-е. экстерна, подготовлявшегося к окончательному гимназическому экзамену, в пледе, с длинными, как у духовных лиц, волосами и с толстой палкой в руках.
20
Девушки же, наоборот, коротко стригли свои волосы, одевались чрезвычайно просто и скромно. Эта безобидная внешность, однако, вызывала у одних насмешки, а у других негодование и возмущение. Между тем она тоже имела благоприятное влияние на нашу молодежь, так как приучала ее быть равнодушной к требованиям моды и не тратить на внешность» ни излишних средств, ни времени.
Во взаимных отношениях между молодыми людьми обоего пола, благодаря нигилизму, установились простота и доверие, которые столь выгодно отличают нашу передовую молодежь от западно-европейской.
Но еще более, чем этими ценными сторонами, нигилизм сыграл в нашей жизни огромную роль тем, что учил нас думать и отдавать себе во всем ясный отчет: этим он подготовлял в нас почву для восприятия других, проникавших к нам с запада новых, еще более прогрессивных взглядов, чем те, которые он проповедывал.
Из сообщенного мною выше, полагаю, ясно, что в шестидесятых годах евреям в общем жилось в России недурно. Выслушивая рассказы стариков о том, что приходилось выносить нашим единоплеменникам при Николае I, мы, естественно чувствовали себя почти счастливыми в изменившихся при его преемнике условиях, почему многие из нас чуть не благословляли последнего. Правда, мы все же были ограничены «чертой оседлости», были лишены многих прав, которыми пользовалось коренное население; но в течение довольно продолжительного времени мне, помню, не приходилось слышать жалоб и сетований по этому поводу: никто в нашей среде не останавливался на этих и других отрицательных сторонах условий существования евреев в России по следующим причинам.
Получив некоторые облегчения, из них одни являлись результатом общих реформ, а другие касались только нас, главными из таких были упомянутые сокращение срока военной службы и отмена системы кантонистов, евреи впервые почувствовали себя людьми, а не презренными париями, которых решительно каждый христианин мог совершенно безнаказанно оскорблять и всячески издеваться над ними.
21
К тому же, воспитавшись на передовой литературе, зачитываясь произведениями русских классиков, поэтов, беллетристов, критиков и публицистов, мы, еврейская молодежь, совершенно забывали, что принадлежим к преследуемой и нелюбимой коренным населением нации, что мы ограничены в правах, находимся в особенном, исключительном положении.
Помню, лет до 16 мне никогда не приходило на ум, что я чем-нибудь отличаюсь от моих товарищей - христиан. Правда, условия моего воспитания были отличны от обстановки, в которой росло много других евреев, но также ни в ком из моих сверстников-евреев я не замечал выражения угнетенного состояния, придавленности и отчужденности. Всем этим, мы сознавали, были мы обязаны «доброму царю» (dem guten Kaiser, как говорили евреи) и надеялись, что с течением времени мы получим от него, без всяких внешних на него давлений, полное уравнение нас в правах с русскими. Нам поэтому, в течение довольно долгого периода времени, всякого рода революционные попытки казались не только излишними, но и крайне вредными.
Когда, будучи еще десятилетним мальчиком, я узнал о произведенном Каракозовым покушении на царя, то заодно со взрослыми очень этим возмущался. Более того: как это ни покажется, быть может, странным, я должен признаться, что некоторое время не только наравне с другими единоплеменниками был поклонником и почитателем царя, но сверх того я являлся даже «патриотом». Длилось это, правда, не долго, и, заодно, с остальной прогрессивной русской молодежью, мы вскоре затем стали разочаровываться в Александре П.
Значительная часть русской передовой молодежи шестидесятых годов задалась, как известно, целью внести просвещение в темные массы населения, преимущественно столиц и некоторых крупных университетских городов, чтобы таким образом возвратить «долг народу». Для этого ею устраивались вечерние и воскресные школы, заводились «кооперативные», потребительные лавки, создавались швейные, переплетные и др. мастерские на артельных началах и т. п.
22
Рядом с этими чисто культурными и филантропическими стремлениями, выступавшие на литературном поприще знаменитые наши критики и публицисты «Современника» и «Русского Слова» Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Зайцев и др.—-знакомили нас с западно-европейскими передовыми взглядами и звали нас на деятельность в интересах обездоленных масс.
Всего этого не были чужды и мы, еврейская учащаяся молодежь, получившая с распространением «гойского» образования, возможность приобщиться к цивилизации, примкнув к обще-русскому движению.
Зачитываясь статьями упомянутых выдающихся публицистов и критиков, поглощая повести и романы Тургенева, Достоевского, Гончарова, заучивая наизусть стихотворения Пушкина и Лермонтова, Кольцова и, в особенности, Некрасова, (Могила Пушкина с магендавидом http://zarubezhom.com/Images/mogilaPushkina.jpg , могила Некрасова с магендавидом: http://zarubezhom.com/Images/nekrasovsion.jpg )
Мы, евреи, совершенно забыв об исключительном положении нашей нации в России, интересовались только общими, «мировыми» вопросами и стремлениями, занимавшими самых передовых, прогрессивных людей той эпохи.
(Этот они так называют дело Евреонала. Прим. Проф. Столешникова).
Подобно наиболее чуткой, отзывчивой молодежи коренного населения страны, мы также мечтали о той отдаленной поре, когда все люди будут равными, братьями, располагающими одинаковым благосостоянием, пользующимися всеми успехами науки, техники и пр.
Но мы, евреи, признавали, что путь к этому общему счастью человечества, когда не будет ни эллина, ни иудея,— далекий, длинный. Пока же, полагали мы, долг каждого честного человека, получившего образование, делиться последним с лицами, не имевшими возможности просветиться, и, вообще, всячески приходить на помощь ближнему: в качестве врача бесплатно лечить бедных, будучи юристом—безвозмездно защищать интересы несостоятельных клиентов и т. д.
Хорошее то было время. Чисты, бескорыстны были эти наши стремления; к тому же, даже по законам нашей самодержавной родины, они были вполне дозволенными, не подлежавшими преследованиям. Мы, евреи, поэтому, также устраивали бесплатные школы, мастерские и пр.
Но и тогда уже, как затем впоследствии, тысячи реакционеров, помнившие мрачную «николаевщину», с ужасом и возмущением смотрели на наступившие при новом царе вольные порядки и чуть не на всех перекрестках стали трубить о грозящей от передовой молодежи опасности «целости и невредимости престола и отечества».
23
Слабохарактерный, нерешительный Александр II, внимательно прислушивавшийся к этим наговорам мракобесов, вскоре по вступлении па престол стал обнаруживать отрицательные стороны своего характера. Как у Фауста, «в его груди также жили две души», из которых одна, влекла его вперед, на путь реформ, а другая тянула назад, к заветам закоренелого обскуранта и деспота отца. Поэтому предпринятые им нововедения были половинчаты, непоследовательны, что, как известно, вскоре вызвало общее недовольство, а это, в свою очередь, возбуждало у него негодование, злобу. Унаследовав от отца подозрительность и мстительность, Александр II уже в самом начале шестидесятых годов стал возмутительнейшим образом расправляться с лицами, осмелившимися высказать неудовольствие против ого политики: он приказывал гноить их в казематах страшного Алексеевского равелина ( См. П. Е, Щеголев: «Таинственный УЗНИК», 1920, СПБ). отправлять на каторгу без малейших юридических оснований и пр. Даже безобидные потребительные общества, а также столь полезные в сплошь тогда почти безграмотной стране вечерние и воскресные школы, возбудив, как известно, неудовольствие нового царя, были закрыты.
Все это не только не прекращало начавшегося в нем разочарования но, наоборот, еще усиливало его. Популярность нового царя стала быстро падать: стали раздаваться голоса, что от него нельзя ждать ничего доброго, резко изменилось благожелательное отношение к нему Герцена в пользовавшемся чрезвычайным влиянием в России «Колоколе», который он издавал в Лондоне.
(По сведениям американского Интернета Герцен-Херцен был внебрачный сын Ротшильда. Отсюда неограниченное финансирование. Прим. Проф. Столешникова)
Вскоре в Петербурге начали появляться подпольные листки, разъяснявшие безвыходность положения, созданного противоречивой, половинчатой политикой Александра. Затем возникли также тайные революционные организации, указывавшие на невозможность в России мирной, легальной деятельности в интересах угнетенных масс и призывавшие к насильственным приемам борьбы.
24
Наиболее значительной из этих организаций было, как известно, общество «Земля и Воля», в которое входил цвет тогдашнего передового поколения. В число его членов входил, как я уже выше упомянул, студент Николай Утин, но роль его была незначительна; к тому же, когда начались аресты, он бежал за границу.
Ввиду указанных фактов. Александр II, подумавший, что он облагодетельствовал своих «верноподданных», от которых, поэтому, ждал всевозможных проявлений признательности, пришел в неистовство, увидев вместо этого с их стороны «черную неблагодарность». Как и все самодуры и деспоты, он, с одной стороны, забывал, что к предпринятым им реформам его принуждал неизбежный ход развития страны, а не добрая его воля, с другой, он еще сильнее поддавался влиянию злобных и бессмысленных нашептываний своих тупых реакционных советников, твердивших ему, что в возникавших в стране, в сущности, незначительных и совершенно неопасных для его трона, выступлениях отдельных представителей молодежи виновато, будто бы, решительно все передовое общество.
Одной из самых возмутительных и в высшей степени несправедливых расправ Александра II была, по общему признанию сколько-нибудь порядочных людей, отправка им на каторгу, а затем на бесконечное заточение в Вилюйске даровитейшего публициста Н. Чернышевского, в сущности за то только, что он пользовался огромным влиянием на передовую часть общества и молодежи. Насильственного лишения России этого на редкость благородного и выдающегося ученого, который был бы украшением и гордостью любого более культурного и цивилизованного государства, чем наша страна, этого преступления передовая часть общества, в особенности же молодежь, не могла ему простить в течение последовавшего затем почти двадцатилетнего его царствования.
Чрезвычайная мстительность и временами также жестокость нового царя, проявлялись, чем дальше, тем все сильнее и чаще. Особенно резко стали у него выдвигаться на первый план унаследованные от отца отрицательные черты, как известно, после польского восстания 1863 г., для усмирения которого он обратился к звероподобному Муравьеву вешателю.
25
Этим царь-«реформатор» вполне сравнился со своим дядей Александром «благословенным», предоставившим управлять своей «вотчиной» столь же кровожадному зверю—Аракчееву.
В особенности, по-видимому, возмутило Александра II недовольство передовой части общества самою крупною из предпринятых им реформ - освобождением крестьян: как тогда уже предсказывали честные и дальновидные люди, с Чернышевским во главе, основания, на которых произведен был этот важный акт, были столь несправедливы и невыгодны для крестьян, что им неизбежно предстояло из одной кабалы попасть в другую—не менее тяжкую—к землевладельцам же, да к чиновникам, купцам и кулакам, как это вскоре затем и произошло.
Явившийся мстителем за обиженных и «обманутых» крестьян студент Каракозов, стрелявший в царя (4 апр. 1866 г.), http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Karakozov_by_Repin.jpg
был совершенно одинок; тем не менее, этот нелепый поступок молодого фанатика пришелся как нельзя более на руку окружавшей Александра II клике извергов, давно уже доказывавших ему, что мягкостью и уступчивостью требованиям «врагов престола и отечества» он приведет страну к гибели, а себе подготовит участь Людовика XVI.
Неудивительно, поэтому, что не отличавшийся ни сильной волей, ни выдающимся умом, а являвшийся лишь средним во всех отношениях человеком, Александр II после покушения Каракозова потерял всякое представление об окружавшей его, довольно сложной действительности и уже без колебаний перешел целиком на сторону злейших врагов молодой России.
Для «спасения» страны царь вновь обратился к Муравьеву-вешателю. Усердие этой гончей собаки в вынюхивании «следов страшного заговора», будто бы подготовившего произведенный Каракозовым выстрел, дошло до того, что в числе «корней и нитей» Муравьев-вешатель заподозрил даже родного брата царя, великого князя Константина, считавшегося либералом.
Признав одной из главных причин недовольства передовой части общества и молодежи «чрезмерную свободу», которой, по утверждению реакционеров, будто бы пользовались учащиеся, Александр II назначил министром народного просвещения, в pendant к Муравьеву-вешателю, гр. Д. А. Толстого, столь же заядлого мракобеса, уже тогда приобревшего незавидную репутацию, но затем прославившегося в последовавшие годы, а особенно при Александре III, в качестве министра внутренних дел.
26
Этот тупой и жестокий обскурант очень скоро восстановил против себя всех сколько-нибудь здравомыслящих людей, так как наилучшим средством для искоренения, будто бы, присущей всей учащейся молодежи склонности к революционной деятельности, он признавал введение классицизма в гимназиях. Последнее осуществлялось до того нелепо и жестоко, что ближайшими его последствиями были массовые исключения учеников из гимназий, что повлекло за собой многочисленные самоубийства, затем привело к диаметрально противоположным последствиям,—к усилению недовольства правительством и, действительно, к возбуждению у многих юношей склонности к революционной деятельности.
Кроме указанных мер, предпринятых озлобившимся царем для искоренения «крамолы», изданы были еще и другие репрессивные распоряжения, разразившиеся над всеми «верноподданными» и, следовательно, мстившие тысячам и десяткам тысяч не только совершенно ни в чем неповинных людей., но затрагивавшие также и лиц, даже враждебно относившихся к анти-правительственным актам, которые затевал очень незначительный тогда контингент революционеров. Масса лиц подвергалась ночным обыскам и арестам без всяких поводов и оснований, нередко вследствие наговоров или мести со стороны услужливых добровольцев-обывателей и полицейских агентов. То был один из наиболее мрачных моментов в столь блестяще начавшемся и так всеми еще незадолго пред тем радостно приветствованном царствовании.
3. ОТНОШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ПЕРВЫМ РЕВОЛЮЦИОННЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ.
Насколько могу теперь припомнить, решительно никто из еврейской учащейся молодежи не подвергся никакому преследованию в связи с произведенными в разных местностях России многочисленными арестами после покушения Каракозова. Никого из моих соплеменников не было также и среди подсудимых по созданному Муравьевым-вешателем процессу Ишутина. Оно вполне естественно: евреи не только не имели тогда даже отдаленного прикосновения к оппозиционным кругам, недовольным противоречивой политикой царя-«реформатора», но, как я уже упомянул, они сами очень возмущались революционными попытками крайних элементов, вообще, а покушением, произведенным Каракозовым,— в особенности. «Покушаться на такого доброго царя - это тяжкое преступление», помню, говорили с негодованием мои соплеменники, и я, будучи тогда еще мальчиком, повторял это вслед за взрослыми.
Признательность евреев царю за предоставленные им в сущности незначительные облегчения была столь сильна, что она не только не ослабела к концу 60-х годов, но у многих передовых и даже крайних из нас она сохранилась вплоть до трагической его кончины. Признаюсь, что и я принадлежал к этим крайним: несмотря на все преступления Александра II, Я, однако, не признавал его заслуживающим такого финала.
Многие из нас мирились с отрицательными и противоречивыми актами его политики, так как мы все же признавали его лучшим царем, не только, чем его предшественник, но, вероятно, и чем преемник его, как это вполне и подтвердилось потом. Поэтому, передовая, но умеренная, «благоразумная» часть еврейской молодежи не выражала также ни малейшего недовольства даже тогда, когда задевались наиболее существенные интересы ее соплеменников, а также и в тех случаях, когда их товарищи-христиане довольно недвусмысленно высказывали свое отрицательное отношение к господствовавшим в стране порядкам. Не могу, например, припомнить не только случая самоубийства среди еврейских гимназистов, но и просто сетований моих товарищей-соплеменников по поводу введенной губительной классической системы, хотя она, быть может, в большей степени была несимпатична многим из нас, чем христианам, потому что шла в разрез с присущими нам, вообще, реалистическими наклонностями и стремлениями.
Столь же отрицательно, как и к покушению Каракозова на царя, преобладающее большинство еврейской молодежи отнеслось также и к чрезвычайно нашумевшему в начале 70-х годов знаменитому процессу нечаевцев.
28
В этом деле, охватившем значительно больший круг представителей передовой молодежи, чем предшествовавший ему ишутинский процесс, также не участвовал ни один еврей.
Таким образом, приведенные мною, данные, полагаю, вполне подтверждают мое заявление, что евреи не только не являлись инициаторами русского революционного движения, но что к тому же они далеко не сразу даже примкнули к уже возникшей, предпринятой христианской передовой молодежью борьбе.
Столь продолжительное отсутствие еврейской учащейся молодежи среди русских революционеров объясняется, конечно, прежде всего незначительным, вообще, тогда контингентом в средних и высших учебных заведениях евреев. Затем, как я уже подробно выше сообщил, мы были очень признательны царю, а потому чрезвычайно миролюбивы. Но, в свою очередь, эти наши чувства обусловливались общей нашей задавленностью, униженным положением евреев в стране. На нашу психику не могли, понятно, не влиять внушаемые нам старшими с младенческих наших лет предостережения ничем решительно не восстановлять против себя «гоев» вообще, а полицию в особенности.
Еврейские юноши, учившиеся в последних классах гимназии или в высших учебных заведениях, не могли, конечно, не знать, что малейшее проявление недовольства российскими порядками влечет за собой крайне суровые кары, что за этим следует знакомство со страшным тогда «Третьим отделением», о котором в публике циркулировали полные ужаса рассказы; о том, что из этого инквизиционного застенка провинившийся попадает в не менее ужасную Петропавловскую крепость, где он или погибает, будучи замурованным в «каменном мешке», или полуживой идет в тяжелых кандалах «по Владимирке».
Нужно было, поэтому, привыкнуть к мысли о сопряженных с политической деятельностью страданиях, необходимо было время для подготовки к этому своих чувств и нервной системы. Между тем, не только преследуемые, загнанные евреи, но и христианская молодежь, не испытывавшая никакого исключительного гнета, еще долго спустя не научилась не дрожать при виде жандарма. Но тяжело, известно, начале, а затем все само собой образуется, приходит своим
чередом.
Антиправительственные действия ни в какой стране и никогда не возникали без достаточных, точнее, без сильнейших к тому оснований потому уже, что насильственные приемы, как я только что указал, связаны для лиц, прибегающих к ним, со всевозможными страданиями, чего, естественно, каждый человек старается избегнуть. Поэтому, лица, желавшие так или иначе содействовать прогрессу, всегда начинали с мирных приемов и, только убедившись в невозможности достигнуть ими чего-нибудь, наталкиваясь на запрещения и преследования со стороны предержащих властей, переходили на насильственный путь борьбы. То же произошло у нас.
За редкими исключениями, все передовые люди, вступившие в революционные ряды, начали свою общественную деятельность на легальном, культурно-просветительном поприще и лишь постепенно, одни раньше, другие позже, вынуждены были правительственными преследованиями уйти в подполье. Это, повторяю, проделывал почти каждый из нас: несмотря на доказательства предшественников, что тщетны надежды добиться чего-либо мирным, законным путем, каждый из нас все же начинал с легальной деятельности.
Мы уже видели, к чему привело стремление передовой молодежи обучать трудящихся в воскресных и вечерних школах: »не только последние были вскоре закрыты, но и многие из добровольно учивших в них лиц были арестованы и разосланы в разные места. Такая же участь постигла решительно все без исключения аналогичные начинания отзывчивой, бескорыстной молодежи. На одном из этих предприятий остановлюсь несколько подробнее ввиду крупной его роли в дальнейшем ходе нашего революционного движения, а также и потому, что в нем еврей Марк Натансон явился первой жертвой оригинальной культурно-просветительной попытки.
В конце 60-х годов в Петербурге небольшой кружок, составившийся из нескольких тесно связанных друг с другом молодых интеллигентных юношей и девушек, в число которых, между прочим, входила также прославившаяся 12 лет спустя Софья Перовская, задался целью распространять среди учащихся хорошие книги: Бокля, Дрепера, Луи-Блана, Лассаля, Флеровского, Миртова (Лаврова) http://www.rulex.ru/01120027.htm и т. п. Для этого члены кружка стали скупать у книгоиздателей в больших количествах уже вышедшие такие книги или предлагали им выпустить в свет указываемые ими аналогичные перечисленным произведения, гарантируя взять определенное число экземпляров. Получив последние с установленной уступкой, они затем сбывали их учащейся молодежи по удешевленным ценам.
Марк Натансон, очень энергичный двадцатилетний юноша, проявил в этом, в сущности мирнейшем, культурно-просветительном предприятии большую инициативу, настойчивость и деловитость, что, понятно, не могло остаться незамеченным всевидящим оком третье-отделенских шпиков, после чего за сию «преступную деятельность» он был арестован и без суда, в административном порядке, сослан в отдаленное, глухое захолустье севера Европейской России.
Таким образом, этот еврейский студент является, если не первым, то одним из первых среди своих единоплеменников, поплатившимся тюрьмой и ссылкой за свою незапрещенную русскими законами деятельность: за покупку и продажу легально вышедших книг, хотя бы и в значительных количествах.
Как известно лицам, знакомым с историей русского революционного движения, из названного выше просветительного кружка возникла вскоре затем, не без влияния правительственных преследований, знаменитая организация «чайковцев»
(По всей видимости, связь между «чайковцами, Чайковским и «МХАТовской «Чайкой» гораздо ближе, нежели бы казалось на первый взгляд Прим. Столешникова),
не довольствовавшаяся уже указанным распространением легальных книг, а поставившая себе целью вести, опять же на первых порах, мирную пропаганду среди фабрично-заводских рабочих.
Можно без малейших преувеличений сказать, что с момента возникновения вплоть до своей гибели эта организация привлекла в число своих членов наиболее выдающихся и талантливых людей той замечательной эпохи, лиц, прославившихся затем, как на революционном, так и на разных научных поприщах. Достаточно назвать, кроме уже упомянутых мною, Перовской и Натансона, еще Клеменца, Кравчинекого, Шишко, Синегуба, Кропоткина, Чарушина.
31
А сколько сверх этих лиц погибло преждевременно по тюрьмам, в Сибири и на каторге, о которых ничего не; известно современникам. Не могу обойти здесь молчанием талантливейшего 19-тилетнего юношу Куприянова, заморенного жестокими жандармами и прокурорами в предварительном заключении, длившемся более четырех лет, по «процессу 193-х».
Среди «чайковцев» уже было несколько евреев, но лишь одного или двух из них можно сравнить по дарованиям, характеру, значению как в этой организации, так и в дальнейшей их деятельности с перечисленными мною выше видными участниками этого кружка.
То же самое приходится сказать и о филиальных отделениях этой организации, потому что, кроме Петербурга, «чайковцы», имели отделения также в Москве, Киеве, Одессе и в некоторых других городах. Среди тамошних «чайковцев» евреи, за крайне редкими лишь исключениями, о которых сообщу в своем месте, играли незначительные, только второ- и третьестепенные, роли.
Известно, что одновременно с «чайковцами», а также и позже их, возникли в разных концах России аналогичные кружки, ставившие себе те же или несколько отличные задачи, например, не пропаганду социализма, а агитацию на почве уже существующих у русских крестьян желаний, стремлений, требований. Тогда-то, в 1873—1876 г.г., и происходило знаменитое в истории России массовое движение передовой молодежи, названное «хождением в народ». В течение этого периода, длившегося три-четыре года, число евреев, принявших в нем активное участие, было крайне ограниченно, едва ли превосходило полтора-два десятка. Кроме того, ни одного из них нельзя поставить; в уровень с лицами, приобревшими в этом замечательном движении большую известность: кроме названных мною выше знаменитых чайковцев евреев периода хождения в народ нельзя также сопоставить и с не входившими в эту организацию такими крупными деятелями, как Ковалик, Войноральский, Рогачев, Мокриевич, Софья Бардина и мн. др.
Затем, в описываемое здесь время было также немало кружков, в которых евреи совершенно отсутствовали, а в большинстве случаев их бывало по одному, по два, при общем числе членов в один—два десятка.
Наконец, и в политических процессах, происходивших в первой половине 70-х годов—«Долгушинцев», «Дьякова-Сирякова», «Семяновского» и др.,—среди привлеченных не было ни одного еврея. Впервые попали в число подсудимых, да и то, как ниже увидим, мало, если не сказать—вовсе непричастные к политике трое молодых евреев по разбиравшемуся лишь в 1877 г. процессу по поводу «демонстрации на Казанской площади». Следовательно, только во второй половине 70-х годов, и то совершенно случайно, евреи впервые очутились на скамье подсудимых по политическому процессу. Одно это обстоятельство служит уже достаточным доказательством того, насколько незначителен был контингент евреев, примкнувших к. знаменитому движению «в народ», а также и того, как мала была виновность евреев, участвовавших в нем, даже с точки зрения тогдашних жестоких жандармов.
Действительно, за крайне незначительным исключением,—о чем сообщу ниже,—мы, евреи, в течение довольно продолжительного периода времени, входили преимущественно в правое, более умеренное крыло нашего движения первой половины 70-х годов.
Известно, что это движение возглавлялось, с одной стороны, бывшим проф. Артиллерийской Академии полковн. П. Л. Лавровым, а с другой,—знаменитым апостолом анархии М. А. Бакуниным; в то время как первый отстаивал мирную, постепенную пропаганду в народе социалистических идеалов, откладывая осуществление их на более или менее далекое будущее, второй, наоборот, советовал молодежи немедленно звать народ «на бой кровавый», на восстания, бунты. Последователями Лаврова являлись, поэтому, преимущественно наиболее умеренные, мирные социалисты—пропагандисты, а за Бакуниным шли самые крайние, решительные борцы.
В преобладающем большинстве евреи примкнули к «лавристам», и, лишь спустя некоторое время, с полным торжеством «апостола всемирного разрушения» над скучным доктринером Лавровым, немногие непокинувшие социалистического лагеря евреи перешли на сторону «бакунистов», называвшихся, как известно, также «бунтарями» и «народниками».
33
Если из незначительного контингента «лавристов» возможно Соломона Чудновского, и скоро совсем отставшего от движения д-ра Льва Гинзбурга причислить к второразрядным величинам, то среди еще меньшего числа «бакунистов» я могу назвать только одного крупного деятеля второго разряда П. В. Аксельрода.
Да было бы странно и необъяснимо, если бы евреи, лишь незадолго пред тем приобщившиеся к общеевропейской образованности, сразу заняли выдающиеся посты в самом начале массового революционного движения «в народ», возникшего в начале 70-х годов.
Чтобы стать сколько-нибудь видным пропагандистом, необходимо было обладать столь многочисленными и разнообразными свойствами, которых евреи той эпохи никак не могли сразу приобрести; не говоря уже о знании в совершенстве русского языка, что и теперь еще, полвека спустя, далеко не всегда встречается между образованными евреями, даже окончившими всякие высшие учебные заведения. Тем реже, понятно, попадались в ту отдаленную пору между нами лица, не выдававшие себя сразу, как говором, так наружностью и манерами. Между тем, пропагандист, намеревавшийся действовать среди крестьян, должен был не только знать всевозможные шутки, прибаутки, присказки, но также обладать особенным даром,—не всегда, как известно, имеющимся и у интеллигентов-христиан,—уменьем подойти, увлечь трудящегося человека: кому не известно, как в ту пору, немного лет спустя после освобождения крестьян, последние крайне враждебно относились ко всякому, кого они причисляли к «барам». Поэтому, даже из числа христиан можно назвать всего лишь трех-четырех интеллигентов, прославившихся в качестве хороших пропагандистов, обладавших способностью заинтересовать трудящихся своими рассказами. К таким счастливцам, возбуждавшим к себе среди нас зависть, помню, относили: Синегуба, Рогачева, Клеменца, Иванчина-Писарева, Екатерину Брешковскую и еще немногих.
Кроме этого «дара божьего», пропагандисту, чтобы приобрести большое влияние среди крестьян, необходимо было не только знать и уметь выполнять все разнообразные и сложные деревенские работы, но в выполнении их он должен был еще превосходить земледельцев,
34
а для этого требовались не только определенные сельскохозяйственные знания, навык и т. п., но также недюжинная физическая сила и большая выносливость. Обладателями всего этого оказались лишь немногие сыновья мелких помещиков, духовных лиц и казаков, с детства жившие в селах и станицах и не прекращавшие также потом, в каникулярное время, заниматься сельскими работами. Среди бывших немногих таких специалистов по земледелию я не могу припомнить ни одного еврея, что вполне понятно.
Почти исключительно городские жители, к тому же, в преобладающем большинстве принадлежавшие к наименее обеспеченным слоям населения, следовательно, жившие в крайне тяжелых материальных условиях, испытавшие всякие лишения, а то и хроническое недоедание, евреи-революционеры преимущественно являлись тщедушными, слабосильными, совершенно непривыкшими и неспособными к какому-либо физическому труду. Поэтому, никому из нас, евреев, отправлявшихся «в народ», не только не удавалось перещеголять в работах, в выносливости и вообще физической своей силой крестьян, как это случалось с Рогачевым, Кравчинским, Юрковским, Тищенко и др., но, наоборот, наши попытки на этом поприще терпели почти всегда полное поражение; иллюстрацией этого может служить мой рассказ «Как мы в народ ходили» («За полвека», т. I.). Ввиду этого, крайне ограниченное число евреев-пропагандистов и «народников», отправлявшихся «в народ», предпочитало выступать там в качестве фельдшеров, как это сделали Аптекман, Хотинский и др.
По этим же причинам, т.е. вследствие малого знания, если не сказать полного незнания, быта, привычек и нравов русского народа, евреи не могли также в ту эпоху являться и авторами необходимых для пропаганды листков, рассказов, сказок, песен, вроде популярных тогда «Чтой-то, братцы», «Четырех братьев,» «Хитрой механики», «Сказки о копейке» и т. д. Авторами этих произведений были исключительно интеллигенты-христиане—Иванчин-Писарев, Тихомиров, Варзер, Верви (Флеровский), Клеменц, Кравчинский, Синегуб.
35
Вообще, насколько могу теперь припомнить, среди нас, евреев, ни во время эпохи «хождения в народ», ни в последовавшей за нею террористической, не было ни единого популярного автора и ни одного оратора. Единственным писателем - евреем в течение всех 70-х годов является П. В. Аксельрод, но, во-первых, он печатался отчасти в легальных, а также к заграничных журналах, почти вовсе не попадавших в Россию, и, во- вторых-произведения его не были популярными, а публицистическими.
Все то, что я выше перечислил, как причины, мешавшие нам, евреям, стать выдающимися пропагандистами, еще в большей степени относится к «бунтарям»: чтобы занять выдающееся место среди последователей Бакунина, нужно было, кроме уже указанных редких вообще свойств, обладать еще и некоторыми специальными дарованиями, которыми не были наделены евреи того замечательного десятилетия.
Бунтарь не только должен был всегда быть готовым пожертвовать собою для народного блага,—на это охотно шли также и пропагандисты,—но, сверх того, ему необходимо было еще обладать способностью увлечь, повести за собою крестьян на бой, восстание, уметь организовать бунт, явиться инициатором этого; словом, быть, если не одаренным свойствами таких «орлов», как Стенька Разин и Пугачев, считавшихся, как известно, идеалами тогдашних революционеров, то, по крайней мере, быть равным ватажкам, вроде Болотникова, Булавина и т. п.
Откуда тощий, щуплый и робкий еврейский юноша, редко, в большинстве случаев, бывавший за чертой города, а то и местечка, в котором он до того жил, мог почерпнуть указанные выше способности, свойства и знания? Ясно, что обладание всем этим тогдашних евреев было бы необъяснимым чудом. Поэтому ограниченный, вообще, контингент евреев, принимавших участие в революционном движении описываемой мною здесь эпохи,—за крайне незначительным исключением, на которое ниже укажу,—занимался преимущественно не непосредственно пропагандой или организацией среди крестьян бунтов, а, главным образом, если не сказать почти исключительно, деятельностью среди городского населения,— т. н. интеллигенции, общества и лишь отчасти среди ремесленников и рабочих. Но еще в
36
большей степени им приходилось участвовать во внутри-кружковой работе, т.-е. вести разные сношения, добывать необходимые связи, средства, документы, устраивать конспиративные квартиры, типографии, заниматься перевозкой через границу транспортов с запрещенными изданиями и т. д., а в этих функциях трудно было проявлять особенные таланты и дарования. Единственными выдающимися деятелями в только что перечисленных областях в период господства народничества являлись Марк Натансон и Аарон Зунделелевич, о которых подробнее сообщу ниже; но и они проявили себя не в качестве теоретиков или практиков этого направления, а как организаторы некоторых специальных функций.
4. УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ в НАРОДНИЧЕСКО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ.
Известно, что «народничество», возникшее во второй половине 70-х годов, сыграло чрезвычайно крупную роль в истории нашего общественного и революционного движения. Но ни в разработке программы этого течения,—как в легальной, так и в подпольной литературе,—ни в практическом осуществлении ее евреи также не играли сколько-нибудь заметной роли: в этом течении, как и в предшествовавших ему, мы опять - таки исполняли лишь второстепенные функции.
Не говоря уже об отдаленных родоначальниках народничества, среди которых, наряду с Герценом и Огаревым, следует признать и славянофилов,— творцами течения, за которым в продолжение нескольких десятилетий удержалось это название революционного народничества,—были, главным образом, Бакунин и отчасти его русские последователи— Плеханов, Каблиц и др.; также и выдающимися практиками, стремившимися осуществить народническую программу революционным способом, исключительно являлись христиане: Дебогорий-Мокриевич, Стефанович, Мих. Попов, Ив. Дробязгин, А. Михайлов, Иванчин-Писарев, Ю. Богданович и др. Ни среди теоретиков, ни среди практиков этого течения также нельзя назвать ни единого крупного еврея.
Далее, известно, что наряду с народничеством стало развиваться,—начиная с 1878 г., с легкой руки Веры Ивановны Засулич,—так называемое террористическое направление, отодвинувшее деятельность в народе—среди крестьян—на второй план, а затем и совсем вытеснившее последнюю.
37
В этом новом течении, как и во всех предшествовавших ему, евреи тоже принимали лишь незначительное участие: едва ли я ошибусь, сказав, что участвовавших в террористических актах с конца семидесятых до конца 80-х годов было всего десять—двенадцать человек: Зунделевич, Гр. Гольденберг, Гобст, Витенберг, Христина Гринберг, Роза Гросман, Геся Гельфман, бр. Златопольские, Арончик, Млодецкий. Допускаю, что я кого-нибудь забыл; во всяком случае, число евреев-террористов было невелико, а из перечисленных мною лиц только Григорий Гольденберг и Млодецкий явились непосредственными исполнителями насильственных актов; все же остальные евреи были только второстепенными, хотя и очень нужными помощниками.
Никто из евреев не выдвинулся также в первые ряды ни в качестве теоретика террора, какими явились Лев Тихомиров, а отчасти Морозов и Кравчинский, ни как организаторы разных решительных предприятий, какими проявили себя: А. Михайлов, А. Квятковский, Желябов, Вера Фигнер, Софья Перовская и др. То же почти следует сказать и относительно, вообще, крупных практиков, какими среди террористов оказались Фроленко, Колодкевич, Ю. Богданович, Талалов и др. Единственный выдающийся в этом отношении еврей—А. Зунделевич был арестован в самом начале возникновения партии «Народная Воля», почему он и лишен был возможности проявить себя в предпринятых затем террористами сложных актах, направленных непосредственно против Александра П. Также и среди специалистов-изобретателей разнообразных метательных снарядов и бомб прославились Кибальчич, Ширяев, Исаев и Грачевский, а примыкавший к ним бывш. студент-технолог еврей Лев Златопольский, насколько мне известно, ничем особенным себя не проявил, потому, вероятно, что при бесспорной даровитости он был не вполне психически уравновешенным человеком.
Остается еще упомянуть о лицах, особенно выделившихся своей смелостью и отвагой при выполнении крупных террористических актов. Кроме выше уже упомянутых участников, я имею здесь в особенности в виду таких выдающихся лиц, как Вера Ивановна Засулич, Кравчинский, Халтурин, Баранников, Пресняков и Гриневицкий. К этой категории смельчаков следует причислить Млодецкого, Гобста и Витенберга; можно было бы также отнести и Григория Гольденберга, убившего губернатора Кропоткина, если бы он затем, после ареста, не опозорил себя выдачей всех и всего.
Незначительность контингента евреев и второстепенность их ролей вообще в террористической борьбе вполне подтверждается также происходившими в Петербурге и в других городах крупными процессами по так называемым террористическим делам в течение восьми—девяти лет. Так, по процессу Мирского, зимой 1879 г., за покушение на шефа жандармов, ген. Дрентельна, насколько могу припомнить, не был привлечен ни один еврей. По «Делу шестнадцати» (Квятковского, Преснякова и др.) фигурировали на скамье подсудимых два еврея: Зунделевич и Цукерман, но из них только первый имел непосредственное отношение к террору. По «Делу 1-го марта 1881 г.» также была, как известно, привлечена еврейка—Геся Гельфман, приговоренная к смертной казни и затем помилованная; но и ее роль, по сравнению с другими участниками этого процесса, была второстепенной.
Далее, по процессу «двадцати» (в 1882 г.) судились три еврея: Арончик, Лев Златопольский и Фриденсон,—последний не имел прикосновения к террору, а первые два играли в нем только незначительные роли. По процессу «семнадцати» (1883 г.) были привлечены: Савелий Златопольский, Христина Гринберг и Роза Гросман; из них только первый был замешан в покушениях на царя. В происходивших затем процессах Веры Фигнер (в 1884 г.) и по «Делу 1-го марта 1887 г.» не было ни одного еврея среди главных участников, привлеченных к суду, а по процессу Лопатина (1887 г.) привлечена была только одна еврейка Генриета Добрускина, но она имела очень незначительное прикосновение к делу.
Таким образом, по восьми крупнейшим процессам, по которым на протяжении девяти лет судилось в столице около ста двадцати человек, было привлечено всего десять евреев, из которых только два или три играли лишь второстепенную роль. Замечу еще, что среди двадцати лиц Дубровин, Соловьев, Пресняков, Квятковский, Млодецкий, Желябов, Перовская, Кибальчич, Т. Михайлов, Рысаков, Суханов, Штромберг, Рогачев, Ульянов, Генералов, Осипанов, Андреюшкин, Шевырев, Мышкин и Минаков - казненных за указанный период в Петербурге и Шлиссельбурге, был только один еврей,—Млодецкий, произведший бессмысленное, ничем не вызывавшееся покушение на гр. Лорис-Меликова; но, как было тогда же констатировано, он не был причастен к революционному движению: совершенное им покушение он предпринял самостоятельно.
(Даже по фамилиям видно что Перовская Кибальчич, Осипанов, Халтурин, Ульянов, Штромберг и вся эти мишпуха – криптоевреи. Прим. Проф. Столешникова)
В трех южных университетских городах, являвшихся, после Петербурга, важнейшими очагами революционной борьбы, контингент евреев-участников был несколько больший, чем в столице, что, понятно, обусловливалось как «чертой оседлости», так отчасти и приемами подвизавшегося на юге военного прокурора ген. Стрельникова: ярый антисемит, с неимоверной злобой и жестокостью относившийся к политическим—вообще, а к евреям—в особенности, он по пустякам привлекал к процессам мало или ни в чем неповинных еврейских юношей, требуя для них от военных судей самых суровых приговоров. Так, благодаря только его стараниям был в 1879 г. казнен в Киеве несовершеннолетний студент-еврей Розовский лишь за то, что он отказался назвать человека, передавшего ему найденную у него прокламацию.
Наиболее крупными террористами несомненно были Виттенберг и Гобст, но и между южными евреями также не было ни одного, кого можно было бы по дарованиям, инициативности и влиянию сравнить с выделившимися там же христианами: Вал. Осинским, Попко, Волошенко, Антоновым, бр. Ивичевичами, Лизогубом и несколькими еще др. В описываемое мною время не только судебный приговор определял отчасти степень преступности и важности данного политического подсудимого,—также и место отбывания им наказания указывало на отношение к нему властей. Посмотрим, поэтому, куда отправляли евреев-каторжан.
В средине 70-х годов наиболее важных политических каторжан отправляли в так называемые «центральные каторжные тюрьмы» Харьков, губ.—в Борисоглебскую и Чугуевскую, где для них создан был неимоверно жестокий, строго одиночный режим, ярко изображенный в нашумевшей в свое время брошюре, озаглавленной: «Заживо погребенные». Среди нескольких десятков этих последних не было ни одного еврея.
Туда, насколько помню, были отправлены «долгушинцы», затем осужденные по делу «Дьякова Сирякова», Донецкий, Боголюбов-Емельянов, судившиеся по процессу 50-ти: Джабодари, Зданович, Цицианов, а по процессу 193-х: Мышкин, Ковалик, Войноральский, Рогачов, Муравский, а также товарищи казненного Ковальского—Виташевский, Свитыч и др.
40
Затем, в 1880 г., начиная с Мирского, особенно опасных террористов стали содержать в страшном Алексеевском равелине, в котором из осужденных находился с 1872 г. один лишь Нечаев. Далее,—до того, как была перестроена не менее знаменитая Шлиссельбургская крепость,—начиная с «процесса 16-ти» и всех почти осужденных по упомянутому выше «процессу 20-ти» содержали в Трубецком бастионе, который отчасти исполнял роль каторжной тюрьмы для политических. Среди содержавшихся в этом бастионе при ужасном режиме находилось три еврея: Зунделевич, Цукерман и Арончик.
С переводом в отремонтированную Шлиссельбургскую крепость важнейших террористов, в ней до XX столетия томилось около 50 человек, значительная часть которых умерла и многие сошли с ума. Такова была участь и находившихся среди них Арончика, Сав. Златопольского, Геллиса (Несчастный молодой наборщик, приговоренный воен.-окр. судом в Одессе весной 1880 году (по делу Минакова-Властопуло) за пустяк к смертной казни замененной ему бессрочной каторгой, был затем привезен на Кару, а оттуда но недоразумению, отправлен в 1882 году в Петропавловскую крепость, потом в Шлиссельбургскую, где он вскоре и умер) и Софьи Гинзбург (окончившей самоубийством).
Из пяти евреев уцелел один только Оржих, подавший прошение о помиловании и потому отправленный на Сахалин. Там он был единственным, среди многих политических каторжан, евреем, отбывавшим наказание на этом суровом острове.
Главным же средоточием большинства менее опасных, по мнению властей, лиц, осужденных по политическим процессам на каторгу, начиная с 60-х и кончая 90-ми годами, являлись, как известно, мужская и женская каторжные тюрьмы на Каре (Нерчин. окр.). Там за весь этот довольно длинный период времени перебывало 217 «государственных», вернее—политических каторжан; в этом числе евреев было 23 человека (15 мужчин и 8 женщин). Вот их фамилии: А. Бибергаль, Геллис, Геккер, Дейч, Дрей, Добрускина, Зайднер, Лев Златопольский, Зунделевич, Кон, Левенталь, Лурье, Майер, Фанни Морейнис, Гросман-Прибылева, Ровенский, Фриденсон, Шехтер Софья и Цукерман. Впоследствии, уже в 90-х годах, были перевезены в Карийскую женскую тюрьму из Вилюйска еще четыре женщины, осужденные в 1889 г. в Якутске за знаменитое вооруженное сопротивление, оказанное административно-ссыльными при отправке их в Средний Колымск: Болотина, Вера Гассох (Гоц), Евг. Гурович и Перли. По этому же возмутительному процессу были перевезены также из Вилюйска, но не на Кару, а в Акатуевскую тюрьму: Год, Минор и др., а по процессу Софьи Гинзбург—Фрейфельд.
41
Все то, что я выше сообщил о евреях, действовавших в России, приходится сказать и по поводу лиц, находившихся в ту эпоху—в 70-х и 80-х годах—в эмиграции: там их также было относительно немного, и, как ниже увидим, они тоже играли лишь второстепенные роли.
После вышеизложенного считаю нужным поделиться моими сведениями и впечатлениями о наиболее крупных современниках-евреях, участниках русского революционного движения XIX века: мне пришлось непосредственно узнать почти всех сколько-нибудь видных, заметных евреев, в большей или меньшей степени участвовавших в политической борьбе, происходившей в России в последней четверти минувшего столетия. Полагаю, поэтому, что жизнь и деятельность этих лиц послужит уместной иллюстрацией к высказанным мною выше взглядам о преувеличенном значении, приписываемом некоторыми лицами роли евреев в русском революционном движении.
ГЛАВА I.
ЛАЗАРЬ ГОЛЬДЕНБЕРГ.
В начале своего царствования Александр II проявил себя, как известно, большим либералом, чем привлек к себе всеобщие симпатии. Свое вступление на престол он ознаменовал дарованием полной амнистии всем оставшимся в живых и томившимся в Сибири в течение целых тридцати лет декабристам. По поводу произошедших в первые годы его царствования столкновений между студентами и полицией он приказал произвести строжайшее расследование и по прочтении последнего признал виновной не молодежь, как то всегда бывало при его отце, а полицию, и т. п.
Но мы уже знаем, что беспристрастие и, вообще, гуманное отношение к своим подданным продолжалось не долго у слабохарактерного царя, легко поддававшегося влиянию своих тупоголовых советников: уже в самом начале 60-х годов, как известно, целый ряд возмутительнейших преследований посыпался, главным образом, на головы передовой части молодежи, стремившейся притти на помощь царю в его, казалось, искренних стремлениях повести страну по пути прогресса.
Так, летом 1861 г. мин. народ, проев, издал новый университетский устав, не дозволявший студентам устраивать кассы взаимопомощи, столовые, библиотеки и т. п. В столице, а затем и в других университетских городах начались, поэтому, волнения среди учащихся, с которыми расправлялись самым жестоким образом: давно озлобленная против студентов полиция, призванная «усмирять» их, пустила в ход тесаки, шашки и пр.; оказались раненые; произведены были многочисленные аресты и увольнения мало в чем-либо повинных и случайно попавшихся на глаза усмирителей молодых людей.
Среди огромного числа пострадавших во время этих знаменитых беспорядков попались также шесть евреев. В чем собственно они провинились по мнению строгого, но несправедливого начальства, мне в подробностях не известно. Но а priori можно сказать, что «преступления» их были не велики, так как вскоре затем им разрешено было вновь вступить в университет, где они окончили курс и стали мирными гражданами Вот фамилии этих студентов: Зеленский, Шмулевич, Кацен, Португалов, Бекман и Розен. И из них огромную популярность среди передовой еврейской молодежи 70-х годов приобрел ставший врачом в Самаре Португалов своими публицистическими статьями, печатавшимися в лучших журналах; он являлся защитником трудящихся масс, и мы, евреи, поэтому, ставили себе задачей со временем итти по его стопам,
Мне также неизвестно, участвовали ли, кроме этих студентов, еще и другие лица из еврейской молодежи в происходивших в некоторых высших учебных заведениях «студенческих волнениях» в 60-х годах. Знаю только об участии одного лишь еврея в крупных «беспорядках», произошедших в 1869 г. одновременно во многих высших учебных заведениях обеих столиц. То был Лазарь Гольденберг. Насколько мне известно, он также был одним из первых евреев, принявших затем участие в революционном движении последующих десятилетий. С него, поэтому, я начну свои очерки и остановлюсь на нем несколько подробнее, чтобы показать, какие именно обстоятельства и причины побудили еврейского юношу, благодарного, как я уже сказал, царю за его «доброту», примириться с мыслью о предстоявших ему всевозможных страданиях и посвятить себя делу освобождения обездоленных масс. При жизни Л. Гольденберга я в 1912 г. обратился к нему,—он жил тогда в Англии,—с просьбой сообщить мне биографические о себе сведения. Он охотно исполнил это, прислав мне довольно обширную рукопись, из которой приведу здесь наиболее существенные выдержки.
Лазарь Гольденберг родился в 1846 г. в местечке Попловске, Херсонской губернии. Отца своего, бывшего большим талмудистом, он лишился, когда ему было всего два года, а мать вскоре затем вторично вышла замуж за некоего Кауфмана, от которого имела еще сына, ставшего впоследствии видным ученым и профессором политической экономии.
44
Четырех лет Лазарь начал посещать хедер. «Одно осталось у меня в памяти из этого периода,—сообщает он в своей автобиографии,—меламед был настоящим палачом, разбойником: он бил нас жестоко, безжалостно, а по пятницам, отпуская нас домой до воскресенья, он особенно усердно порол нас, так сказать, «про запас», чтобы, помня день субботний, мы не шалили».
Затем, когда мальчику минуло восемь лет, бедные родители, скрепя сердце, принуждены были отдать его в «гойское» казенное училище, где, по сообщению Гольденберга, христианские учителя «также безбожно драли нас». Оттуда Лазарь попал в Одесскую гимназию. Особенно хорошо занимался он там по математике, к которой чувствовал большое влечение, но русский язык знал плохо, однако, в общем учился недурно. Отчим с матерью решили, по разным соображениям, перевести его в открывшееся там незадолго пред тем коммерческое училище, что они и сделали. Но Лазаря влекло к математическим наукам, и ему хотелось попасть в университет, а не заниматься коммерцией, так как он уже успел познакомиться с некоторыми произведениями наших передовых писателей, поэтов, беллетристов и публицистов,— с Некрасовым, Тургеневым-; Добролюбовым, Чернышевским, Писаревым.
«Помню,—сообщает он,—меня «Рудин» тем пленил, что он умирает на баррикадах во время революции 1848 г.».
Бросив коммерческое училище, Гольденберг стал готовиться к окончательному экзамену, который, после года усиленных занятий, выдержал в качестве экстерна и поступил в 1865 г. на физико-математический факультет Харьковского университета.
Еще будучи в коммерческом училище, ему пришлось услыхать от товарища-поляка скорбные рассказы о происходившем в то время польском восстании, что возбудило в нем живейшую симпатию к этому угнетенному царским правительством народу.
«Реформы Александра II,—сообщает Гольденберг,—имели для нас, евреев, громадное значение; мы за это чувствовали к нему большую признательность, и я, семнадцатилетний юноша, не мог понять, каким образом этот «добрый царь» мог позволить своим генералам и чиновникам мучить бедных поляков, когда нам он дал «свободу»: мы, действительно, почувствовали себя, с его воцарением, свободными,—антисемитизм, казалось, совсем исчез». (Возьмите на заметку это признание Лазаря Гольденберга. Прим. Проф. Столешникова).
45
Лазарю очень тяжело жилось в доме отчима: «он смотрел на меня, как на никуда негодного юношу, и я терпел от него всевозможные обиды и унижения»,—вспоминал Гольденберг на склоне лет.
Иначе, поэтому, почувствовал он себя, когда очутился в товарищеской среде в университете. Уже на первом курсе он, сообща с несколькими студентами, устроил кружок саморазвития для совместного чтения передовых журналов—«Современника» и «Русского Слова»—и обсуждений возникавших у них по этому поводу вопросов. В этот кружок входили также и молодые девушки.
Однако, жизнь в Харькове не удовлетворяла этого пылкого юношу, чувствовавшего в себе призвание к более широкой деятельности: его влекло в столицу, в самый центр общественной жизни. Вскоре затем он перевелся в Технологический Институт, где оказался чуть ли не одним из первых студентов-евреев. По выдержании им блестяще проверочного экзамена, его не только зачислили на 3-й курс, но и дали стипендию. Он считался хорошим студентом и прекрасным товарищем, готовым помочь каждому как в разъяснении трудных специальных вопросов, так и материально, насколько он был в состоянии уделять из 20 рублей ежемесячной стипендии. Занимаясь довольно усердно в Институте, он, однако, не переставал следить за нашей передовой печатью, и, «конечно, — как он сообщает, — по воззрениям, одежде, манерам я был совершенным нигилистом».
То было довольно глухое время,—вскоре после покушения Каракозова на царя и известных неистовств Муравьева-вешателя, о чем я уже выше сообщил. Никаких подпольных кружков, тайных сходок и т. п. молодежь не устраивала, а если кое-где они и бывали, то чрезвычайно трудно было приезжему новичку попасть туда. Но в 1868 г., на съезде естествоиспытателей, Гольденбергу удалось познакомиться
с несколькими студентами университета, и вот, однажды, они предложили ему притти на «тайную сходку».
«Это было первое такое собрание, на которое я попал,— писал Гольденберг в своей записке.—Там были, кроме студентов, и некоторые молодые писатели. Один из последних,— говорили, что это был знаменитый Писарев,—прочел какую-то свою непропущенную цензором статью, другой сообщил басню, изображавшую злоупотребления правительства и страдания трудящегося народа. По тому времени это уже являлось большим «политическим преступлением», за которое можно было попасть в Петропавловскую крепость, а оттуда в Сибирь».
После этого Гольденберг стал посещать и другие такие же тайные сходки, на которых молодые люди обсуждали положение народа и средства к облегчению его тяжелой участи. В то время появился в переводе на русский язык I том сочинений Лассаля, а также некоторые книги по кооперации.
«Все это,—писал мне Гольденберг,—имело большое на нас, учащуюся молодежь, влияние: начали устраиваться разные мастерские,—конечно, конспиративно,—в которых мы стали заниматься пропагандой». По инициативе Гольденберга была, между прочим, устроена на кооперативных началах химическая лаборатория для лиц, окончивших куре в Технологическом Институте, для того, чтобы они проработали в ней не меньше полугода до поступления на частный завод. Там же могли получить занятие инженеры-технологи, потерявшие службу за свою «неблагонадежность».
Студенты-технологи решили также устроить при Институте кухмистерскую, для чего из их же среды был выбран комитет. Дело пошло довольно хорошо. Но вскоре затем начались среди студентов известные волнения, находившиеся в связи с агитацией Нечаева. Во всех почти высших учебных заведениях обеих столиц происходили сходки, на которые часто являлся Нечаев, числившийся вольнослушателем петербургского университета. Целью его агитации, как известно, было вызвать среди учащихся высших учебных заведений большие беспорядки, после которых, как он знал, последует крутая расправа со студентами, а затем пострадавшие явятся адептами задуманного им плана создания обширной тайной организации, необходимой для изменения, революционным путем, существующего в России безобразного строя. Вот что об этом сообщает Гольденберг в своих заметках:
47
«Нечаев на наших собраниях произносил зажигательные речи и вносил разные решительные предложения. Так, однажды он предложил, чтобы все мы отправились на Дворцовую площадь и потребовали допустить нас к царю, или чтобы он к нам вышел, а когда Александр II явится, то заявить ему о необходимости отнять землю у помещиков и передать ее крестьянам. При этом Нечаев вынул из кармана бумагу и предложил нам подписаться под нею. Я с такими речами и предложениями его не соглашался, но находилось среди студентов немало склонявшихся на его сторону. После этой сходки Нечаев куда-то исчез, и демонстрация перед Зимним дворцом не состоялась».
Между тем волнения все разрастались: одно за другим высшие учебные заведения предъявляли начальству разные требования. То же происходило в Технологическом Институте. Гольденберг совершенно не одобрял этих волнений, считая их искусственно вызванными и раздутыми; все же и ему эти волнения казались полезными, но не в смысле достижения студентами более широких академических прав, а в интересах пропаганды. Когда на одной из происходивших в Технологическом Институте сходок какой-то студент заявил, что «нужно быть готовым на жертвы», Гольденберг возразил: «нет, мы не жертвы принесем, а на казенный счет развезем по всей России социалистические идеи, которые теперь пропагандируем только в своем маленьком кружке».
Его предсказания вполне оправдались: эти обширные волнения окончились исключениями многих студентов, арестами и административными высылками. Желая избегнуть пока ареста, Гольденберг перестал приходить на свою квартиру, однако, продолжал являться в Технологический Институт, чтобы участвовать в происходивших там сходках. Но однажды в корридор Института явилась полиция, занявшая входы и выходы, и переписала всех собравшихся.
После этого волнения понемногу улеглись, а затем вышло царское повеление об исключении семи студентов, в числе которых был и Гольденберг.
48
Он знал, что его ждет, тем не менее вернулся на свою квартиру, где его ждал полицейский, пригласивший его в участок. Оттуда доставили его в страшное Третье Отделение, в котором ему объявили, что его административным порядком отправят в Тамбовскую губернию.
В сопровождении двух жандармов Гольденберга повезли с арестантской партией в Тамбов, откуда этапным порядком,—что продолжалось целых 27 суток, при крайне тяжелых условиях,—его отправили в маленький захолустный городок Темников. Но на этом его мытарства еще далеко не закончились.
На первых порах Гольденбергу удалось недурно, в общем, устроиться: вблизи Темникова находилась ковровая фабрика князя Ельговичева, где он вскоре получил занятия с жалованием 25 рублей в месяц, что по тем временам являлось вполне достаточным для холостого человека. Но спустя 4 месяца он вынужден был оставить эту службу вследствие крайне грубого обращения владельца фабрики с рабочими. Вскоре затем из Петербурга пришло распоряжение перевезти Гольденберга из этой относительно недурной местности на далекий север, в Олонецкую губернию.
Вновь начались продолжительные мытарства под конвоем то солдат, то полицейских и жандармов из одного города в другой, с продолжительными пребываниями по пути в тюрьмах, полицейских участках и в этапных помещениях, со всеми неизбежными при этом для арестантов «прелестями». Только по прошествии нескольких месяцев томительного путешествия Гольденберг был, наконец, доставлен в Петрозаводск,—в главный город Олонецкой губернии, где его и оставили.
На первых порах ему и там удалось недурно устроиться: он получил место химика на казенном пушечном заводе, которым заведывал порядочный и неглупый человек, генерал Фелькнер. Он вполне правильно оценил познания Гольденберга в химии, положив ему хорошее вознаграждение — от 30 до 50 рублей в месяц,—и, вообще, хорошо отнесся к первому ссыльному еврею, «государственному преступнику», с которым этому генералу пришлось встретиться
(К своему по крови. Прим. Проф. Столешникова). Но не так отнеслась местная администрация к мирному и полезному, казалось бы, занятию Гольденберга в ссылке. Его не могла защитить даже протекция генерала Фелькнера: всего три недели спустя этот начальник казенного завода получил от губернатора и жандармского полковника предписание немедленно уволить Гольденберга как «крайне опасного человека». Генерал не хотел подчиниться такому требованию, так как считал, наоборот, этого своего служащего вполне безобидным и вместе с тем очень полезным для завода; но названные царские слуги заявили ему, что тем хуже будет для протежируемого им ссыльного, так как они, в случае дальнейшего пребывания его на заводе, арестуют его, после чего отправят его на далекий север в глухой городок, где его положение будет неизмеримо печальнее, чем в Петрозаводске. Ввиду такой перспективы добрый и справедливый начальник завода не мог ничего предпринять.
«Он дал мне, кажется, 50 рублей, и я ушел с тяжелым сердцем»,—сообщает Гольденберг в своей записке.
Жить, однако, чем-нибудь нужно было, и вот Гольденберг нашел вскоре другое занятие: он сблизился с проживавшим на общем с ним дворе отставным солдатом, имевшим маленькую мастерскую, в которой занимался починкой жестяной посуды, лужением самоваров и т. п. Гольденберг стал помогать ему.
«Начал я работать у этого добродушного пьяницы, и нужно сказать, жил я у него, как у бога за пазухой»,— сообщает Гольденберг.
Он сделался «правой рукой своего хозяина», к тому же для него представилась возможность познакомиться с простым рабочим людом, приносившим в починку свои вещи.
В Петрозаводске, кроме Гольденберга, находились еще трое политических ссыльных—христиан. С двумя из них он близко сошелся и обсуждал с ними разные общественные вопросы. В это время в Каргопольском уезде был голод, между тем администрация все же выколачивала подати из голодавшего населения, продавая за бесценок жалкое его имущество. Тогда Гольденберг с товарищами начали убеждать крестьян отказаться от взноса податей. Агитация их удалась, и в некоторых деревнях крестьяне перестали что- либо вносить.
50
Но администрация перехватила одно послание этих ссыльных агитаторов, после чего их арестовали и предали суду «за возбуждение крестьян к неповиновению властям». Однако, сколько ни секли ослушников, все же пришлось отсрочить уплату ими податей. Продержав ссыльных полгода в тюрьме, их затем, за отсутствием улик, оправдали.
Пребывание Гольденберга с товарищами в петрозаводской тюрьме совпало с Парижской коммуной 1871 г., которая, как известно, на - ряду с Первым Интернационалом, имела огромное влияние на развитие нашего революционного движения. В Петербурге и в других университетских городах стали возникать более или менее значительные тайные организации, задававшиеся целью распространять социалистические взгляды среди учащейся молодежи, а также и между трудящимися слоями населения. Но общества эти,—в противоположность приемам, к которым прибег Нечаев,—основывались на взаимном доверии, искренности и братской любви, а не на обмане и мистификации. Наиболее влиятельными из этих организаций были «чайковцы» и «долгушинцы». По выходе из тюрьмы Гольденбергу через машиниста одного парохода, делавшего рейсы между Петербургом и Петрозаводском, удалось завязать тайную переписку с некоторыми членами названных обществ.
Между тем, жизнь его в Петрозаводске становилась все тяжелее и безотраднее: работа с «добродушным пьяницей» не могла, конечно, удовлетворять его, а делать что-либо сверх нее, после выхода из тюрьмы, не было возможности, так как полиция зорко следила за каждым шагом его и товарищей. Кроме того, беседуя с трудящимися, которые приходили в мастерскую, Гольденберг замечал трудность своего положения, как пропагандиста, вследствие полного отсутствия тогда сколько-нибудь понятных для народа популярных книжек. Он обратился за такими произведениями к своим петербургским товарищам, но они ответили, что и у них нет таких. Тогда Гольденберг решил посодействовать появлению подобных книжек; Для осуществления этого намерения ему необходимо было бежать из Петрозаводска за границу с тем, чтобы печатать там популярные книжки, в которых излагались бы социалистические взгляды. Этот план вполне одобрили «долгушинцы», приславшие ему через упомянутого машиниста необходимые для побега вещи,—костюм, деньги и пр.
51
Этот же машинист, поместив его под пароходным котлом, доставил его в Петербург, где некоторое время он скрывался у «сочувствовавшего» офицера.
Побыв короткое время в столице, Гольденберг, конечно, нелегально переправился через границу и поехал в Цюрих, где в то время был центр русской политической эмиграции. Там жили тогда известные русские социалисты—Лавров, Смирнов, Сажин и другие. Там же в то время сосредоточилась и масса учащейся русской молодежи, так как впервые цюрихский университет и политехникум, из всех европейских высших учебных заведений, открыли доступ женщинам. Туда поэтому потянулись молодые девушки из самых отдаленных концов России, чтобы обучаться естественным наукам, математике, медицине и пр. В течение нескольких лет в России редко какая передовая молодая женщина не стремилась отправиться в этот отдаленный небольшой город маленькой Швейцарской республики, чтобы учиться высшим наукам.
(И кто их, интересно, всех там в «Цурихе», который по-английски пишется чисто еврейским именем «Зурик», содержал? В соответствии со статистикой 2006-2008 годов «Цурих» самый богатый город Европы – город криптоевреев http://en.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich Прим. Проф. Столешникова)
Между этими первыми русскими студентками было также несколько евреек. Но об этом я сообщу ниже, а теперь возвратимся к Гольденбергу.
Насколько мне известно, он является одним из первых евреев-социалистов, эмигрировавших заграницу. Правда, там еще с середины 60-х годов проживал упомянутый Николай Утин, приобревший большую в свое время известность, как сторонник Карла Маркса и ярый противник Бакунина, но он окончил свою заграничную деятельность тем, что подал царю просьбу о помиловании, и, по хлопотам. Полякова, ему разрешено было вернуться обратно в Россию, после чего он навсегда пропал для революционного движения. Гольденберг же, убежав из ссылки, как говорится, сжег за собою навсегда корабли. В первые же дни его приезда в Цюрих на него обрушилось возмутительнейшее подозрение, причинившее ему массу огорчений.
Как известно, Нечаев, после убийства невинного студента Иванова, бежал за границу. Боясь быть оттуда выданным России в качестве человека, совершившего уголовное преступление, он проживал и в Швейцарии под вымышленным именем, хотя многие эмигранты хорошо знали, кто он в действительности.
52
Вдруг через четыре дня после приезда Гольденберга в Цюрих местная полиция арестовала Нечаева. А так как Гольденберг знал его в Петербурге и недружелюбно относился к его действиям, то у некоторых лиц явилось предположение, что это он указал полиции, где именно можно встретить и арестовать Нечаева. Слух этот быстро распространился среди русской колонии.
Легко представить себе, что тогда испытывал честный, беспредельно преданный интересам трудящихся и недавно лишь прибывший в эмиграцию Гольденберг. По счастью, среди русских оказался его старый товарищ по России, бывший член нечаевской организации З. Ралли, пользовавшийся среди русских сторонников Бакунина большим влиянием. Благодаря ему и еще двум русским, знавшим Гольденберга по России, его репутация и доброе имя были восстановлены.
Вскоре затем было установлено, что выдал Нечаева поляк Стемпковский, бывший членом первого «Интернационала». Эмигранты устроили международный суд над этим предателем: были выбраны 18 присяжных, но этот низкий человек обратился к начальнику цюрихской полиции «за защитой его жизни от грозившей, будто бы, ему опасности». Суд заочно и единогласно признал его тогда шпионом, выдавшим Нечаева, что и было опубликовано в местных газетах за подписями всех присяжных. После этого, в силу закона Цюрихского кантона, Стемпковский был оттуда изгнан.
Одновременно с этим среди русских выходцев началась сильная агитация с целью освобождения Нечаева, как политического эмигранта, чтобы недопустить выдачу его русскому правительству. Гольденберг принял самое энергичное участие в этой кампании. Так, на одном большом митинге, на котором было не меньше 800 человек, он произнес по-немецки горячую речь против выдачи Нечаева.
На следующий день его пригласил к себе министр полиции, и ввиду того, что у него не оказалось, как-то требовалось в Цюрихе, свидетельства на право жительства, ему велено было убраться оттуда. Через несколько дней его арестовали на улице и с двумя полисменами вывезли за пределы Цюрихского кантона.
53
Таким образом, наш агитатор за защиту права и свободы даже в демократической Швейцарской республике не миновал ни ареста, ни высылки под полицейской охраной, что, конечно, не могло доставить ему удовольствия, особенно ввиду того, что Цюрих в то время был ареной политической борьбы между проживавшими там русскими.
Вожаками русской молодежи, как известно, являлись тогда Бакунин и Лавров (Оба чистейшие еврей в криптосостоянии. Это Мойша Бакунин – двойник Карла Маркса: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bakuninfull.jpg и http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakunin - Прим. Проф. Столешникова), несогласные между собою относительно того, каким образом следует действовать, чтобы скорее произошла в России социалистическая революция. Поэтому вся цюрихская колония поделилась на два враждовавшие лагеря,—на «бакунистов» и «лавристов», между которыми шла отчаянная борьба. Среди сторонников как одной, так и другой партии находились юноши и молодые девушки, которые впоследствии приобрели в русском революционном движении огромную известность,—Вера Фигнер, Бардина, а также еврейки Бети Каменская и Анна Розенфельд, о которых я ниже сообщу подробно.
Русские купили даже в рассрочку дом, в котором жили многие на товарищеских, коммунальных началах (На чьи деньги, если они все "профессиональные революционеры", языков не знали и нигде не работали. Прим. Проф. Столешникова). Там же помещалась общая читальня, где происходили дебаты, читались лекции и пр. В. Цюрихе же каждая фракция имела свою типографию, в которой печатались социалистические произведения, контрабандным способом доставлявшиеся в Россию. Словом, жизнь там била ключом. Между тем Гольденберг, как мы уже знаем, вынужден был, вскоре по приезде, удалиться от всего этого.
Он поселился в Женеве, куда, спустя некоторое время, из Цюриха перевезена была типография, принадлежавшая «чайковцам». В этой типографии стал работать Гольденберг, чтобы осуществить план, ради которого он из ссылки бежал за границу. Отчасти он сам приискивал подходящий для печатания популярных книжек материал, отчасти из России «чайковцы» присылали ему рукописи, и, таким образом, в короткое время им было издано довольно много брошюр, кото- рые тогда пользовались в России громадной популярностью и являлись незаменимым подспорьем в деле пропаганды среди народа и молодежи социалистических идей. Из книжек, изданных Гольденбергом, нельзя не упомянуть о самой лучшей и наиболее известной тогда—«Сказке о четырех братьях», автором которой был знаменитый в истории русского революционного движения Лев Тихомиров.
В это же время «бакунисты» в своей типографии печатали разные анархические сочинения, а Лавров со своими приверженцами редактировал очень популярный тогда, обширных размеров непериодический журнал «Вперед», к которому в 1875 г. он присоединил двухнедельную газету того же названия.
Таким образом, мы видим, что в семидесятых годах заграничная деятельность наших эмигрантов была очень обширна, а, главное, она имела громадное влияние на развитие русского революционного движения внутри страны. В этой полезной работе была и капля меда, внесенная Лазарем Гольденбергом, хотя сам он и не был литератором по профессии. Но тем почтеннее его роль, что, будучи, как мы видели, человеком довольно образованным, он не только не гнушался никакой так называемой черной работы, но, наоборот, всегда охотно исполнял ее.
Он набирал, корректировал, брошюровал, словом, делал все, что было нужно и без чего самое лучшее литературное произведение не может выйти в свет. Проработал он таким образом несколько лет в Женеве, оставаясь в типографии «чайковцев».
Между тем, за немногими исключениями, большинство членов этой обширной организации было в России арестовано и посажено в тюрьмы и в Петропавловскую крепость. Но зимой 1875 г. вернулся из административной ссылки один из самых энергичных, дельных и умных членов этой организации, уже упомянутый мною Марк Натансон.
В 1876 г. он отправился по делам за границу и, между прочим, решил соединить типографию «чайковцев» с той, которая находилась уже в Лондоне и где печатался «Вперед»
(Впоследствии сионистский «Форвертс». Прим Проф. Столешникова).
Он предложил Гольденбергу тоже переселится туда, на что последний согласился, и вместе с типографией он вскоре затем перекочевал в столицу Англии.
Там круг деятельности Гольденберга значительно расширился: он не только набирал, корректировал и пр., но явился также участником разных предприятий, обществ, митингов и пр.
55
В своей автобиографии он сообщает:
«Во время моего пребывания в Лондоне образовалась Интернациональная Лига, в которой Энгельс был немецким секретарем, Лиссагарэ — французским, а я, как и подобает еврею,—славянским, хотя там участвовал знаменитый генерал Парижской Коммуны Врублевский, и большую часть славянской секции составляли поляки.
(Польские евреи. И тут вы видите начальный этап образования социалистического Евреонала. Прим. Проф. Столешникова)
Но последний пристал ко мне, и я принял на себя секретарство».
Что особенно интересно и важно для евреев, ввиду тех огромных размеров, какие приняла теперь среди них проповедь социализма на еврейском языке, это то, что Гольденберг, вместе с известным Либерманом, является одним из основателей первого еврейского общества, поставившего себе целью вести пропаганду социалистических идей среди еврейских тружеников на их разговорном языке. Раньше этого и много лет еще спустя еврейская социалистическая молодежь, действовавшая в России, совершенно не признавала нужным заниматься проповедью социализма среди наших единоплеменников, вообще, и тем более—на еврейском языке. Для нас, в сущности, совершенно не существовали труженики евреи. Мы смотрели на них глазами обрусителей: еврей должен вполне ассимилироваться с коренным населением, как это уже произошло во Франции, Англии, Германии. Как сторонники интернационального социализма, мы, вообще, отрицали пропаганду на языках разных находящихся в России народов, а на еврейском—в особенности, так как «жаргон» мы вовсе не признавали за язык, и многие из нас— я в том числе—совершенно его не знали. Для нас существовал один только несчастный, обездоленный трудящийся люд, понимавший и говоривший на господствующем русском языке, к тому же, главным образом, занимавшийся земледелием, да отчасти только работавший на фабриках и заводах. Ремесленники же причислялись нами чуть что не к эксплоататорам.
Так как большинство еврейских тружеников принадлежало к ремесленникам, которые подчас не прочь были заниматься и какой-нибудь мелкой торговлей, то мы всех их готовы были причислить к «гешефтсмахерам» (дельцам). Поэтому пропаганда среди них социализма, да к тому же еще на «жаргоне», нам казалась если: не вредной, то, во всяком случае, бесполезной тратой сил и времени.
Не так отнесся к этому вопросу Либерман. Одним из первых его последователей был Лазарь Гольденберг. Они основали в Лондоне, весной 1876 г., «Еврейское социалистическое общество» из евреев-ремесленников. В это общество, кроме Лнбермана и Гольденберга, как основатели входили: пять портных, один столяр, один коробочник, выдающийся рабочий, Гирш Сапер и один шапочник. Как известно, общество это поставило себе целью распространять социализм среди евреев всюду, где они находятся, и организовывать их для борьбы против их эксплоататоров. Кроме того, общество это ставило себе целью «соединиться в братский союз с рабочими обществами других национальностей».
Для созыва первого публичного митинга было выпущено на еврейском языке воззвание, являющееся первым запрещенным произведением, с которым евреи-социалисты из России обратились к своим единоверцам. Приведу поэтому несколько строк из этого исторического документа.
«Как ни тяжела жизнь всех рабочих, но еврейские угнетены еще более других,—говорится в этом воззвании.—Еврей принужден больше работать и получать меньшую плату, чем христиане. Почему это так? Лишь потому, что они не объединены... Сплоченные в организации рабочие не допускают, чтобы фабриканты и мастера, их угнетали. Но у нас, еврейских рабочих, нет объединения... Это вредит нам и, кроме того, вызывает ненависть к нам английских рабочих, обвиняющих нас в том, что мы приносим и им вред тем, что, работая больше, мы соглашаемся брать меньшую плату». Председателем этого митинга, состоявшегося 18 августа 1876 г., на котором присутствовали Лавров и другие видные социалисты-христиане, был. Лазарь Гольденберг.
Он открыл митинг речью, в которой, между прочим, сказал, что цель социалистов—освобождение рабочего класса от господства капитала, и что «Еврейский Социалистический Союз» стремится объяснить еврейским рабочим, каким способом они могут улучшить свое положение.
Результатом этого митинга было то, что 80 евреев-рабочих записались в члены этого нового союза.
57
Я не имею возможности входить здесь в подробности деятельности Гольденберга, в качестве одного из инициаторов этого «Союза». Скажу лишь, что он неоднократно читал на его заседаниях доклады («О рабочем движении в Швейцарии», «О первом интернациональном Конгрессе в Женеве», «О разногласиях между мадзинианцами и другими партиями» и т. д.
(Мадзини – итальянский еврей. Фото: http://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini Прим. Проф. Столешникова). Но «Союз» не долго просуществовал, так как еврейские выходцы из России, жившие в Лондонском Уайтчепеле, оказались не совсем подходящей средой для революционно-социалистического общества. К тому же тогда еще не назрели условия для сознания всеми необходимости пропаганды социализма среди еврейской бедноты. Но основанный Гольденбергом и Либерманом первый еврейский «Union Mantel makers» (Профсоюз пошивщиков пальто. Крышевая организация) существует до сих пор.
Происходившее тогда в России революционное движение приняло направление, враждебное «лавризму»: восторжествовали анархические взгляды Бакунина. Поражение «лавризма» имело большое значение в дальнейшей судьбе Гольденберга: весной 1877 г. вышел последний номер «Вперед», и затем этот журнал навсегда прекратился. Гольденберг очутился в крайне тяжелом моральном и материальном положении. То дело, которое он еще в ссылке считал чрезвычайно важным—печатание понятных для трудящихся масс книжек,— одержавшие в России верх бакунисты не только не признавали таковым, но, наоборот, находили его совершенно бесполезным. Да и вообще литературе действовавшие в России бакунисты,—«народники-бунтари»—не придавали никакого значения.
Не находя себе в Лондоне никакого занятия по душе и согласную с его убеждениями работу, к тому же испытывая сильнейшую материальную нужду, Гольденберг отправился на континент. С этих пор начинаются его скитания по свету в поисках за делом: он перекочевывает с одного конца Западной Европы в другой, из Старого Света в Новый и обратно. К сожалению, не могу сколько-нибудь подробно передать все то, что пришлось Гольденбергу делать и вытерпеть в течение длившейся почти двадцать лет цыганской его жизни.
Гольденберг был рабочим на красильном заводе около Парижа, получая семь су в час за тяжелый и продолжительный труд; он состоял лаборантом на электрическом заводе; заведывал электрическим освещением в конторе и мастерских газеты «Тimes» в Лондоне, куда он вновь перекочевал. Затем снова отправился в Париж, где в течение долгого времени оставался без всякого заработка, а потом достал перевод одной книги по электричеству. Всегда и везде Гольденберг не переставал интересоваться рабочим движением, социалистической пропагандой и агитацией, которой занимался, насколько то было в его силах. Так, будучи в Париже в 1880 г., ему опять пришлось, как-то было в 1872 г. в Цюрихе, участвовать в агитации по поводу ареста знаменитого Льва Гартмана, произведшего взрыв царского поезда в Москве (в ноябре 1879 г.): французское правительство хотело выдать его России, где его ждала смертная казнь. На этот раз агитация Гольденберга и других русских увенчалась полным успехом: французы отказались выдать этого цареубийцу. Но, чтобы смягчить гнев Александра II, французское правительство выслало из пределов республики Гольденберга, Лаврова и еще нескольких русских эмигрантов.
Он направился в Швейцарию, оттуда в Румынию, где вместе с другими жившими там русскими основал первое социалистическое общество. Ими была устроена типография, в которой Гольденберг набирал первые социалистические книжки на чуждом ему румынском языке. Но не долго пришлось ему там работать: 18 марта 1881 г., на митинге по случаю годовщины Парижской Коммуны и убийства Але-ксандра II, Гольденберга и еще нескольких человек арестовали; продержав месяц в тюрьме, его затем вместе с другими отправили в Константинополь с тем, чтобы оттуда увезти их далее и выдать России. Но Гольденбергу и еще трем арестованным удалось сесть в пароходную лодку и на ней добраться до Константинополя. Оттуда на английском грузовом судне он отправился в Роттердам и затем вновь в Лондон. Прожив там,—то без работы, то опять находя ее,—года четыре, Гольденберг решил попытать счастья в Новом Свете, и в январе 1885 г. он прибыл в Нью-Йорк.
Вновь тяжелый труд в качестве обыкновенного рабочего на фабрике Эдисона, снова периоды без заработка или со случайным, как уроки, агентство по продаже пишущих машин и т. п. Но и здесь, как и в Старом Свете, Гольденберг не переставал служить делу распространения социалистических идей: он читал лекции—по-русски и по-английски— о революционном движении, редактировал в продолжение 4-х лет американское издание «Free Russiа», написал рассказ «Look in the Basket», имевший огромный успех, перевел некоторые рассказы Л. Толстого и т. д. Но самым главным своим делом в Нью-Йорке Гольденберг считает устройство здесь, сообща с другими товарищами, «Русской Лиги против трактата о выдаче политических преступников России». Знаменитый Георг Кенан помог Гольденбергу и его товарищам устроить такие же английские комитеты в других городах, и можно по справедливости сказать, что если политические эмигранты потом спокойно жили в Соединенных Штатах, не боясь быть выданными русскому палачу, то отчасти этим они были обязаны также и Лазарю Гольденбергу.
Всем перечисленным еще далеко не ограничилась деятельность его в Нью-Йорке. Кроме, так сказать, идейной, духовной помощи всем и всему, Гольденберг, живя в Северной Америке, старался также оказывать материальную поддержку лицам, нуждавшимся в ней. При помощи «Free Russiа» ему удалось собрать несколько сот долларов для голодавших в 1891 г. в России крестьян, а также—для ссыльных и заключенных. Он содействовал основанию клубов, библиотек и т. д., и т. д.
Пребывание в Соединенных Штатах оставило у Гольденберга самое отрадное воспоминание. Вот что он об этом написал мне:
«Нью-Йоркские товарищи устроили мне прощальный банкет, который я буду помнить до конца жизни, как один из самых счастливых в ней моментов. Часы, которые они мне поднесли, я до сих пор ношу и считаю их самым дорогим для меня подарком».
Уехал Гольденберг оттуда в 1895 г., вследствие полученного им из Лондона от старых своих товарищей—Чайковского, Степняка, Волховского и др.—приглашения, так как они там основали общество, названное ими «Фондом
Вольной русской прессы». Гольденбергу они предложили заведывать всеми техническими и финансовыми делами этого учреждения, и он с обычной энергией, настойчивостью и неутомимостью принялся за организацию этого нового предприятия.
То было беспартийное учреждение, главной целью которого являлась литературная борьба с господствовавшим в России гнусным режимом. «Фонд» издавал всякого рода книги, брошюры, листки. Между прочим, им изданы; были «Подпольная Россия» Степняка, «За сто лет» Бурцева, «Русская Конституция»—киевского адвоката Куперника и т. п. Но в первый же год этой деятельности «Фонда» произошло в высшей степени прискорбное для всех членов его, и для Голь-деиберга в частности, происшествие.
Фонд выпускал «летучие листки». Вместо них приехавший в Лондон Куперник предложил издавать регулярную газету— «Земский Собор». На это предприятие он предложил материальные средства, а также желал принять в нем литературное участие. Но во время одного из очередных заседаний, на котором должна была обсуждаться выработанная Степняком программа для этой газеты,—редактором ее был выбран Степняк,—собравшиеся вдруг узнали, что на него, когда он шел из дому на это собрание, при переходе через рельсы железной дороги, наскочил поезд и раздавил его.
Деятельность «Фонда Вольной русской прессы», выразившаяся в издании' и распространении как за границей, так и в России огромного количества всевозможных литературных произведений, прекратилась только с наступившими' после амнистии 1905 г. в России так называемыми «Днями свободы», когда хулиганы при содействии полиции, казаков и солдат свободно проливали кровь евреев и интеллигентов по всей стране...
После тридцати четырех лет, протекших со времени отъезда Гольденберга из России, дождавшись наконец в ней «конституции», в достижении которой была и его доля усилий и страданий, отправился и этот «вечный жид» на свою далекую «родину», являвшуюся для большинства трудящихся,—а для евреев в особенности,—местом всевозможных ужасов.
В Петербург он прибыл во время заседаний Первой Госуд.Думы. Ходил он по собраниям, встречался со старыми товарищами, присматривался, наблюдал. Все было для него ново и вместе старо в этом городе, где он когда-то учился, работал, пропагандировал, сидел в тюрьмах и скрывался. Брат его, богатый купец, с которым Гольденберг не виделся сорок лет, убеждал его поселиться у него в Одессе, но там свирепствовала черная сотня, а, живя долгое время за границей, он ужа забыл, что принадлежит к несчастной преследуемой нации. Поэтому, отказавшись от предложения брата, он вернулся в Англию.
Упомяну теперь о нашем с ним знакомстве. Встретились мы впервые в Женеве в 1880 г., куда он приехал после изгнания из Парижа. У нас сразу установились добрые товарищеские отношения. У Гольденберга был прекрасный, отзывчивый характер,—скромный, без малейшего самолюбия, общительный, всегда хорошо настроенный.
Вскоре после его отъезда меня судьба надолго разлучила со всеми товарищами. Но, бежав в 1901 г. из Сибири, я, по приезде осенью в Лондон ( В Лондоне Ротшильды давали стипендию всем еврейским революционерам. Прим Проф. Столешникова) первым из всех тамошних товарищей разыскал его. За истекшие 20 лет Гольденберг мало изменился в духовном отношении; несмотря на свои 55 лет и почти 35 - летнюю службу делу освобождения пролетариата, он остался все тем же стойким, непоколебимым солдатом революции.
Гольденберг прожил еще 15 лет безвыездно в Англии, всего несколько месяцев не дожив до февральской революции: он скончался в конце ноября 1916 г., 70-ти лет.
62
ГЛАВА II.
СОЛОМОН ЧУДНОВСКИЙ.
(Вполне возможно это дед Григория Чудновского, одного из главных организаторов штурма Зимнего. Прим. Проф. Столешникова).
Фамилия Чудновского совершенно неизвестна новым поколениям. Меня, например, некоторые даже спрашивали:
«Разве Чудновский еврей?».
Между тем, в начале семидесятых годов Чудновский пользовался на юге России довольно большой популярностью. Он считался одним из выдающихся пропагандистов, кое-что и он внес в борьбу за лучшую будущность, немало и его мук и страданий в ней. Социалисты должны знать своих первых борцов и мучеников, к числу которых, несомненно, принадлежал и Чудновский.
Сын херсонского небогатого еврея, С. Чудновский родился в начале 50-х годов минувшего столетия. Еще будучи мальчиком, он проявлял большие способности и любознательность, поэтому в гимназии учился прекрасно. Очень рано у него появилась любовь к чтению, и, будучи еще в гимназии, он перечитал всех лучших русских писателей.
Как и большинство тогдашней передовой молодежи в России, Чудновский был большим поклонником Писарева; он восхищался этим ярым проповедником естественных наук и апостолом «нигилизма». В своих воспоминаниях Чудновский сообщает, что при известии, о смерти Писарева, который случайно утонул,—он плакал и долго не мог примириться с мыслью об этой утрате—«словно то был мой близкий родственник»,—пишет он.
(Вряд ли еврей мог бы плакать о гое. Прим Проф. Столешникова)
63
Чудновский всегда стремился поднять уровень развития своих сверстников: он основал среди товарищей-гимназистов кружок саморазвития, в котором они читали наиболее прогрессивные произведения и вели по поводу них дебаты.
Такой же кружок был затем основан и для девушек. То было первое в Херсоне просветительное учреждение, в котором за женщинами были признаны равные права на развитие с мужчинами. Этим, так сказать, положено было начало делу эмансипации женщин в Херсоне. Вскоре затем, в начале 70-х годов, две еврейские девушки оттуда отправились в Швейцарию учиться медицине.
Если мы мысленно перенесемся за полстолетия назад в такое захолустье, каким являлся тогда Херсон, находящийся в стороне от промышленных центров, то мы поймем, каким важным фактором для развития передовых стремлений среди лучшей части местной молодежи был там юноша С. Чудновский. Мне приходилось слышать, что впоследствии многие из его сверстников и сверстниц признавали его крупные заслуги в их развитии и питали к нему за это большую благодарность.
Очень рано окончив гимназию, Чудновский в 1868 г. отправился в Петербург, где поступил в Медико-хирургическую академию. Первое время он довольно усердно занимался медициной, но в следующем (1869) году, на почве требований некоторых академических свобод (нрава устройства касс, столовых, библиотек и пр.), во многих высших учебных заведениях произошли обширные студенческие беспорядки, в которые, как было мною уже сообщено выше, Нечаев старался внести революционный дух. Как и Гольденберг, Чудновский не сочувствовал стремлениям Нечаева и его приверженцев, так как вполне основательно опасался, что студенты послужат лишь материалом для заговорщических целей этого агитатора, который, как известно, ни перед чем не останавливался. Являясь на сходки, Чудновский высказывался против предложений крайних,—«нечаевцев», и потому прослыл даже между товарищами за «умеренного», «мирного», «легалиста». Но в глазах всеведующего начальства он оказался в числе «опасных зачинщиков». Его, вместе еще с несколькими товарищами, исключив из академии, отправили обратно в Херсон под надзор полиции. Чудновского везли в качестве «важного политического преступника» в сопровождении двух жандармов. По пути им пришлось заночевать в Киеве,—тогда еще не было оттуда железной дороги на юг. Его доставили прямо к губернатору, который очень любезно принял его, угостил хорошим ужином и предложил остаться ночевать у него. «Чем объяснить эту предупредительность?»—в недоумении спрашивал себя Чудновекий. Секрет вскоре открылся. Когда он выразил желание отправиться ночевать в гостинице, где чувствовал бы себя спокойнее, губернатор воспротивился этому, откровенно заявив ему:
— «Видите ли,—у нас среди студентов спокойно, а вы вот можете, повидавшись с ними, вызвать здесь также волнения».
На Чудновский уверил его, что он никого из местных студентов не повидает ночью, в чем он давал губернатору слово. Однако губернатор не удовольствовался этим и согласился отпустить его спать в гостиницу при том только условии, чтобы в его номере находился также полицейский. Вот каким страшным агитатором считал киевский губернатор сына небогатого херсонского еврея!
Между тем ни, в то время, ни позже Чудновекий не был агитатором, а тем более опасным. Он, конечно, читал популярные тогда социалистические произведения, но, как я уже выше сообщил, вовсе не был склонен к крайним приемам борьбы. Само русское правительство своими несправедливостями и злоупотреблениями побудило этого мирного юношу, как и многих других молодых людей, стать в ряды его ярых врагов. Вот как сам Чудновский описывает произошедший в нем перелом, когда он вернулся в родной город.
«Непосредственное столкновение с действительностью во время студенческих «беспорядков», грубое вмешательство полиции в чисто академический инцидент, жестокое и деспотическое насилие, учиненное над участниками в «беспорядках», заставили меня глубоко и серьезно вдуматься в царящий в России порядок вещей. И только тогда,—заявляет он,—я сделался убежденным и непримиримым врагом этого порядка».
Но и после этого Чудновекий вовсе не собирался применять какие-нибудь страшные средства для разрушения этого ненавистного ему строя.
65
Он только хотел путем проповеди открыть глаза ближних на царивший всюду произвол. По его убеждению, «всякая (хотя бы и самомалейшая) крупица сознательности имеет в общем ходе вещей свое несомненное значение». И за эти-то безобидные взгляды, за свою мирную деятельность на пользу ближних Чудновский поплатился многими годами всевозможных страданий и мук...
Не желая доставлять беспокойств отцу, ввиду поднадзорного своего положения, он решил поселиться отдельно, так как «для старика-отца на свете не было ничего страшнее полиции». Средства к жизни он мог добывать только путем репетиторства. Но ему, как «страшному политическому преступнику», гимназическое начальство ставило в этом разные помехи,—писало на него доносы и пр. «Маменьки,—сообщает он,—также приняли свои меры, чтобы этот опасный революционер как-нибудь не испортил их деток. Собрав своих домочадцев, в особенности гимназистов, они разъясняли им, что вот такая же судьба, как Чудновского, неизбежно ждет и их в случае непослушания и неповиновения старшим».
О причине высылки его из Петербурга обратно на родину по городу ходили самые фантастические слухи; так, говорили, что он «бунтовал против царя, чтобы самому сесть на его место».
Глухой провинцией был тогда Херсон: при населении в 40.000 в нем не было даже библиотеки, не было, конечно, и никакой общественной жизни.
Несмотря на предупреждения родителей и учебного начальства,—вернее, именно вследствие этих предупреждений, молодежь очень заинтересовалась Чудновским: вместо страха, он вызывал в ней .расположение и симпатию к себе и к своему положению.
Пребывание в Херсоне административно высланного туда Чудновского не прошло бесследно для некоторых из его Обитателей. Вот что он сообщает об этом в своих «Воспоминаниях»:
«Я организовал при посредстве некоторых гимназистов и гимназисток несколько кружков для самообразования».—В них входили, кроме учеников старших классов, также и посторонние лица. «Некоторые из участников этих кружков через 5—6 лет очутились в центре нашего революционного движения, напр., ставшие после очень известными народовольцы Ланганс, Франжоли и др херсонцы, а те, которые не присоединились к революционерам, тоже стали видными общественными деятелями».
Однако эта, хотя и плодотворная, жизнь в Херсоне все же не удовлетворяла Чудновского, и он стал хлопотать о разрешении переехать в Одессу для поступления в университет. Только после почти двухлетнего подневольного пребывания в Херсоне, ему весной 1871 г., наконец, дозволено было покинуть его.
Подобно остальным русским социалистам того времени, Чудновский, решив посвятить себя делу освобождения трудящихся масс, имел в виду все народности, входящие в состав страны, а не ту, к которой он принадлежал по рождению. Ни ему, да и никому из нас, тогда действовавших в России евреев, не приходило на ум, что каждый должен работать среди своей национальности и вести пропаганду на там языке, на котором она говорит. Как я уже сообщал, население страны нам представлялось, как бы одной сплошной массой, тесно связанной единством тяжелого труда, невероятных лишений и всяких страданий. Темные, неграмотные массы,—будь то русские, поляки, латыши и т. д.,— поймут, думали мы, наши цели, нашу проповедь справедливости и счастья, если мы передадим это на понятном всем простом языке, господствующем в стране. К тому же,— говорили мы,—преобладающее большинство населения составляют великороссы, малороссы и белоруссы, которым доступен общепринятый язык. Поэтому мы не считали тогда необходимым создавать литературу на языках разных населяющих Россию народностей.
Кроме того, так как огромную часть населения страны, еще в большей степени, чем теперь, составляли крестьяне-земледельцы, то мы признавали необходимым почти целиком в эту среду направлять свои усилия. Ремесленникам и, в особенности, фабрично - заводским рабочим, ввиду ограниченного их количества, мы не придавали большого значения, считая их полезными лишь постольку, поскольку из .этих трудящихся слоев могли вырабатываться сознательные и дельные социалисты, которые, подобно нам, интеллигентам, соглашались затем отправиться «в народ».
67
Следовательно, как самостоятельному классу, мы русским рабочим тогда не придавали значения: мы считали их лишь ближе стоящими к крестьянам, чем мы, а потому легче и скорее могущими сойтись с ними, внушить им к себе доверие и расположение.
Поэтому почти каждый из нас, интеллигентов, становясь социалистом, раньше, чем он отправлялся «в народ», пробовал, так сказать, свои силы на пропаганде среди рабочих.
Чудновский также начал среди них свою социалистическую деятельность. Но он не стремился проникнуть в среду еврейских ремесленников и рабочих, которых и тогда уже было немало в Одессе. Это тем более может казаться странным и непоследовательным, что он был неимоверно возмущен происшедшими в Одессе в 1871 г. антиеврейскими беспорядками, а также и объяснениями их со стороны некоторых лиц «еврейской эксплоатацией». Кроме вышеуказанных взглядов, распространенных тогда среди всех русских социалистов, причиной этого противоречия—надо в этом признаться — было ошибочное у нас представление, будто, ввиду всего прошлого и настоящего евреев, как не-земледельческого народа, они не являются подходящим элементом для усвоения социалистических идей. Фабрично-заводских рабочих тогда среди евреев,—по крайней мере на юге,—совсем почти не было, а евреи-ремесленники в глазах многих из нас мало чем отличались от мелких промышленников и торговцев, т.-е., но нашему мнению, если они еще не были, то не прочь были при удобном случае сделаться «экеплоататорами». Поэтому надо было стремиться к тому, чтобы уничтожить современный строй, основанный на эксплоатации трудящихся масс немногими, а вместе с этим должны будут исчезнуть всякого рода посредники, в том числе и евреи.
Мысль вести пропаганду социализма среди темной еврейской массы, высказанная впервые в средине 70-х годов Либерманом и Гольденбергом, а немного позже—Драгомановым, вызывала у нас удивление, не то и саркастическую усмешку.
Вскоре после приезда в Одессу, Чудновский вступил в местное филиальное отделение «чайковцев», подобное существовавшим, как я уже сообщил, и в других южных городах. Одновременно с ним в состав одесского кружка «чайковцев» входили Желябов, Волховский и другие лица, впоследствии приобревшие у нас большую известность.
По складу ума и характера, до склонностям и темпераменту, Чудновский мог сочувствовать только мирной пропаганде идей, а не призыву к восстанию. Такой именно и была его деятельность с тех пор, как он сделался социалистом. Чудновский поэтому стал ярым приверженцем Лаврова и, как увидим, остался верным этим взглядам до конца дней своих.
Уже и раньше довольно- начитанный и образованный, Чудновский, став «лавристом», еще более стремился увеличить круг своих познаний, чтобы «во всеоружии» взяться за дело пропаганды социализма. Всюду, где только представлялась к тому возможность, он отстаивал правоту лавристских взглядов и в защиту их вел горячую полемику с противниками—бакунистами. Поэтому, благодаря отчасти и его энергии и настойчивости, «лавризм» преобладал среди одесских социалистов, между тем как в других городах, особенно в Киеве, господствовали бакунисты.
Но, увы! Недолго пришлось Чудновскому поработать на пользу излюбленных им взглядов: в январе 1874 г. он был арестован при попытке получить на почте тюк с вышедшими за границей социалистическими произведениями: контрабандист, с которым он вел сношения, оказался тайным агентом, а потому нарочно подстроил дело так, чтобы Чудновского забрали «на месте преступления» с поличным. Этим исчерпывалось все его преступление: несмотря на всевозможные старания прокуроров и жандармов, они не могли открыть никакой другой за ним вины. Тем не менее, Чудновскому пришлось провести почти целых четыре года в предварительном заключении, томясь в одиночках по тюрьмам и в Петропавловской крепости, в ожидании суда, по поводу содеянного им столь ужасного преступления.
69
В разных местностях необъятной страны в это же время происходили обыски и аресты среди молодежи, занимавшейся пропагандой и хождением «в народ». То был известный в летописях нашего революционного движения знаменитый разгром 1874 г., в результате которого тысячи молодых юношей и девушек очутились в тюрьмах и в Петропавловской крепости. Жандармы с прокурорами поставили себе целью объединить всех этих арестованных в один грандиозный процесс. На основании ничтожных данных, главным образом, на основании неверных показаний многих арестованных, ничего общего не имевших с делом и стремившихся выгородить себя, а еще больше пользуясь оговорами ренегатов и шпионов, усердные царские слуги постарались, представить дело так, будто бы им удалось открыть обширнейший заговор, охвативший целых 36 губерний. Для подкрепления этого измышления нужно было томить многих совсем ни в чем неповинных юношей и молодых женщин по три-четыре и больше лет, нередко при самых отвратительных условиях, в ужасных местах заключений. Не удивительно поэтому, что значительное количество этих жертв жандармской затеи умерло в заточении или окончило самоубийством, посходило с ума, приобрело неизлечимые болезни. У всех почти заключенных, с крайним нетерпением ожидавших суда, нервное состояние дошло до чрезвычайного напряжения, что проявлялось при всяком поводе.
Наконец, осенью 1877 г. начался суд особого присутствия сената. Не будем долго останавливаться на многочисленных тяжелых инцидентах и столкновениях подсудимых, поддерживаемых их защитниками, с сенаторами, нарушавшими элементарные права и интересы первых: в зале суда разыгрывались возмутительнейшие сцены избиений и насильственных уводов протестантов, раздавались истерические крики, плач и пр.
Несмотря, однако, на чрезвычайную злобу, которую господа-сенаторы питали к подсудимым, даже они, в конце концов, после длившихся несколько месяцев судебных заседаний, вынуждены были 90 человек совершенно оправдать, для большинства остальных признать время, проведенное ими в предварительном заключении, с избытком покрывающим срок полагающегося им наказания, и лишь немногих, наиболее виновных, они приговорили к каторге и к ссылке в Сибирь, но и об этой категории лиц судьи постановили ходатайствовать пред царем о замене подсудимым этих наказаний значительно более мягкими. Однако, несмотря на издавна установившийся обычай, в силу которого царь всегда удовлетворял такие просьбы суда, он в данном случае отказал в этом.
В числе протестантов на суде, за борьбой которых с тяжелым напряжением следила вся передовая Россия, находился и Чудновский. Он оказался также и среди лиц, участь которых «добрый царь» не пожелал смягчить. Кроме того, находясь с другими осужденными, в ожидании отправки в Сибирь, в казематах Петропавловской крепости, Чудновский принял участие в знаменитом в то время «завещании», напечатанном потом в заграничном журнале «Община» и вызвавшем у многих изумление и восхищение. В этом историческом документе, подписанном непомилованными «преступниками против царя», осужденные обращались к оставшейся на воле молодежи с призывом энергично продолжать начатую первыми пионерами борьбу за свободу и благоденствие трудящихся масс, вплоть до достижения полной победы.
Со стороны лиц, целиком находившихся в цепких когтях жестокого правительства, это резкое осуждение его действий и указанный призыв, обращенный к молодежи, являлись чрезвычайно смелым актом.
К концу 1878 г., после четырех с половиною лет, проведенных в тюрьмах и в крепости, Чудновского отправили в городок Ялуторовск Тобольской губ. Ввиду полной невозможности найти какой-нибудь заработок в этой, в сущности, деревне, так как большинство жителей занималось земледелием, Чудновскому приходилось довольствоваться ничтожным казенным пособием в несколько рублей в месяц. (Им ещё, царское правительство, которое они свергали, ещё и деньги платило. Прим. Проф, Столешникова. Как они сами после 1917 года будут относится к людям, просто даже косо посмотревшим в сторону из режима). Но, кроме всевозможных лишений, немало неприятностей должен был выносить он от местного «сатрапа»—заседателя, придиравшегося к нему за такие «проступки», как уход за «черту города» в поле и т. п.
Однако и этой относительной «свободой», после многих лет, проведенных в заточении, Чудновекий пользовался недолго: вследствие перехваченного властями письма, в котором сообщалось о побеге, задуманном некоторыми ссыльными в
других местах Сибири, он вновь был арестован и заключен в тюрьму, по обвинению в составлении «тайного общества, стремящегося устроить побеги ссыльных из Сибири». Только после почти двухлетних скитаний по разным ужасным местам заключений, Чудновский был, наконец, сослан на далекий север Сибири.
Из воспоминаний его, напечатанных в «Минувших Годах» и др. изданиях, видно, что, вследствие независимого его характера, у него неоднократно происходили столкновения о властями, конечно, из-за пустяков. Так однажды, на Пасхе, на обращение к нему знакомого со словами: «Христос воскресе», он сказал: «напрасно сделал он это,—вы его вновь распнете!». При этом присутствовал сам «капитан-исправник», и чуть не вышел большой скандал, который мог для Чудновского, как еврея, окончиться очень печально.
До чего разные начальствовавшие лица придирались к нему, и как поэтому тяжела была его жизнь в Сибири, можно заключить из того, что, по его признанию, он, было, уже решил покончить с собою.
В арестантском халату с двумя желтыми тузами на спине, в кандалах, с наполовину выбритой головой я летом 1885 г. пришел с партией в г. Томск. Одним из первых местных политических ссыльных, встретивших нас, был С. Чудновский, которого я до того не знал. Оказалось, что, после семилетних странствований по разным сибирским захолустьям и тюрьмам, местный губернатор, считавшийся либералом (То есть ещё один криптоеврей. Прим. Проф. Столешникова),
разрешил ему, ввиду болезни глаз, остаться в этом городе.
В течение недели, проведенной мною в Томской пересыльной тюрьме, Чудновский, в качестве моего «родственника», посещал меня почти ежедневно, стараясь, чем только он был в состоянии, приходить на, помощь всей нашей политической партии.
Несмотря на уже проведенные им тогда в тюрьмах и ссылке почти двенадцать лет, он выглядел довольно бодрым человеком, был полон веры и энергии; таким, как мне известно, он и потом остался.
Будучи и в Сибири, он по мере сил продолжал проповедывать усвоенные им в ранней юности мирные социалистические взгляды, являвшиеся распространенной в то время у нас утопическо-анархо-народнической смесью.
Чудновский принимал очень деятельное участие в местной прогрессивной прессе, которая поддерживалась, главным образом, политическими ссыльными. В то же время он также сотрудничал и в столичных журналах, помещая в них; статьи об экономических условиях Сибири, изучением которых он серьезно занимался. Он также участвовал и в некоторых научных исследованиях отдаленных заброшенных местностей.
Его продолжительное пребывание в сибирской ссылке не прошло поэтому бесполезно как для него, так и для тамошнего населения. Особенно заметное влияние он оказывал на местную молодежь.
Как всякий энергичный, сильный и деятельный человек, Чудновский всюду, куда ни забрасывала его судьба, находил для себя интересное и полезное занятие,—то в качество публициста, исследователя, учителя, то общественного деятеля: немало революционеров, появившихся впоследствии в заброшенной Сибири, обязаны были своим развитием, между прочим, и Соломону Чудновскому.
С течением времени условия его жизни в ссылке становились все сноснее, и при малейшем его желании он, подобно некоторым сопроцессникам—Волховскому, Лазареву,—также мог бы легко бежать из суровой, тогда почти безлюдной Сибири. Но он не хотел этого делать, так как, по складу своего характера, не считал себя способным ни к жизни на нелегальном положении, ни к эмиграции. Он поэтому решил терпеливо дожидаться, когда истечет срок его вынужденной жизни, в Сибири, и ему разрешат вернуться на родину. Еще много лет после нашей с ним встречи пришлось ему поэтому провести в ссылке, и лишь в начале 90-х годов, благодаря «амнистиям» по случаю вступления на престол Николая II и его бракосочетания, Чудновский получил, наконец, возможность вернуться в свой родной город.
Таким образом, двадцать с чем-то лет, лучшую часть своей жизни, всю свою молодость Чудновский провел по тюрьмам и в ссылке, в сущности лишь за попытку распространять мирное учение скучнейшего эклектика П. Л. Лаврова.
73
Как мы видели, он влиял на других не только при помощи печатной и устной проповеди, но и непосредственным, личным своим примером, безукоризненным образом жизни, своей стойкостью, твердостью, непоколебимостью усвоенных еще в юные годы крайне идеалистических, гуманных взглядов—о добре, честности, всеобщем братстве и справедливости.
Как и многие другие пропагандисты той замечательной эпохи, Чудновский стремился к тому, чтобы слово его не расходилось с делом: все, что у него имелось, он охотно делил с другими, приходил другим на помощь и т. п.
Он никогда не жаловался на судьбу, заставившую его столько тяжелого перенести, так много испытать за его желание служить делу освобождения обездоленных, трудящихся масс. Наоборот, он признавал, что она была к нему, относительно, еще очень милостива: по сравнению со многими другими он еще «легко отделался»,—как тогда говорили.
Действительно, сколько десятков или сотен, не менее, если не более, даровитых людей поплатилось куда хуже его! Сколько их погибло по тюрьмам, в Петропавловской крепости, в Сибири!
Между тем Чудновский не только вышел из этого тяжелого положения еще здоровым, бодрым, но ему посчастливилось дождаться того момента, который многие из преждевременно погибших его сверстников считали несбыточной мечтой: он был свидетелем того, как отчасти осуществилось то замечательное «завещание», которое он о товарищами составил в Петропавловской крепости летом 1878 г. после процесса 193-х. Вместо прежних мирных борцов.—эклектиков,-«лавристов» и «бакунистов»—на авансцену выступили новые защитники интересов обездоленных, вооруженные более верным, метким оружием, чем какое было у семидесятников,— идеями научного социализма, возвещенного Марксом и Энгельсом. Как известно, последователям названных великих учителей удалось заложить основание широкого рабочего движения в России, создать РСДРП.
Подобно преобладающему большинству «семидесятников», Чудновский не примкнул к нашему социал-демократическому направлению: его симпатии, как и многих его сверстников, также склонялись в сторону эсеров. Хотя он был довольно образованным человеком, но, благодаря усвоенному им в юности миросозерцанию, а также его прошлому, традициям и т. д., будучи,—как и многие народники,—знаком с учением Маркса и Энгельса лишь поверхностно, односторонне, он не мог правильно понять и усвоить его: он верил в преобладающее влияние моральных, этических стимулов. Поэтому, ему, оставшемуся сторонником мирной борьбы за счастье и равенство всех без; различия людей, неимоверно тяжело было оказаться, на склоне лет, очевидцем, наряду с огромными манифестациями, демонстрациями и стачками, устраиваемыми трудящимися массами осенью. 1905 г., одновременно, также и неподдающихся описанию возмутительнейших сцен насилий, совершаемых во многих местностях разнузданными толпами над несчастными его соплеменниками. Он находил к тому же, что в этих возмутительных актах, переворачивавших все его нутро, тоже произошел «прогресс»: 35 лет пред тем в Одессе те же темные массы подвергали только грабежу жалкое имущество еврейской голытьбы, а в дни провозглашения «политических свобод» они распарывали животы у беременных женщин, выбрасывали на мостовые грудных младенцев, отпиливали у стариков ноги и вбивали в голову евреев гвозди... (Видите, кто автор того, что немцы варят из евреев мыло и делают из кожи абажуры. Евреи почему-то заинтересованы в создании впечатления, что лучше к ним никто не может относиться, кроме как вбивать им в голову гвозди. И тот только может поступать с другими, как он описывает, кто сам к другим так относится. Читай «Красный террор» Мельгунова С. Прим. Проф. Столешникова).
Под такими впечатлениями чуткий, отзывчивый на всякое страдание Чудновский, отдавший всю жизнь угнетенным, провел последние свои годы в Одессе, занимаясь до самой смерти литературным трудом. Чудновский оставил довольно интересные воспоминания о 70-х годах. Он умер осенью 1912 г., шестидесяти лет от роду.
При всем различии наших с ним взглядов, мы, в интересах правды-«справедливости», должны признать, что этот семидесятник, как и другие представители его поколения, вполне заслужил память о нем современников, так как его усилия и жертвы не прошли совершенно бесследно: они научили последовавших за ним борцов стоять твердо, непоколебимо на своих постах в отчаянной борьбе за освобождение угнетенных масс. Чудновский и его товарищи были одними из первых, которые стали прокладывать путь, а, это, как известно, особенно трудно.
Но было бы большим преувеличением причислить его к наиболее выдающимся деятелям той эпохи. Нельзя также сказать, что он особенно сильно поплатился за свою деятельность. Все же, по справедливости, следует признать, что в огромном потоке, состоявшем из слез и крови, потребовавшихся для свержения отжившего деспотического строя, были также крупные капли Чудновекого, Гольденберга и их товарищей.
76
ГЛАВА III.
РАБИНОВИЧ, ТЕТЕЛЬМАН, ПАВЛОВСКИЙ, АР0Н30Н И ЭДЕЛЬШТЕЙН.
1. МОИСЕЙ РАБИНОВИЧ.
Чудновский, как мы видели, из евреев был одним из наиболее значительных участников революционного движения первой половины 70-х годов. Таким же он был и среди пяти своих соплеменников, привлеченных по процессу 193-х. После него самым заметным из евреев был одновременно с ним действовавший, тоже студент военно-медицинской академии Моисей Рабинович. Но, между тем как Чудновский выступал в качестве ярого «лавриста», последний, наоборот, примкнул к сторонникам Бакунина.
Сын зажиточного купца, Рабинович выделялся своими большими дарованиями. Ему было всего 17 лет, когда он уже играл довольно заметную роль среди более старых «бакунистов». Он обладал крупными агитаторскими способностями и изумительной энергией. Он перелетал из одного конца России в другой, везде агитируя, возбуждая и призывая к деятельности. Благодаря недюжинной энергии, относительно большому развитию и умственным способностям, с ним считались как с вполне взрослым и серьезным человеком, и одно время имя его было очень популярно в революционном мире. На него вполне полагались, посвящали его в наиболее конспиративные, опасные планы и предприятия, будучи вполне уверенными, что ни под какими пытками этот отважный юноша не выдаст тайн. Последствия, однако, не оправдали этого.
77
Рабинович принадлежал к кружку бакунистов, которым противники их дали насмешливое название «вспышкопускателей», т.-е. взбалмошных людей, задающихся целью производить бессмысленные вспышки, бунты. На самом же деле этот кружок, к которому, кроме юного Рабиновича, принадлежали и довольно солидные революционеры, занимался распространением взглядов Бакунина, для чего организовал за границей издание его произведений и контрабандную перевозку их в Россию.
(Обратите внимание, что вся подрывная работа, как и в наши дни, финансируется за границей. Проф. Столешников)
В этих предприятиях Рабинович и проявлял свою неутомимую энергию, находчивость и смелость. Но на этой же работе он был вскоре арестован и заключен в Петропавловскую крепость.
При его пылком темпераменте, деловитости и непоседливости, суровый одиночный режим был для него особенно невыносим. Нервы его скоро расшатались, мозг начал усиленно работать, у него появились галлюцинации. Этот юноша, почти подросток, чувствовал, что он не выдержит долго заключения, что ему грозит психическое расстройство, и он решил какою угодно ценой вырваться на свободу. План за планом являлся в расстраивавшемся мозгу его; наконец, он остановился на мысли провести, надуть своих следователей;—жандармов и прокуроров: он решил притвориться раскаявшимся во всем своем прошлом,—в своих воззрениях и действиях,—и готовым рассказать все, что знает, с тем, чтобы его выпустили из крепости. В действительности же он намеревался сообщить им только то, что они и без него уже знали.
С этой целью он написал следователям заявление, в котором обещал не только изложить все ему известное, но если они его освободят, то, пользуясь своей популярностью в революционной среде, он передаст им также и все им узнанное на воле. Этим недостойным приемом несчастный юнец рассчитывал спасти для революционного дела такого ценного человека, каким был он, Рабинович. На такую низкую игру,—он был уверен,—решается он не по малодушию, а только в интересах общего дела —революции.
Само собой разумеется, что этому наивному подростку не удалось провести опытных жандармов: посредством искусных вопросов, сопровождавшихся обещаниями освободить его, они выжали из него решительно все, что ему было известно, а затем, конечно, продолжали держать его в тюрьме, смягчив лишь несколько его режим.
Слух о выдаче Рабиновичем всех товарищей, достигший до находившихся на свободе революционеров, вызвал у них крайнее против него возмущение, негодование. Помню, некоторые,—правда, немногие,—дошли до того, что стали обобщать этот печальный факт, утверждая, будто вообще евреи ненадежны, что ввиду их малодушия, неспособности выносить тюремные невзгоды, они могут всех и все предавать. Мне, тоже несовершеннолетнему тогда юноше, было невыразимо тяжело слушать такие возмутительные утверждения, и я посылал проклятия по адресу Рабиновича, скомпрометировавшего своих соплеменников-социалистов.
Единственным результатом выдачи Рабиновича было то, что несколько облегчили для него тюремный режим: хитрым следователям, понимавшим его состояние, было важно сохранить этого раскаявшегося преступника до суда для изобличения оговоренных им лиц. Но этот расчет их также не оправдался: встретившись с другими заключенными по делу о «пропаганде в 36 губерниях», Рабинович покаялся им в своем пред ними преступлении, при чем чистосердечно изложил, вследствие чего он дошел до него. Видя его убитое состояние и приняв во внимание его незрелый возраст, товарищи простили ему ошибочное его поведение, а он обещал на суде отказаться от всех своих показаний.
Действительно, во время судебного разбирательства Рабинович держал себя мужественно, принимал очень активное участие во всех протестах, о которых я выше упоминал, и отрекся от данных им на предварительном следствии показаний. Его приговорили к ссылке в отдаленные места Сибири.
Но расшатанный организм его не мог перенести всех выпавших на его долю невыразимых нравственных мучений: в захолустьи Иркутской губ., куда его отправили, он под гнетом всего им вынесенного, сошел с ума и вскоре затем скончался в возрасте 20-ти с чем-то лет. Так рано погиб наиболее, быть может, одаренный от природы еврей-бакунист, несчастная жертва ужасных политических условий России.
79
2. Юлий ТЕТЕЛЬМАН.
Я не встречал ни одного революционера, к какой бы партии он ни принадлежал, который не отзывался бы с большой похвалой о Тетельмане, раз, понятно, знал его лично. У меня о нем сохранились самые теплые воспоминания. Кроме личных его свойств, на это отчасти, вероятно, влияют обстановка, условия, при которых произошла наша встреча.
В моих записках «За полвека» я довольно подробно изложил, в каком тяжелом положении я оказался, когда, сознав неизбежность для себя перейти «в стан погибающих за великое дело любви», я с нетерпением мчался из провинции в Киев. Там я надеялся встретить Аксельрода и его товарищей, которые, как мне было известно, уже задолго до того стали революционерами.
Я заранее рисовал себе сцену нашей встречи, в качестве единомышленников, но по приезде я узнал о незадолго пред тем произошедшем разгроме в Киеве, а также одновременно и во многих других местностях,—в 36 губерниях, как я уже выше сообщил. Город был, что называется, «выметен до чиста»,—одних арестовали, другие бежали, куда только можно было, чтобы скрыться от ловких ищеек, третьи до того попрятались, что невозможно было найти их следов. От всего узнанного мною в Киеве я в течение некоторого времени доходил чуть не до отчаяния. И вдруг, совершенно неожиданно, у одного знакомого я встретил студента Тетельмана; в некотором отношении он явился для меня, говоря высоким стилем, «якорем спасения». Но прежде скажу несколько слов о его внешности.
Это был худой, слабосильный блондин, без типично еврейских черт лица, сразу производивший довольно приятное впечатление. Было ему лет двадцать—двадцать один. В глаза не бросались ни особенно выдающийся ум, ни развитие, ни начитанность его. Было в нем даже нечто, вызывавшее не вполне серьезное к нему отношение, располагавшее пройтись на его счет, пустить ту или иную шутку, остроту по его адресу. В чем именно «стояло» это «нечто», я не могу припомнить: ведь, с тех пор прошло более полувека. Все же перед моими глазами стоит, как живой, словно это было совсем недавно, этот милый, добрый, симпатичный юноша.
По характеру, замашкам, повадке Тетельман являлся почти полной противоположностью Моисею Рабиновичу: последний, как я уже сказал, был, несомненно, значительно богаче одарен от природы, но вместе с тем он сильно преувеличивал свою ценность, носился с собою, был крайне честолюбив, а потому, как мы видели, был способен и на низкий поступок ради своего спасения.
Среди всех цивилизованных,—может быть., также и нецивилизованных,—народов вообще, а среди моих единоплеменников, как мне кажется, в особенности, существует два крайних, противоположных типа: один, который можно назвать «честолюбцем», другой—«смиренником». Лица, принадлежащие к первой категории, ни пред чем не останавливаются для достижения своих задач, выгод, интересов. Они способны топтать своими ногами тех, которые попадаются им на пути и, как им кажется, являются помехой в осуществлении их целей. Эти цели нередка могут вовсе не быть связаны с личным их благополучием, а, наоборот, а интересами других, а то и целого народа и даже всего человечества, но часто такими возвышенными целями прикрывается только личный расчет: бывает также,—и это чаще всего случается,—что действуют тот и другой мотив вместе, одновременно.
Полагаю, что из этого моего далеко, понятно, неполного определения «честолюбца» уже явствует, кого я склонен называть «смиренником»: я имею в виду человека, обладающего диаметрально противоположными наклонностями,—-не только не выдвигаться вперед, но, по возможности, стушевываться, уступать другим дорогу, забывать о своих личных интересах, жить для других и т. д. Само собою разумеется, вполне законченных таких типов не часто можно встретить,—в большинство случаев люди имеют те и другие черты одновременно, с большим или меньшим уклоном в сторону «честолюбца» или «смиренника»; я не настаиваю на этих эпитетах: я написал первые пришедшие мне на ум. Для большего пояснения этого моего разделения людей скажу, что к первому типу следует отнести Петра I, Наполеона, Бисмарка, Лассаля, ко второму - Саванароллу, Спинозу, Чернышевского, Веру Засулич, Д. Лизогуба, А. Зунделевича и многих других.
К этому же типу принадлежал и Тетельман: он жил для других, совершенно забывая о своих нуждах. За давностью лег не могу сказать в точности, как часто ему приходилось из-за недосуга оставаться без пищи и сна. Он всегда был по горло занят заботами о товарищах.
Как я уже сообщил в «За полвека», осенью 1874 г. в Киеве господствовала сильнейшая паника: немногие уцелевшие от арестов социалисты метались из стороны в сторону в поисках безопасного пристанища и средств для выезда, в чем многие из чувства самосохранения им отказывали. Но появившийся вскоре затем в Киеве Тетельман проявил необыкновенную изобретательность, настойчивость, энергию: он добывал квартиры для приюта «нелегальных», находил средства, паспорта и связи для лиц, решивших навсегда или на время уехать за границу. Он устраивал вечеринки, концерты, лотереи для вымышленных, конечно, «летальных» целей; он заботился об арестованных, снабжая их продуктами, книгами, вещами и пр. При этом он совершенно не думал об угрожавшей ему самому опасности очутиться вместе с арестованными.
Такая интенсивная деятельность не могла укрыться от взоров всеведавших жандармов: зимой того же года Тетельман был арестован и присоединен к тем сотням лиц, которым предстояло несколько лет ждать суда. Слабый, истощенный организм этого необыкновенно альтруистического юноши не вынес тяжелого тюремного режима: он заболел легкими и во время самого суда над 193-мя его товарищами скончался, всего 23—24 лет. Так безжалостная русская действительность, как ниже еще не раз увидим, косила одного за другим редких по душевным и умственным качествам молодых людей, не оставляя даже следа о них в памяти потомков.
3. ИСААК ПАВЛОВСКИЙ.
Позорно, низко окончил хорошо начатую революционную деятельность другой, также бывший студент Военно-Медицинской академии, Исаак Павловский. В начале 70-х годов он играл заметную роль среди небольшого числа членов находившегося в Ростове кружка. Арестованный со многими другими по «делу о пропаганде в 36 губ.», Павловский в течение долгого пребывания в тюрьмах и на суде вел себя безупречно. Неглупый от природы, довольно способный и начитанный, он пользовался среди товарищей уважением.
По суду Павловский был оправдан, из чего явствует, что особенно «преступных деяний» за ним не числилось. Тем не менее, сверх почти 4-х лет, проведенных им, без вины с его стороны, в предварительном заключении, его после суда в административном порядке выслали на север, откуда он вскоре затем бежал за границу.
Случилось так, что мы с ним ехали туда в одном поезде, но по конспиративным соображениям я при нашей встрече назвал себя вымышленной фамилией и выдал за тоже бежавшего с севера студента, высланного из Киева, после происходивших в местном университете весной 1878 г. крупных беспорядков. Вследствие этой небольшой моей мистификации Павловский, по пути и во время нашего совместного перехода контрабандным способом,—при содействии известного А. Зунделевича,— через границу, относился ко мне свысока, как человек, имевший за собою значительный «революционный стаж», к нисколько еще нескомпрометированному в политическом отношении юноше,—я был на два-три года его моложе. Вследствие надменного его ко мне отношения произошел с ним, между прочим, небольшой курьез, отчасти характерный для этого человека.
Зунделевич после перехода через границу усадил нас в поезд, снабдив при этом адресом группы студентов-евреев, выходцев из России, живших на одной квартире в Берлине. Среди них оказался мой товарищ по Киеву Штильман, которого я успел предупредить, чтобы он не сообщал Павловскому моей настоящей фамилии, но, как вскоре оказалось, он не скрыл этого от своих сожителей.
За обедом молодые люди стали расспрашивать нас о последних новостях, привезенных нами из России. Ответы на их вопросы давал исключительно Павловский, как человек «со стажем». Только раз я попытался было внести поправку, но тут же был резко оборван им: кто-то из этих берлинских студентов попросил рассказать о незадолго перед тем происшедшем «побеге из киевской тюрьмы Стефановича, Бохановского и Дейча».
Уверенным тоном, не допускавшим никаких возражении, Павловский стал подробно рассказывать об этом, в то время сильно нашумевшем побеге; когда же он изложил некоторые детали неправильно, я, в «качестве киевлянина», позволил себе внести какую-то поправку. Нужно было видеть, какой укоризненно-пренебрежительный взгляд метнул он в мою сторону, заметив: «мне, конечно, лучше это известно от непосредственных участников».
Перед этим доводом я, понятно, спасовал; а потом вышел зачем-то в другую комнату, куда вскоре зашел мой киевский товарищ и со смехом рассказал заявление Павловского: «Сам Дейч рассказал мне о своем побеге, а тут какой-то студентик позволяет себе опровергать, меня!» Мы все чуть не покатились со смеха, услышав это»,—закончил это сообщение Штильман.
Когда, по приезде в Женеву, Павловский узнал мою фамилию, то чувствовал себя не совсем ловко. Затем он переселился в Париж, как потом оказалось, на очень длинный ряд лет. Одаренный, как я уже сказал, недурными способностями, в том числе и литературными, и будучи от природы пронырливым человеком, Павловский, не в пример другим, хорошо устроился в Париже: ему, «известному революционеру», просидевшему несколько лет в разных тюрьмах, судившемуся по большому процессу и бежавшему из ссылки, всюду были открыты двери, в том числе и у И. С. Тургенева
(Весьма любопытное признание, кем надо быть, чтобы преуспевать в Париже, и характеристика «гусского» писателя Тургенева. Вот фото Тургенева в молодости с обложки америкаской книги о нём: http://zarubezhom.com/Images/Turgenev-krupno.JPG - и http://zarubezhom.com/Images/Turgenev-book.JPG Прим. Проф. Столешникова); через последнего он познакомился также с тогдашними лучшими французскими беллетристами—Золя, Додэ и др. Попав в такую компанию, Павловский решил испробовать свои силы на беллетристическом поприще: написанная им повесть из жизни русских нигилистов настолько понравилась автору «Отцов и детей», что он сам отправил ее в «Вестник Европы» с лестным о ней отзывом. Насколько могу припомнить, повесть эта была там напечатана, но, кажется, прошла совершенно незамеченной.
После этого Павловский перешел на амплуа парижского корреспондента «Новостей»; но, поссорившись из-за гонорара с редактором, небезызвестным Нотовичем, он предложил свои услуги «Новому Времени». Под фамилией И. Яковлева он подвизался там около сорока лет,—вплоть до закрытия этой подхалимской, человеконенавистнической газеты.
Будучи сам евреем, при этом сохранившим все отрицательные, несимпатичные черты нашей нации,—Павловский, став «антисемитом», как говорится, закусил удила; он писал свои корреспонденции в заправском «ново - временском духе», уснащая их излюбленными Сувориным фразами и словечками, переполняя их ложью и клеветой на все честное, доброе, справедливое,—на то, во что он сам еще недавно верил и за, что поплатился несколькими годами жизни.
Стоит ли останавливаться на дальнейшей карьере этого нелишенного способностей, но мелкочестолюбивого господина? Известно, что он одновременно со своим товарищем-сопроцесником, Львом Тихомировым, покаялся во всем, припав к стопам Александра III. Эмигранты прервали с ним сношения.
4. АРОНЗОН И ЭДЕЛЬШТЕЙН.
Описанные мною выше лица, несмотря на незначительность совершенных ими «злодеяний», все же сознательно примыкали к социалистическому лагерю. Но, кроме них, на скамье подсудимых по процессу 193-х очутились еще два еврея, из которых один был очень мало, а другой вовсе не был причастен к социалистам.
Студент Военно-Медицинской Академии, Соломон Аронзон,
(В Военно-Медицинской Академии можно подумать учились или одни евреи или одни революционеры; или это было одно и тоже. Прим. Проф. Столешникова)
уезжая летом 1874 г. на каникулы в Самару, согласился взять с собою врученные ему товарищем уже на вокзале две пачки с книгами, с тем, чтобы, по приезде в названный город, передать их определенному лицу, поступок, на который в то время согласился бы почти любой передовой студент. На его несчастье, у одного его знакомого при обыске взято было его письмо, в котором он, между прочим, писал: «Я еду в Академию кончать курс; затем поступлю на службу, соберу 3000 рублей и тогда возьмусь за работу». Это письмо, в связи с найденными у него двумя пачками книг, которых он еще не успел передать по назначению, послужило для жандармов и прокуроров достаточным основанием, чтобы обвинять его в принадлежности к «тайному обществу, стремящемуся к ниспровержению существующего строя в недалеком будущем». Просидев, поэтому, три с чем-то года в разных тюрьмах, Аронзон предстал пред особым присутствием сената, который признал его виновным в приписанных ему «тяжких деяниях», но засчитал ему в наказание время, проведенное им в предварительном заключении. Как и многие другие лица, случайно пристегнутые к этому процессу, да и вообще к революционному движению 70-х годов, также и Аронзон затем исчез,—имя его мне нигде не попадалось.
***
Еще более случайным «членом тайного общества», раскинувшегося на пространстве 36 губерний, был Моисей Эдельштейн. Контрабандист по профессии, он, конечно, только за деньги занимался перевозкой из-за границы запрещенных произведений. Арестованный в маленьком пограничном местечке, он провел более трех лет в предварительном заключении, также по обвинению в принадлежности к тайному обществу, о существовании и значении которого не имел ни малейшего представления. Этот бедный человек был сильно напуган как тюрьмой, так и угрозами следователей, предсказывавших ему отправку на каторгу. Несчастный Мойше ужасно страдал в одиночках. Одевая ежедневно на себя
талес, он обращался к Иегове с горячей мольбой сжалиться над ним и многочисленной семьей его, положение которой особенно его удручало. Представ, наконец, перед сенаторами, он полным невыразимых страданий голосом заявил: «я никогда даже не мог себе вообразить, чтобы могли быть такие ужасные книги». Это было произнесено таким искренним, правдивым тоном, что нельзя было не поверить ему. Он обещал никогда больше не заниматься таким преступным делом.
Приняв во внимание чистосердечное его раскаяние, суд приговорил этого бедного человека, попавшего, как кур во щи, по лишении всех особенных прав, к заключению в арестантские роты на 31/2 года.
Кроме перечисленных мною шести лиц, к этому процессу
привлекались еще семь евреев, оставшиеся неразысканными, но о них я сообщу ниже. Таким образом, на несколько сот,— если не на тысячу,—арестованных по «делу о пропаганде в Империи», оказалось всего тринадцать евреев. К тому же, между привлеченными не было ни одного, которого можно было бы поставить наряду с Коваликом, Войноральским, Рогачевым, Мышкиным и другими выдающимися участниками этого грандиозного процесса, имевшего огромное влияние на дальнейший ход нашего революционного движения.
87
ГЛАВА IV.
ЖЕНСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ.
Хотя хронологически «процесс 193-х» состоялся позже «Московского» (а также, как известно, и «Дела о демонстрации на Казанской площади»), но лица, привлеченные к нему, раньше выступили на политическом поприще, чем участники названных двух процессов. Поэтому я и начал с подсудимых по «Делу о пропаганде в 36 губ.», а теперь мы перейдем к «Московскому» или к «Процессу 50-ти», разбиравшемуся летом 1877 г., за несколько месяцев до Большого.
Не буду останавливаться на всех особенностях этого дела, отличающих его от процесса 193-х. Укажу лишь на то, что в нем, как известно, участвовало много женщин, при чем обвиняемые ходили пропагандировать не крестьян в деревнях и селах, а рабочих на фабриках и заводах. Кроме того, между тем как среди подсудимых по «процессу 193-х» не было ни одной еврейки, по «процессу 50-ти», наоборот, не было вовсе евреев. В «Деле о пропаганде в 36 губ.» также принимали участие некоторые молодые еврейские девушки, но так как они не были разысканы, а, следовательно, не попали на скамью подсудимых, я их не коснулся в предыдущих главах, отложив это до других моментов. В числе подсудимых по «процессу 50-ти» были две еврейки.
1. БЕТИ КАМЕНСКАЯ.
Дочь зажиточного купца г. Мелитополя, (Характерный пример "пролетарки". Прим Проф. Столешникова) Бети, в детстве потерявшая мать, пользовалась в семье безграничной свободой. Во время игр на улице с ребятишками маленькая девочка впервые познакомилась с распространенной повсюду нуждой и лишениями, что глубоко залегло в впечатлительном ее сердце. Затем, легко научившуюся читать по-русски Бети нельзя было оторвать от чтения. Наряду с пустыми романами, она перечитала и всех русских классиков, что вполне переродило девочку: из резвой, живой, беззаботной Бети рано стала серьезной, задумчивой, погруженной в себя.
Окружающие бесконечно любили тихую, нежную Бети, которая ко всем была ласкова, внимательна; отец же в ней буквально души не чаял. Видя ее страсть к книгам, он, как и другие родственники, считал ее чуть ли не гением и исполнял всякие ее желания. Другого ребенка такое отношение близких могло бы испортить, но не таков был склад характера Бети: отличаясь выдающимися способностями и любознательностью, она полагала, что и все другие могут легко достичь тех же результатов, что и она. Поэтому Бети вовсе не возвеличивала себя.
Несмотря на любовь родных и исполнение ими малейших ее желаний, Бети все же чувствовала себя одинокой в родной семье и ни с кем не делилась затаенными в глубине ее души мыслями и заботами: с детства познакомившись с господствующей повсюду нуждой, лишениями и бедствиями,—что в сильной степени еще расширило и разъяснило ей чтение произведений крупных русских писателей,—молодая девушка рано стала ломать свою голову над разрешением сложного и трудного вопроса,—как помочь, облегчить участь обездоленных, несчастных масс? Чтобы получить ответ на этот поглощавший ее вопрос, Бети решила отправиться в Цюрих для поступления там в университет. Выдержав немалую борьбу с отцом, не желавшим отпустить любимую свою дочь в столь далекую, чужую страну, Каменская, которой было всего 18 лет, однако, настояла на своем.
Между тем, большинство понаехавших в Цюрих из разных концов России девушек, вскоре затем оставив учение в университете и политехникуме, набросилось на изучение социальных проблем. Бети Каменская стала одной из наиболее пламенных прозелиток и, спустя короткое время, с несколькими подругами-единомышленницами вернулась (осенью 1874 г.) в Россию на тяжелый труд и борьбу за счастье обездоленных.
89
С фальшивым паспортом солдатки Марии Красновой хрупкая Бети поступила в качестве работницы на тряпичную фабрику, расположенную на окраине Москвы. Чтобы поспеть на работу, ей приходилось в дождь и мороз, плохо одетой, бежать из одного конца обширного города в другой в четыре часа утра. Сколько трепета и страха испытывала при этих путешествиях слабая девушка, знала лишь она, да немногие такие же, как она, идеалистки—друзья ее, тоже бывшие Цюрихские студентки.
По приходе на фабрику Каменской вместе с другими женщинами нужно было работать до позднего вечера при ужасной обстановке: на сыром, грязном полу они сшивали обрывки различного тряпья. Воздух был полон пыли от тряпок; эта пыль лезла в нос, уши, ела глаза; вентиляции, кроме двери, не было никакой. И за такую работу, длившуюся по 16 часов в течение суток, женщины получали только по 4 руб. 50 коп. в месяц на своих харчах.
Помещались работницы в хозяйских казармах, т.-е. в подвальном этаже, с каменным, мокрым от помоев и разных нечистот полом, с крохотными оконцами, заносимыми зимою снегом. Вдоль стен шли в два яруса нары, на которых спали, тело к телу, по 20 женщин. Постелью им служила рогожа, а одеялами загрязненное верхнее их платье. Вонь и духота стояли в этих «спальнях» невыносимые; насекомые разных мастей кишели уймами. Пищу варить работницам негде было, да и не из чего,—они обходились, поэтому, одним лишь черным хлебом с квасом и огурцами.
Весь этот ужасный каторжный режим добровольно наложила на себя изнеженная Бети: разделяя ужасную участь русской фабричной работницы, эта слабенькая еврейская девушка хотела разъяснить несчастным своим подругам причины их каторжного труда, а также указать им путь к выходу из их положения.
Чтобы стать еще ближе к работницам, Бети, спустя некоторое время, также поселилась в казарме. Но там, несмотря на неимоверное утомление, она, вследствие удушливого воздуха, обилия насекомых и храпа товарок, не могла долго засыпать; когда же лишь поздно ночью она впадала в забытье, ее и других будили сторожа вставать на работу. Не умывшись по-настоящему, без чая и горячей пищи, спешила изнуренная Бети на фабрику. Тяжесть труда ее усиливалась еще тем, что ей, как и другим, приходилось таскать на себе большие тюки с тряпками весом в 11/2—2 пуда по лестницам и по двору. Маленькая, щуплая, походившая на подростка Бети сгибалась под этой непосильной ношей, с трудом удерживаясь на скользких ступенях, чтобы не скатиться вниз. Слезы огорчения за свое бессилие выступали на ее добрых, вдумчивых глазах. Не раз эта героиня-мученица проклинала свою физическую слабость, мешавшую ей выносить этот неимоверный труд, как это удавалось здоровым христианским работницам.
Но и столь, казалось бы, беспредельно-тяжелое положение вскоре сменилось для бедной девушки еще худшим: из тряпичной фабрики она должна была перейти на большую суконную мануфактуру, в которой работало несколько тысяч человек; обоего пола и разного возраста. Условия труда здесь были еще тяжелее: Бети приходилось при самой напряженной, интенсивной работе простаивать на ногах по 14 часов. Утомление ее доходило до такой степени, что, под предлогом нужды, она уходила в отхожее место, чтобы там, на грязном, залитом нечистотами полу вздремнуть на несколько минут...
На этой крупной капиталистической фабрике слабенькая Каменская также должна была на своих тощих плечах таскать пудовые тюки сукна, под тяжестью которых она сгибалась в три погибели. Условия работы еще тем были ужасны, что по-недельно происходили смены рабочих с дневных на ночные и обратно; поэтому, непривыкшая спать днем Каменская валилась от усталости с ног, работая в течение ночей.
Мало того. По окончании работы женщины обязаны были еще убирать мастерские и казармы, где они спали, мыть полы, носить дрова и воду для мастеров и прикащиков, полоскать на речке белье служащих и т. д. Руки несчастной Бети пухли от мокроты и холода, кожа трескалась, глаза мутились, а в ушах не прекращался шум от трескотни машин...
И все это терпеливо переносила одушевленная идеей о необходимости работать для блага человечества слабая в физическом отношении, но сильная духом молодая пропагандистка.
Она не только безропотно совершала свою адскую работу, но нередко помогала еще другим, являясь первой, когда та или другая работница отказывалась от требовавшейся от нее обязанности.
При таких-то условиях Бети Каменская вела пропаганду социализма. Нетрудно себе представить, до чего тяжелой являлась для нее эта задача. Но не только отчаянные условия труда на фабриках осложняли эту ее миссию,—не в меньшей, если еще не в большей степени, помехой этому были сами работницы, среди которых жила эта экзальтированная девушка. Истощаемые тяжким трудом, к тому же неграмотные, грубые работницы думали только об отдыхе, да о доступных им развлечениях с мущинами в свободные праздничные дни. Заинтересовать их проповедью социалистических идей являлось неимоверно трудной задачей. Каменская, однако, выбивалась из сил, чтобы воздействовать на своих товарок и если видела незначительные результаты от своей проповеди, то винила в этом только себя, свою малую подготовленность, свои слабые силы.
Не ограничиваясь женщинами, Бети старалась действовать своим словом и на мужчин. Но в этом отношении, кроме всех выше приведенных затруднений, она наталкивалась еще и на другие.
На русских фабриках строго отделялись рабочие от работниц, каждый пол помещался в отдельных мастерских и казармах, так что только мимоходом, урывками удавалось встречаться одним с другими и перекинуться несколькими словами, преимущественно сального характера. Праздничные же дни рабочие обыкновенно проводили в трактирах, куда приглашали с собой и приглянувшихся им товарок. Незамужние работницы обзаводились возлюбленными, а за женатыми рабочими зорко следили их жены, чтобы они не увлекались другими женщинами.
На первые порах некоторые рабочие пытались также угостить в трактире и нашу маленькую пропагандистку. Но они встретили с ее стороны решительный отпор: всякого рода их заигрывания с нею оставались тщетными, что немало удивляло как рабочих, так и работниц.
Все же Бети ухитрялась вести проповедь также и среди мужчин. Для этого она пользовалась каждым моментом, всяким представлявшимся случаем. Хватаясь за первый подвернувшийся повод, Каменская с пылом и страстью начинала толковать и разъяснять рабочим условия их жизни и труда, рассказывала им о жизни их товарищей в других странах. Она до того увлекалась своей проповедью, говорила с таким энтузиазмом, что вызывала напряженное внимание и интерес у своих слушателей. Если свисток, призывавший на работу, заставлял Бети прекратить свою речь, рабочие просили ее, по окончании работы, продолжать свой рассказ. Грамотность и знания этой молодой работницы - «крестьянки», какой она числилась по паспорту, изумляли рабочих, решивших, что она—раскольница: иначе в те времена русские рабочие не могли себе объяснить развитие этой проповедницы, выглядевшей почти подростком. Ее пламенные речи нередко вызывали на глазах слушателей слезы. И никто из рабочих не заподозрил в Бети Каменской ее еврейского происхождения.
(Весьма показательно. Прим. Проф. Столешникова).
Однако, совсем нелегко удавалось юной проповеднице приобрести и среди своих внимательных слушателей последователей. Нередко, после вполне сочувственного их отношения к ее речам, она замечала у них полное равнодушие к ним, что объяснялось сильным переутомлением их и жаждой отдыха. Тогда бедная Бети приходила чуть не в отчаяние; она обливалась слезами, упрекала себя, грустила. Но, в конце концов, ей все же удалось создать небольшой кружок из распропагандированных ею рабочих.
Невозможно описать охватившую тогда Каменскую радость. Она с восторгом сообщила об этом своим друзьям-пропагандистам, занимавшимся тем же, что и она, делом в Москве. Бети считала себя счастливой и ради такого успеха ни во что не ставила, все описанные мною выше лишения и невыносимо тяжелые условия, перенесенные ею на фабриках.
Но счастье ее было непродолжительно: весной следующего—1875 г. она, а также и все друзья ее, действовавшие в Москве, были арестованы. Из них-то и составили затем процесс, известный под названием «Дела 50-ти», в котором, главным образом, преобладали такие же, как и Бети Каменская, молодые девушки-энтузиастки, бывшие цюрихские студентки—сестры Фигнер, Любатовичи, Субботины и др. Судилась вместе с ними еще также и Геся Гельфман, но о ней я расскажу в своем месте. Закончу о Каменской.
Пребывание в тюрьме, в связи с арестом друзей, которых Бети любила больше, чем своих родных, так подействовало на ее восприимчивую, впечатлительную натуру, что ей представлялось это равным полной гибели столь дорогого ей общего дела. Уже на второй месяц одиночного заключения эта даровитая девушка лишилась рассудка: она впала в тихую меланхолию, отказывалась от пищи и по целым дням лежала на полу. Несмотря на явные признаки помешательства, несчастную девушку, однако, держали долго в одиночке, и только много месяцев спустя, ее перевели в тюремную больницу. Условия содержания в ней были ужасны.— достаточно упомянуть, что сиделки колотили несчастных больных.
После бесконечных хлопот отцу Бети, наконец, удалось упросить жестоких жандармов отдать ему любимое его дитя на поруки. Очутившись на воле, Бети стала быстро поправляться. Она начала даже вновь собираться «пойти в народ», для чего поступила в Петербурге в одну башмачную мастерскую, чтобы научиться этому ремеслу.
В это-то время ей удалось познакомиться с обвинительным актом по готовившемуся процессу 50-ти, и узнанное ею там в сильнейшей степени потрясло ее: ей казалось, что безгранично любимые друзья ее навсегда погибли. Под влиянием этой мысли она до того страдала, убивалась, рыдала, что находившиеся при ней лица не могли выносить ее мучений.
Надеясь ее успокоить, ее под разными предлогами убедили отправиться к отцу в Мелитополь. Но там ей не стало легче. Наоборот, там-то и разыгрался последний акт ее короткой, полной самоотверженности и вместе сильнейших мучений жизни.
Убедившись из чтения обвинительного акта, что ее не привлекают к суду,—что, понятно, обусловливалось её психическим расстройством,—Бети решила отправиться в Петербург, чтобы заявить прокурору о полном своем выздоровлении и, следовательно, о причислении ее к остальным подсудимым. Но отец решительно воспротивился этому ее намерению. Она же во что бы то ни стало хотела судиться вместе со своими друзьями. Опасаясь с ее стороны какого-нибудь отчаянного поступка, близкие учредили за ней бдительный надзор. Однако, им не удалось ее уберечь: не видя впереди для себя выхода, считая все погибшим, Бети приняла яд. После трехдневной агонии, во время которой она призывала то одну, то другую из своих товарок по процессу 50-ти, скончалась эта удивительная и вместе глубоко несчастная девушка.
Безграничной самоотверженностью, преданностью делу, готовностью веем ради него пожертвовать, а также привязанностью к товарищам и изумительной добротой, Бети Каменская принадлежала к тому же типу людей, что и Юлий Тетельман. Но среди таких выдающихся ее подруг, какими были Софья Бардина, Лидия Фигнер, Субботины и др., она ничем не выделялась. К тому же, ввиду ее скромности и застенчивости, она не могла играть в кружке выдающейся роли. Все же такие лица, как Каменская и Тетельман, своим альтруизмом, а также и страданиями вполне заслужили того, чтобы имена их не были чужды следующим поколениям. Между тем, эти мученики остались неизвестными даже для многих лиц, интересующихся нашим революционным прошлым. А, ведь, они-то, эти скромные люди, и являются истинными героями,—история только не предоставила им случая для обнаружения их богатых душевных качеств на крупных явлениях, в выдающиеся моменты и перед широкими массами.
В предыдущих главах я не раз упоминал о жестоких-расправах, которые производили власти над очень мирными, в сущности, юношами и девушками, поставившими целью своей жизни путем пропаганды и агитации привить темному и голодному русскому труженику социалистические идеи. Как известно, мы все являлись тогда большими утопистами, фантазерами: нам казалось, что путем одной лишь проповеди прекрасных идеалов возможно переделать всех людей,— превратить, жестоких самолюбцев в смиренников, волков в ягнят.
95
Временами у меня копошился, правда, червь сомнения: приходили на память сцены из детства и отрочества, когда я бывал свидетелем ужасных, бесчеловечных расправ грубых, звероподобных силачей над слабыми, над женщинами и детьми. «Неужели и этих зверей мы сможем путем слова обуздать?»—задавал я товарищам скептический вопрос, на что получал от некоторых утвердительный ответ.
Как бы то ни было, повторяю, настроение нашей социалистической молодежи начала 70-х годов было совершенно безопасно для «основ» романовской вотчины. Не так, известно, смотрело правительство на распространение мирных социалистических взглядов в стране,—оно гноило в тюрьмах, в медвежьих углах и в Сибири тысячи талантливейших и вместе мирнейших молодых людей.
Московский процесс 50-ти, отчеты о котором вкратце помещались в «Правительственном Вестнике», открыл глаза многим лицам, вовсе не сочувствовавшим «социалистическим бредням»: очутившиеся на скамье подсудимых, молодые люди, неопытные, непрактичные, но одухотворенные страстным желанием сделать всех счастливыми, превратить в святых, не могли внушить ничего иного, как изумление, смешанное
с восторгом.
«И таких наивных энтузиастов, людей не от мира сего, третировать хуже убийц и грабителей!»—с возмущением восклицали многие мирные обыватели, читая речи Софии Бардиной, Петра Алексеева и др.
(«Наивные энтузиасты», которые теперь пишут мемуары о том, как они ловко свергнули прежний государственный строй. Прим. Проф. Столешникова)
Негодование же передовой молодежи давно уже искало лишь повода для своего проявления наружу. Таким поводом, как известно, еще за год до процесса 50-ти послужила в Петербурге смерть заморенного почти до смерти в тюрьме студента Чернышева: родственникам удалось добиться милости—дозволения этому несчастному юноше умереть на воле. Из похорон его молодежь устроила значительную демонстрацию: процессия с гробом, без соблюдения религиозного обряда, останавливалась около Дома Предварительного Заключения и у знаменитого «Здания у Цепного моста» (Третьего Отделения); при этом были произнесены речи, в которых осуждался строй, губящий лучших людей в стране.
Новизна этой демонстрации застала полицию врасплох; сообразив затем в чем дело, она, вмешалась, но ей с трудом удалось направить эти небывалые до тех пор похороны на соответственное кладбище.
Много толков вызвала эта манифестация. Передовой слой, конечно, ликовал: хотя бы таким путем было открыто выражено возмущение господствовавшими в стране ужасными порядками. Правительство же, наоборот, чрезвычайно негодовало на полицию за ее оплошность. Отдано было распоряжение впредь тайком хоронить невинные жертвы практиковавшихся жестокостей. Это, конечно, не остановило желания передовой молодежи выносить на улицу свой протест, так как других способов для него выражения тогда не было. К учащейся молодежи вскоре затем присоединились также некоторые распропагандированные рабочие, пожелавшие также проявить как свое сочувствие лицам, столь неимоверно много жертвующим для пропаганды своих убеждений, так и свое негодование по поводу жестоких правительственных расправ.
Не буду подробно останавливаться на вызванной этими толками, настроениями и чувствами известной демонстрации на Казанской площади (6 декабря 1876 г.), где впервые было развернуто красное знамя с девизом «Земля и Воля» и произнесена была Плехановым вполне мирного характера речь. Интересующимся подробностями этого события рекомендую книжку Плеханова «Русский рабочий в революционном движении».
Упомяну только о возмутительнейшей, зверской расправе, учиненной полицией над безоружными демонстрантами. Сообща с дворниками и шпиками озверевшие полицейские жестоко избили случайно подвернувшихся им на Невском, по окончании демонстрации, молодых людей, даже и не принимавших в ней участия, затем этих истерзанных поволокли в участок, где их вновь били смертным боем, а спустя короткое время предали их наскоро состряпанному суду по обвинению в составлении «заговора с целью ниспровержения существующего строя».
В числе участников этого «страшного заговора», выразившегося в том, что небольшая кучка молодежи собралась послушать речь, критиковавшую возмутительные действия правительства, при чем было выкинуто Красное знамя, оказалось четыре еврея. Я знал всех их, а потому поделюсь своими о них впечатлениями.
97
2. НОВАКОВСКАЯ.
В самом начале 70-х годов я встречал в Киеве довольно великовозрастного молодого еврея из типа «ешиботников», о которых я уже выше упоминал. На вид ему было лет 20—21; по-русски он говорил неважно, но был довольно ,
начитан и, кажется, готовился, в качестве экстерна, в университет. Фамилия его была Новаковский.
Длинный, худой, с бледным продолговатым лицом, окаймленным небольшой черной бородой,—Новаковский при первом знакомстве произвел на меня впечатление «человека не от мира сего». Казалось, его мало или вовсе не интересует все мелкое, преходящее, происходящее на нашей планете,— в этой юдоли печали, где ежедневно совершаются массы несправедливостей и проливаются потоки крови и слез. В действительности, было не совсем так, Новаковский имел чрезвычайно чувствительное и отзывчивое сердце, бившееся в унисон с сердцами всех страждущих и всей тогдашней передовой молодежи.
Судьба, казалось, улыбнулась ему: бедный экстерн, временами не знавший, быть может, где преклонить голову, встретился с интеллигентной, симпатичной девушкой, которую полюбил и у которой пользовался взаимностью. Довольно состоятельные родители ее согласились на ее брак с молодым образованным евреем и снабдили ее двумя или тремя,—не знаю в точности,—тысячами приданого.
Идеал, о котором недавний «ешиботник» не позволял себе даже мечтать, вдруг осуществился в действительности: он получил возможность в течение нескольких лет, без всяких забот о насущном пропитании, предаваться умственным занятиям, с головою окунуться в безбрежный океан идей, знаний, наук.
Но где же лучше всего это осуществимо в России? Конечно, в столице, в Петербурге, где сосредоточены все высшие учебные заведения, где выходят лучшие органы печати, где многоразных обществ и пр. Но эти благородные стремления еврея в глазах русского правительства, как известно, не являлись еще достаточным основанием, чтобы дозволить ему очутиться в столице: требовалось для этого «право на жительство вне черты оседлости». Новаковский получил от одной ремесленной управы свидетельство, что он знает сапожное ремесло.
Мне неизвестно, действительно ли он усвоил это ремесло или за деньги получил нужное свидетельство. Как бы то ни было, но незадолго до разразившейся на Казанской площади первой политической демонстрации, Новаковский, под видом сапожника, поселился в одном из отдаленных студенческих кварталов Петербурга. Там, вместе с женой, он снял от хозяев меблированную комнату; рядом, в другой комнате, поселился брат его жены Софии,—студент Гурович, в третьей комнате помещалась его знакомая, Фелиция Шефтель, о которой я уже сообщал в «За полвека» и расскажу ниже подробно.
Теперь, казалось, явилась для Новаковского возможность зажить сознательной, интересной жизнью, не только погрузившись в науку, но и следя за пульсом лучшей части передового общества. «Мечты, мечты». Как приятно предаваться им, но сколь тяжело становится, когда суровый рок разбивает их беспощадно.
Всего несколько, недель прошло со дня приезда Новаковского в Петербург, как его вместе с женой, в числе других участников демонстрации, арестовали на Казанской площади. Здесь я должен сказать несколько слов о том, как он держал себя на предварительном следствии, а затем на суде, так как в свое время он за это подвергался осуждениям.
Из сообщений современников известно, что участники этой демонстрации не предполагали, чтобы правительство столь сурово отнеслось к ним, как это потом оказалось. Кроме того, то был первый процесс за такого рода политическое выступление. Затем, участники демонстрации, в больщинстве, были мало связанные или вовсе друг, с другом несвязанные лица; наконец, у полиции совсем не было юридических улик против большинства арестованных.
99
Эти и некоторые еще обстоятельства были причиной того, что большинство привлеченных к процессу, в противоположность подсудимым по другим политическим делам того времени, не признавали прямо и открыто: «да; мы были на Казанской площади, слышали и одобряли произнесенную речь», а, наоборот, несмотря на улики, утверждали, что попали туда «случайно», или даже вовсе не были в кучке демонстрантов, а лишь проходили мимо. К их числу принадлежал и Новаковский.
Мало того: от всех его показаний несло такой искусственностью, деланностью, что, когда я читал их в судебном отчете, признаюсь, мне становилось неловко: видно было, что человек из кожи лезет, чтобы обелить себя. Для этого, будучи в тюрьме, он прибег даже к симуляции сумасшествия.
Все это, конечно, вполне понятно, если вспомним, насколько для него должна была показаться отчаянной перспектива вдруг очутиться в Сибири, а то и на каторге, из-за ничтожной прогулки по Казанской площади. Гибель уже наладившихся, столь дорогих для него планов, естественно, могла довести до отчаяния и более сильного человека, чем, как оказалось, был Хаим Новаковский.
Прокурор на суде, воспользовавшись, понятно, всеми имевшимися против Новаковского уликами, доказывал, что его показания «неискренни», «фальшивы», а нервное расстройство—искусственно. Получилось неприятное, тяжелое впечатление.
Все эти ухищрения нисколько не помогли бедняге: он все же был приговорен к ссылке в Сибирь с лишением всех прав состояния.
Нетрудно представить себе, как должен был подействовать на него этот жестокий приговор. Вместо занятий науками и деятельности в пользу ближнего, что, казалось, было так близко к осуществлению,—жизнь в безлюдной сибирской глуши, вдали не только от передового, но и от какого бы то ни было общества. От такого удара судьбы можно было, действительно, получить нервное расстройство и потерять бодрость. К счастью Новаковского, любящая молодая жена его, освобожденная почему-то от ответственности за посещение с ним Казанской площади, добровольно последовала за ним в Сибирь. Этим она, конечно, в сильной степени облегчила его тяжелую участь: по-видимому, она была довольно сильного, решительного характера, что она и показала на деле. С такой женой-другом, единомышленником, Новаковскому уже не столь невыносимой и безнадежной должна была показаться полная лишений жизнь в Восточной Сибири.
Нам пришлось свидеться при довольно оригинальных условиях. Летом 1885 года, идя на каторгу на Кару (Забайкальской области), я на каком-то этапе, вблизи Иркутска, к немалому своему изумлению и вместе радости, вдруг нашел там своих старых знакомых—Хаима Новаковского с женой, которых не видел более 11 лет. За этот длинный период времени масса перемен произошла как в жизни Новаковского, так и в моей. Но с внешней стороны Новаковский выглядел совсем по-прежнему.
— Каким образом вы здесь?—изумился я после приветствий.
— Иду опять на поселение,—произнес он с грустной улыбкой.
— Как так? Ведь вы уже около десяти лет в Сибири?
— Да, я подошел даже под манифест по поводу коронации 1883 г. и был уже переведен в Западную Сибирь, где значительно лучше, чем в Восточной, но вышло так, что, вот, как видите, вновь идем на восток.
— В чем же дело?—в недоумении спросил я.
— Теперь уже я иду добровольно за женой,—это она приговорена на поселение.
— Значит, вы расплачиваетесь с нею за то, что в первый раз она за вами последовала?
— Нет, она и теперь из-за меня же, бедняжка, угодила под суд,—сказал он с грустью.
Мне было ясно, что у Новаковских произошла какая-то непонятная и тяжелая история, о которой не следует пока его расспрашивать, так как было очевидно, что ему неприятно ее касаться в присутствии новых, пришедших со мною товарищей, которых он видел впервые. Когда же, спустя некоторое время, мы остались с ним наедине, он вполне откровенно и подробно рассказал мне следующее печальное происшествие.
101
В том городе, куда Новаковский с женой были переселены но манифесту,—забыл в каком именно,—находилось еще несколько политических ссыльных, и условия жизни были лучше, чем в прежнем месте, в Восточной Сибири. После мытарств в течение 7—8 лет по разным тюрьмам, этапам и сибирским захолустьям, Новаковские, наконец, вздохнули с некоторым облегчением. Но, увы, и это относительное улыбнувшееся им «счастье» длилось недолго.
Однажды один товарищ-ссыльный зачем-то отправился к исправнику в канцелярию, но лишь только он начал излагать, в чем состояло его дело, как последний стал кричать на него, обозвав его «жидом».
— Я вовсе не еврей,—заметил ему пришедший,—а христианин,—и он назвал свою фамилию; если не ошибаюсь, это был нынее покойный Леонид Буланов.
— Так извините: я принял вас за Новаковского,—-заявил исправник.
Когда, пришедши к товарищам, Буланов сообщил им об этом инциденте, среди ссыльных поднялась буря; начались толки и споры о том, что так нельзя оставить оскорбления, хотя бы и заглазно нанесенного исправником одному из них. Проучить исправника некоторые считали тем более необходимым, что раньше администрация не позволяла себе проявлять ненависть к евреям-политическим. Но, после известных погромов 1881 г., волна антисемитизма, повидимому, докатилась и до Сибири.
Ссыльные товарищи Новаковского, как это всегда происходило среди нас, долго спорили и толковали о том, кому и как следует ответить исправнику, чтобы он впредь знал, как опасно оскорблять политического. Между тем как одни находили, что Буланов должен пойти к нему и так или иначе указать ему на возмутительность его выражения по адресу Новаковского, другие, наоборот, считали нужным, чтобы вся колония ссыльных обратилась к нему с коллективным протестом. Находились между ними и такие, которые полагали, что из-за такого незначительного случая, как заглазное оскорбление, к тому же со стороны невежественного бурбона гоголевского типа, не стоит подвергать риску сравнительно благоприятные условия жизни ссыльных в этом городе.
День проходил за днем, собрание за собранием, а товарищи Новаковского не приходили ни к какому решению: публика постепенно остывала, и этот инцидент, вероятно, был бы предан забвению. Супругов Новаковских это чрезвычайно огорчало и расстраивало. Оскорбление, нанесенное исправником, особенно близко к сердцу приняла жена Новаковского. Видя, что бесконечные дебаты товарищей кончаются ничем, она, никому решительно, даже мужу, не сказав, задумала действовать одна.
В присутственный час, когда исправник со своими помощниками и писарями находился в канцелярии, Новаковская явилась туда. Увидев ее, исправник до которого, вероятно, уже дошли слухи о волнении, охватившем ссыльных, очень вежливо обратился к ней, предложив сесть. Но пришедшая, приблизившись к нему, изо всей силы нанесла ему пощечину, сказав при этом: — Вот это вам за «жида»...
Мне незачем подробно рассказывать, какой переполох вызвал этот поступок Новаковской, как в канцелярии, так и среди ссыльных и сибирских обывателей, для которых в те времена исправник был чуть-чуть поменьше царя.
Само собой разумеется, что Новаковская была тут же арестована и предана суду по обвинению в оскорблении «должностного лица при исполнении им его служебных обязанностей». За это она была приговорена к ссылке на поселение в Восточную Сибирь с лишением всех прав состояния. Товарищи Новаковских почувствовали большой конфуз: они не могли не сознавать, что только их проволочки и нерешительность были причиной поступка Новаковской, за что она так сильно должна была поплатиться, между тем, предприми они коллективно какой-нибудь акт против исправника, их всех не могли бы так наказать.
Смущен был немало и сам муж, допустивший, по своей слабохарактерности, чтобы за оскорбление, ему нанесенное, отомстила жена его. В этой истории, как и в деле участия в Казанской демонстрации, Новаковский вновь проявил отсутствие чувства собственного достоинства и боязнь тяжелых для себя последствий. В разговоре со мною, он не скрывал своего недовольства товарищами за их нерешительность, но и себя он не мог оправдать. Мне жалко и неприятно было смотреть на него.
103
Совсем иные чувства с первого же взгляда вызвала во мне, да, полагаю, и в других, Новаковская. С открытым, выразительным лицом и ясными глазами, она производила впечатление прямой, искренней и вместе решительной женщины. Во время разговора она возбуждалась, и симпатичное, умное, энергичное лицо ее покрывалось краской,—приятно было тогда смотреть на нее, представлявшую резкий контраст с вялым супругом. Несмотря на то, что на руках у нее был грудной младенец, которого Новаковская родила, уже будучи в тюрьме, она быстро и умело делала все необходимое для своей семьи. Если мы примем во внимание неимоверно тяжелые условия этапного путешествия даже для здоровых холостых людей, то поймем, какой силой воли и выносливостью нужно было ей обладать, чтобы все тягости и мытарства переносить бодро и вместе просто.
В беседе со мною Новаковская, в противоположность мужу, не жаловалась ни на товарищей, ни тем более на него. Она также ни малейшим образом не сожалела, что расправилась с исправником:
— Я не могла иначе, я должна; была так сделать,— сказала она мне просто.—Не за мужа только мстила я, а и за других.
Она была права: слух о ее «пощечине», конечно, быстро распространился по всей обширной Сибири, и, несмотря на установившуюся тогда в Европейской России страшную полосу антисемитизма, насколько могу теперь припомнить, там, в бесправном краю каторги и ссылки, где всякий чинуш считал себя неограниченным владыкой, никому из многочисленных политических евреев уже не приходилось переносить оскорблений: это купила для нас Новаковская многолетней ссылкой на поселение в отдаленное захолустье Иркутской губернии. Но этим, однако, не окончились ни ее, ни ее мужа мытарства.
Как известно, в восьмидесятых годах, после убийства царя Александра II, наступила в России сильнейшая реакция, особенно отразившаяся на участи евреев: как я уже выше упомянул, введены были многочисленные ограничения и без того жалких прав евреев; тогда же из разных мест России стали массами ссылать еврейскую молодежь административным порядком в самые отдаленные и безлюдные окраины Якутской области. Условия перевозки туда, длившейся многие месяцы, а также и жизнь в якутских улусах были до того ужасны, что одна партия ссыльных, зимой 1889 г., решила не отправляться добровольно из г. Якутска в Средне-Колымск, пока власти не предоставят некоторых, в сущности ничтожных, облегчений. Начальство не уступило. Тогда ссылаемые заперлись в одном доме. Его окружили солдатами, которые пронизали дом пулями. В результате несколько человек (Ноткин, Шур, С. Гуревич, Пик и др.) были забиты, многие ранены; остальные преданы военному суду, приговорившему одних к смертной казни (Коган-Бернштейна, Зотова, Гаусмана), других к каторге (Гоца, Минора, А. Гуревича и др.).
Взрыв всеобщего возмущения и негодования во всем цивилизованном мире вызвала эта ужасная, неслыханная до того бойня, и отовсюду посыпались протесты по адресу жестокого русского правительства.
«А откуда мир узнал об этом если не по еврейским каналам? Прим. Проф. Столешникова)
Не могли, конечно, молчать и ссыльные, разбросанные в разных гиблых местах необъятной Сибири. В числе этих протестантов были и супруги Новаковские, при чем инициатива принадлежала, наверно, жене. За это они поплатились новой высылкой—в еще более гиблое захолустье Якутской области.
Что стало с ними потом, и живы ли они, мне совершенно неизвестно, но до 1901 года, пока я был в Сибири, они еще там оставались.
Так судьба наказала Новаковского и его жену за случайное участие в первой русской политической демонстрации: жизнь этой четы прошла, по тюрьмам и в Сибири, хотя фактически они вовсе не участвовали в революционном движении и даже на Казанской демонстрации очутились из одного лишь любопытства.
3. ФЕЛИЦИЯ ШЕФТЕЛЬ.
Среди «активных» участниц демонстрации на Казанской площади оказалась молоденькая еврейская девушка, Фелиция Шефтель, которую я, знал довольно хорошо: мы познакомились ровно за два года до этой демонстрации в ее родном городе Житомире. В первый же вечер моего приезда туда, в качестве «делегата» от киевского кружка Фесенко, с важной миссией вербовать адептов, (См. в «За полвека» главу: «Как мы собирались в народ». 2) См. ту же мою книгу «За полвека»).
я увидел среди нескольких юношей, собравшихся по этому случаю в квартире знакомого мне, высланного из Петербурга туда студента молоденькую, красивую гимназистку-подростка с золотистого цвета вьющимися волосами.
Целью моего приезда в Житомир было наметить из местной молодежи лиц, наиболее годных для того, чтобы готовиться к отправке «в народ». В числе особенно экзальтированных лиц, выразивших готовность немедленно отказаться от своего общественного положения, от карьеры, оставить учебное заведение, расстаться с родными и т.. д.—была эта миловидная блондинка, лет 16—17-ти; хотя ей оставалось только несколько месяцев до окончания гимназии, она все же готова была тотчас же бросить ученье и родительский дом, чтобы сразу примкнуть к «делу», к «революции», которая понятно, «не ждет», ибо «каждый пропущенный день является, конечно, неисчислимой, преступной потерей для скорейшего осуществления блага и счастья обездоленных масс».
Из частных бесед с хорошенькой Фелицией я узнал, что она была единственной дочерью богатых местных купцов, которые в ней души не чаяли. Для них, поэтому, присоединение их любимой девочки к страшному делу было бы тяжелым ударом. Но Фелиция не останавливалась перед этим важным соображением, точно так же, как и все мы, переживавшие аналогичные семейные трагедии.
Однако, несмотря на мой также очень юный возраст и расположение, которое внушала эта живая и симпатичная девочка, я не поощрял ее намерения, как поступил бы всякий другой на моем месте юный «делегат»; наоборот, я стал приводить ей разные доводы и соображения, почему ей следует сперва окончить гимназию, затем поехать в Петербург на высшие курсы и только впоследствии, испробовав разные положения, посвятить себя целиком делу служения народу, потому, мол, что это задача трудная и опасная.
106
Такое «благоразумие» со стороны девятнадцатилетнего юноши, к тому же лично не проявившего его, могу теперь объяснить только инстинктивным страхом, чтобы столь симпатичная девушка не погибла рано: быть может, на меня в данном случае подействовали известия о многих подростках, погибавших в тюрьмах вследствие мучительств со стороны жандармов. Во мне симпатичная Фелиция с первого взгляда вызвала одно лишь чувство брата к меньшей сестре.
Как бы то ни было, но увлекающаяся, восторженная девочка, пылавшая стремлением немедленно присоединиться к революционному движению, несмотря на мои, как мне казалось, неопровержимые доводы, все же осталась при своем намерении.
— Что ни говорите, а я уйду от родных в народ. Если вы не хотите принять меня в ваш кружок,—тем хуже: мне придется действовать самой, без помощи и руководства более опытных товарищей,—заявляла она решительным тоном.
Видя такое упорство и настойчивость со стороны этой
юной девушки, я в заключение попросил ее подождать, по
крайней мере, до получения ответа от всего нашего кружка,
так как я, в качестве уполномоченного, мог лишь наметить
кандидатов, но не вправе был один, на свой страх, зачислять
их в члены. На это мое предложение Фелиция согласилась,
и мы с нею расстались приятелями.
Хотя с тех пор прошло более полустолетия, но я и теперь еще живо помню настроение, в котором я возвращался из Житомира.
Чрезвычайно приятное впечатление произвела на меня собиравшаяся у упомянутого студента симпатичная молодежь, среди которой Фелиция Шефтель бесспорно выделялась.
Потом я передал Фелиции мнение членов нашего кружка, что ей не следует оставлять гимназию и рвать с близкими и окружающими ее, так как у неё может не хватить сил вынести сопряженные с революционной деятельностью лишения и страдания. Я продолжал настаивать, чтобы она по окончании гимназии поехала в Петербург, на что, скрепя сердце, она согласилась.
107
Прошло около двух лет. За это время я ничего не слыхал о Фелиции, так как не встречал никого из житомирцев. Но, вдруг, в начале декабря 1876 года я из газет узнал, что во время демонстрации на Казанской площади Фелиция Шефтель выкинула красное знамя с надписью «Земля и Воля». Потом я прочел о процессе, в котором она, вместе с другими арестованными, судилась за «возбуждение к бунту».
То был один из самых возмутительных, даже в России, политических процессов: манифестация в честь Чернышевского, в которой приняло участие несколько десятков юношей и девушек, жандармы превратили в «бунт», чуть не в революцию. Несмотря на то, что, как я уже сообщил, арестованные лица были отчаянно избиты по пути и в полицейских участках, у правительства хватило наглости представить этих, в большинстве несовершеннолетних молодых людей страшными, опаснейшими «бунтовщиками».
Все,—начиная со свидетелей, которыми являлись полицейские, дворники и шпики, до судей включительно,—было скандально в этом процессе, и завершился он так, как того заранее хотело всесильное Третье Отделение: большинство захваченных лиц, из которых многие оказались на площади случайно, были приговорены к многолетним каторжным работам и к, ссылке в Сибирь. Ввиду несовершеннолетия Шефтель попала во вторую категорию: ее осудили на поселение с "лишением всех прав состояния и отправили в одно из самых северных и самых ужасных захолустий Сибири— в так называемый «город Березов», состоявший тогда из нескольких десятков лачуг, населенных самоедами и тунгусами, и стольких же избушек с наполовину одичавшими русскими. Как жилось в таком гиблом месте 18-летней девушке—невозможно представить себе, не испытав этого лично. Описание всего вынесенного ею там потребовало бы слишком много места.
Вновь прошло несколько лет, в течение которых мне ничего не приходилось слышать о Фелиции. Я был уверен, что она уже на веки погребена в снегах Сибири. Но совершенно неожиданно, шесть лет спустя, я вдруг получил радостную весть, что Шефтель удалось бежать из Березова и благополучно добраться до Цюриха.
Я жил тогда, в качестве эмигранта, в Женеве, а потому, воспользовавшись подвернувшимся поводом, поехал в Цюрих, чтобы свидеться со своей старой симпатичной знакомой.
То было под новый 1883 год,—для меня, во многих отношениях, и помимо этого свидания, чрезвычайно памятный. Трудно передать то удручающе-тяжелое впечатление, которое произвела на меня встреча с Шефтель: я сидел, долго всматриваясь в ее лицо, и время от времени спрашивал:
— Это вы, Фелиция?
— Да, я,—отвечал совершенно незнакомый мне голос.
— Но что с вами случилось? Я не узнаю вас,—совсем не те черты лица, не та интонация.
— Можете из этого заключить, как мне жилось с тех пор, как мы с вами виделись, в особенности за последние шесть лет в Березове,—ответила она с глубокой грустью в голосе.
За исключением цвета золотистых волос, сильно, однако, поредевших, все до неузнаваемости изменилось у этой совсем молодой женщины: глаза потускнели, лицо имело вялое, поблекшее выражение, словно она недавно оправилась от тяжкой болезни. Ничего похожего на бойкую, живую девочку, полную кипучей энергии и устремлений, которую я знал 8—9 лет пред тем: я видел пред собою полуразбитую и не по летам пессимистически настроенную женщину. Невозможно было поверить, что всего 6—7 лет назад, во время процесса, эта старообразная женщина обращала на себя внимание красивой своей внешностью и манерами. Никто не подумал бы, что ей всего 24 года.
Меня она встретила, как старого знакомого, но сдержанно, без малейшего оживления. Разговорились. Понемногу, без всякого оживления она сообщила кое-что из пережитого в Березове. За давностью лет не могу воспроизвести все тогда мною от нее именно, а не от других ссыльных в том же захолустьи, услышанное. Упоминала она о моральных, а также и о физических страданиях, которые ей пришлось там переносить в течение долгих лет лучшей поры молодости. Временами эта жизнь доводила ее до полного отчаяния. Она чувствовала себя постепенно погружающейся в болото, Медленно умирающей. Еще немного, и она, конечно, погибла бы, но счастливый случай спас ее: туда же в Березов был отправлен один из приговоренных на поселение по процессу 50-ти, фамилии которого теперь не помню, но в Цюрихе он назывался Булыгиным,—полу-интеллигент, полу-рабочий. Во время этого знаменитого процесса он, помнится, вел себя далеко не героем и, кажется, кое-кому из товарищей повредил. К этому присоединялось еще то, что он звезд с неба не хватал и производил не особенно благоприятное впечатление своим самоуверенным, несколько излишне развязным и хвастливым тоном. Внешностью он также не мог похвалиться: белокурый, с простыми, невыразительными и грубыми чертами лица, он имел вид неотесанного, неразвитого приказчика.
«И это муж Фелиции»,—думал я, слушая пространные разглагольствования Булыгина, в которых местоимение «я» повторялось непрерывно.
— Да, он меня спас,—-говорила, между тем, Фелиция, и по грустному лицу ее разливалась улыбка не то признательности, не то гордости, что судьба послала ей супруга столь высокой ценности.
— Он не только не дал мне окончательно погибнуть в Березове, но, благодаря исключительно неимоверной его энергии, настойчивости и ловкости, я, как видите, очутилась вновь на свободе.
Приняв, как должное, вполне заслуженные, лестные отзывы жены, Булыгин стал детально рассказывать, как он задумал, а затем осуществил совместный с Фелицией побег из Березова, какие при этом ему пришлось преодолеть неимоверные препятствия, каких невероятных опасностей избегнуть и т. д. Выходило, конечно, так, что он, действительно, обладает перечисленными его женой доблестями, и, не случись его, Шефтель, вероятно, погибла бы в Березове.
Рано попав в неимоверно тяжелые условия Сибирской ссылки, когда характер ее совершенно еще не оформился, Фелиция скоро поддалась их гнету. В Булыгине же она нашла то,- чего ей не доставало. Будучи значительно выше его по уму и развитию, она уступала ему в; силе воли, почему целиком подчинялась ему. Странно было видеть, что эта женщина, прежде являвшаяся пылкой энтузиасткой, порывавшаяся вперед на геройские поступки и звавшая других следовать за нею, как бы стушевывалась в присутствии бесцветного и хвастливого парня, на которого она не только смотрела с умилением, но, повидимому, даже и побаивалась. Так, когда, во время его разглагольствований, она также пыталась вставить слово, он иногда довольно грубо обрывал ее, восклицая: «дай же мне сказать!». Фелиция послушно умолкала и, вообще, при муже стушевывалась.
Тяжело было видеть такое ее малодушие. Невольно приходило на ум: «нет, это не та живая, полная сил и энтузиазма девушка, которую я знал всего восемь лот тому назад».
Булыгины поселились в Цюрихе. Он и там проявил большую настойчивость: вскоре настолько изучил совершенно чуждый ему немецкий язык, что смог поступить слушателем в политехникум в Винтертуре; он, повидимому, обладал техническими способностями.
Жизнь на воле, в благоприятной обстановке, в кругу интересных и симпатичных товарищей, к числу которых относилась семья Павла Аксельрода, благотворно подействовала на Фелицию: она стала как - бы оттаивать и возрождаться. Когда же, спустя некоторое время, у нее родился ребенок, то несколько ожила, помолодела, и к ней возвратились отчасти прежнее ее изящество и грациозность. В первое время по приезде в Цюрих она казалась совершенно равнодушной ко всякой общественной деятельности. Но, когда по прошествии года возникла наша группа «Освобождение Труда», Фелиция также заинтересовалась этим новым течением, а вскоре затем вступила членом в местный кружок содействия, задававшийся целью оказывать всякого рода помощь нашему направлению.
Приезжая время от времени по делам нашей новой группы в Цюрих, я встречал ее на собраниях, а также у Аксельрода и с удовольствием замечал, что она все более прогрессирует.
У нас установились добрые товарищеские отношения. Затем судьбе угодно было, чтобы Булыгина сыграла некоторую роль при моем аресте в Фрейбурге. Лица, читавшие мою книгу «16 лет в Сибири», помнят, вероятно, об этом. Все же сообщу в немногих словах об этом важном событии в моей жизни.
111
В начале весны 1884 г. я с паспортом Булыгина отправился по делам группы «Освобождение Труда» во Фрейбург (Баденский) и тотчас по приезде туда, по случайному стечению обстоятельств, был арестован. Боясь быть выданным русскому правительству, я утверждал, что я, действительно «Булыгин», хотя этот паспорт был фальшивый, т.-е. сделан на вымышленную фамилию, о чем из России было сообщено германскому правительству. Пока я содержался во Фрейбургской тюрьме, я вел переписку с Фелицией, в качестве ее «законного мужа», и, таким образом, подготовлял побег на тот случай, если Германия решит выдать меня русскому правительству. Но, как известно, все старания друзей моих, находившихся в Швейцарии, помочь мне выйти из тюрьмы тем или иным способом,—в чем Фелиция, повторяю, под видом «моей жены», принимала некоторое участие,—не увенчались успехом: я все же был отправлен в Петербург. Но и там, в первое время, я продолжал; с разрешения следователей переписываться с Фелицией, так как она считалась моей женой. Мои письма она, конечно, передавала друзьям и отвечала мне за них, что, понятно, в сильной степени облегчало тяжесть внезапной моей разлуки с ними, а также и удаления от дел группы «Освобождение Труда».
По возвращении в Швейцарию в 1901 году, после побега из Сибири, я уже не застал Булыгину: она с мужем и детьми задолго до этого переселилась в Болгарию. Где она теперь, не знаю. Но образ молодой Фелиции Шефтель и до сих пор сохранился у меня, как приятное воспоминание юности.
ГЛАВА VI.
АЛЕКСАНДР БИБЕРГАЛЬ.
Большинство, лиц, привлеченных по делу о первой политической демонстрации, старалось объяснить свое присутствие б декабря 1876 г. на Казанской площади случайностью. Не так держал себя на суде студент 3-го курса Военно-медицинской академии
(Опять Военно-Медицинская Академия. Прим. Проф. Столешникова)
Александр Бибергаль. Он был одним из немногих подсудимых по этому процессу, который, не изворачивался, не старался смягчить свою вину, что, как мы видели, делал Новаковский. Бибергаль к тому же вел себя чрезвычайно открыто, смело, говорил правду судьям-сенаторам. Такое независимое поведение его очень не понравилось последним: этим следует объяснить тот жестокий приговор, который они ему вынесли.
Прокурор, конечно, понимал, что присутствие в Казанском соборе не является еще преступлением. Поэтому он старался изобразить тяжким деянием слушание «враждебной правительству» речи Плеханова. Но так как не только он сам, но и полицейские чины речи этой не слыхали, то заключить о «преступности» ее суд мог лишь на основании показаний свидетелей, часть которых, очевидно, была заранее подучена, как им показывать. Тем не менее, вот как эти свидетели передавали эту «страшную речь», за одно слушание которой Бибергаль (и трое христиан) угодили на каторгу.
«Насколько помню,—показывал один свидетель,—говорилось о народе, о людях, которые пострадали за народ, упоминалось имя Чернышевского и других; говорилось, что у народа отнимают последнюю корову и курицу; при этом было страшное волнение в толпе, стали кричать «ура», бросили что-то красное, кажется, флаг с какой-то надписью».
В этом же роде изображалась речь Плеханова и другими, более или менее интеллигентными свидетелями. Иначе представляли дело хулиганы, помогавшие полиции избивать и арестовывать демонстрантов.
«Полиция видит, что «Земля и Воля»,—показывал такой свидетель,—это что-нибудь значит. Мы почем знаем? Полиция нам сказала, что бунт. Потом мы сами видим: стали полицию бить, уж это видно, что бунтуют. Видим флаг,— значит неблагополучно».
На основании таких именно показаний «правдивых» людей несколько молодых людей пошли на каторгу и на поселение в Сибирь.
Что касается обвинения демонстрантов в том, что они, будто бы, оказали сопротивление полиции, то, как на суде было неопровержимо доказано подсудимыми, конечно, не они, а их самым жестоким образом избивала полиция вместе с добровольцами-хулиганами.
На суде Бибергаль совершенно правильно указывал «высоким судьям», что преступление, в котором его обвиняют, ничтожно, пустячно, а это не могло понравиться назначенным царем сенаторам.
В обвинительным акте, предъявленное Бибергалю и другим привлеченным с ним лицам обвинение было так формулировано: «такого-то числа обвиняемые, по окончании богослужения в Казанском соборе, в котором они собрались вследствие распространившихся между ними сведений о готовившемся на этот день выражении враждебных правительству мнений, выйдя с другими неразысканными лицами на площадь, образовали из себя толпу, слушали произносившуюся из среды их речь, направленную к порицанию установленного законами государственного порядка и образа правления, выражали сочувствие этой речи громкими криками и знаками одобрения, поднимали красный флаг с революционным воззванием «Земля и Воля», а затем толпой яге двинулись по площади»... Кроме того, они «оказали явное, соединенное с насилием сопротивление полицейской власти». Вот все преступление, предъявленное самим судом.
На судебном следствии Бибергаль сообщил следующее: «Я хочу разъяснить, как было дело, нисколько не оправдывая себя, а как свидетель. Я был в соборе. Я не буду говорить о том, как я узнал, что в Казанском соборе предполагается панихида. После окончания службы начали выходить по-очереди. Я не знал, что будет произнесена речь, и собирался уходить. Но услышал голос: «господа, вернитесь». Я вернулся и слушал речь. В это время у собора стояли городовой и надзиратель: они как будто ждали, чтобы произошло то, что потом совершилось, чтобы хватать и бить. Времени у них было достаточно, чтобы предупредить случившееся, потому, что речь продолжалась значительное время, но никто этого не сделал. Заявляю, что многие из нас уже разошлись, потому что не знали, что будет речь. Она произносилась, как желание одного, который выразил сожаление, что многие погибают, но он не говорил ничего враждебного правительству. Выслушав речь, я направился домой, обернулся и увидел знамя. В это время раздались свистки: прибежали городовые и стали хватать и бить. Я не дрался, но если бы кто-нибудь меня ударил, я не смолчал бы. Меня держали дворник и городовой». На вопрос председателя суда: «Как же это вас без всякого повода взяли?», Бибергаль ответил: «Видите ли, у меня пальто потертое, и я с виду смахиваю на студента». «Только потому?»—спросил председатель «Я уверен,—сказал Бибергаль,—что если бы полиции приказали, то она забрала бы всех студентов на улице». «Вы не можете знать, что сделала бы полиция, —воскликнул сердито председатель.
Так держал себя перед судом сенаторов бедный студент-еврей, на котором было поношенное пальто. Мало того, что Бибергаль, как мы видим, вел себя смело, он еще отказался от назначенного ему судом защитника и сам вел свое дело, что судьями также признано было «дерзостью», протестом с его стороны.
В своей обвинительной речи прокурор постарался представить Бибергеля человеком, который «крайне развращающим образом» влиял на молодежь и рабочих, и требовал поэтому для него за его, будто бы, «призыв» народа к бунту высшей меры наказания, т.-е. ссылки в каторжные работы на 15 лет.
Между тем,—как совершенно правильно указывал в своей защитительной речи двух подсудимых по этому процессу знаменитый присяжный поверенный Бардовский,—во всем происшедшем на Казанской площади не только не было призыва к восстанию, но и вообще не было какого-либо преступления. «Что преступного,—спрашивал он,—в том, что в произнесенной речи говорилось, что лучшие люди ссылаются, что барин продает последнюю корову у крестьянина? Разве есть какое-нибудь преступление в том, что человек хочет служить панихиду?.. Говорят, что здесь было знамя «Земля и Воля», и преступность видят в этих именно словах... Но что же тут преступного?.. Положение 19-го февраля проникнуто этим именно принципом...» и т. д.
После этого блестящего опровержения шаг за шагом всех пустых, вздорных обвинений, возведенных полицией, сообща с прокурором, на нескольких молодых людей, Бибергалю немногое осталось сказать, когда дошла до него очередь. В виду краткости его речи я приведу ее здесь почти целиком.
«Все обвинение против меня построено на тех показаниях, которые даны на суде. Из них вы знаете, что б декабря я был на площади и видел это ужасное красное знамя... Сделал ли я какое-либо преступление? Если уважать память товарищей,—а из тех людей, по которым предполагалось служить панихиду, многие были моими товарищами, сидели на одной школьной скамье со мною,—есть преступление, то, понятно, я тогда виноват. Затем я видел знамя и слышал речь. Но разве, имея глаза, можно не видеть и, имея уши, можно не слышать? Что касается сопротивления полиции, то даже сам прокурор в своей обвинительной речи не счел возможным повторить его на суде».
И несмотря на то, что, таким образом, взведенное на Бибергаля тяжкое обвинение в «возбуждении бунта» было им (и всеми защитниками остальных подсудимых) вполне опровергнуто, «праведные судьи» все же приговорили его к пятнадцати годам каторжных работ в сибирских рудниках, т.-е. к такому же наказанию, как если бы оп убил несколько человек. Это—за посещение собора и слушание, в сущности, безобидной речи. Но так как остальные подсудимые, виновные в этих же «тяжких преступлениях», приговорены были только на поселение в Сибирь и к другим еще более мягким наказаниям, то остается предположить, что только своим смелым поведением на суде Бибергаль заслужил этот неимоверно-суровый, даже в тогдашней России, приговор.
В его прошлом не было решительно ничего такого, к чему известные своим усердием русские жандармы могли бы придраться. Самые тщательные их розыски и вынюхивания могли лишь установить, что Бибергаль был сыном незначительного мещанина г. Ялты. По окончании гимназии в Керчи, он отправился в Петербург, где поступил в Военно-медицинскую академию. Там Бибергаль усердно занимался, регулярно посещал лекции и переходил с курса на курс. Во время ареста на Казанской площади он был уже на третьем курсе и, очевидно, стремился к медицинской карьере. Но, как и каждый почти тогдашний передовой студент, он не прочь был посетить ту или иную сходку, почитать запретный листок, послушать речь. Однако, «в народ» пойти не собирался и серьезно пропагандой не занимался. Отчасти, может быть, это обусловливалось тем, что, чуть ли не на первом еще курсе, он полюбил молодую, интеллигентную девушку-христианку, с которой решил навеки связать свою жизнь. Поэтому, вероятно, он не стал, подобно другим, активным деятелем, сжигать за собой кораблей, а стремился получить диплом врача, чтобы обвенчаться с любимой девушкой, жившей на его родине. Но он был прямой, честный, отзывчивый молодой человек. Поэтому, узнав о готовившейся демонстрации, он принял в ней участие и за это угодил на каторгу, когда ему минуло всего 22 года и в близком будущем ему представлялась тихая, счастливая жизнь с любимой женой.
Другого молодого человека столь ужасный и совершенно неожиданный переворот мог бы повергнуть в отчаяние, вызвать апатию. Ничего этого не произошло с Бибергалем: он мужественно перенес все ужасы, сопряженные с многолетней жизнью на каторге, а затем и на поселении.
Любимая им девушка пожелала последовать за ним, чтобы облегчить его тяжелую участь. Этим благородным поступком она, конечно, во многих отношениях помогла ему перенести внезапно разразившееся над его головой бедствие. Но с другой стороны, сознание, что его невеста из-за него подвергается всевозможным лишениям и неприятностям, сопряженным с жизнью в глухих захолустьях Сибири, не могло не тяготить его.
117
Особенно и ему, и ей было тяжело, пока он, отбывая долгий срок каторги, находился в тюрьме, а ей приходилось жить одной поблизости в убогой хибарке, в местности, переполненной отчаянным сбродом из бывших уголовных, окончивших сроки каторги и «испытуемых». Но те два дня в неделю, когда Бибергалям разрешались свидания, отчасти вознаграждали их за все выносимые в остальное время мучения и страдания.
Томительно медленно тянулся год за годом,—с этим уходила их молодость, лучшая пора жизни. Бибергаль и его жена терпеливо ждали того момента, когда они смогут, наконец, жить нераздельно. На их счастье, это наступило раньше, чем они предполагали: изданный по случаю коронации Александра. III манифест в особенно сильной степени облегчил участь лиц, осужденных по делу о демонстрации на Казанской площади. Это было вполне понятно, потому что даже сами правительственные лица вскоре затем признали, что суд уже чересчур жестоко расправился с совершенно случайно нахватанными полицией лицами. Благодаря этой «царской милости», Бибергаль пробыл на каторге не 15, а «всего лишь семь лет», и в 1884 году был отправлен на поселение в Забайкальскую область.
Конечно, он и жена почувствовали себя счастливыми, так как отныне, после почти десятилетнего томительного ожидания, они получили, наконец, возможность жить вместе.
Пошли дети: наступила тяжелая борьба за существование. В заботах о прокормлении и воспитании семьи очень энергично участвовала слабенькая, тщедушная на вид, но очень деятельная и настойчивая жена Бибергаля: благодаря знанию иностранных языков и музыки, она не только обучала своих трех детей, но давала уроки и другим детям. В глухих захолустьях Восточной Сибири, куда судьба забрасывала их с мужем, на эти ее знания являлся иногда спрос у разных служащих и у местной аристократии,—священников, волостных властей, купцов.
Но Бибергаль и сам никогда не сидел сложа руки. Энергичный, способный ко всякому практическому занятию, он почти всегда находил себе заработок. Чем только не перебывал он за долгие годы своей жизни на поселении! Работал он на многочисленных в тех местах золотых приисках, бывал конторщиком, бухгалтером, учителем, корреспондентом и т. д.
Годы шли. Детей нужно было поместить в учебные заведения. После многих лет пребывания в мало населенных глухих углах и тайгах, Бибергаль с семьей получил, наконец, возможность поселиться в городе Благовещенске, Амурской области.
Когда зимой 1885 г. я прибыл на каторгу, то уже не застал там Бибергаля. Впервые я встретился с ним лишь почти пятнадцать лет спустя, когда, после разных перипетий, я тоже, в 1899 году, очутился в г. Благовещенске.
Бибергалю было тогда сорок пять лет. Но он выглядел вполне бодрым, крепким, энергичным человеком, закаленным в суровой житейской борьбе. Хотя тогда он провел уже без малого четверть века по тюрьмам и в суровой Сибири, вдали от происходившего в России революционного движения, тем не менее он вполне сохранил живейший к нему интерес и отзывчивость. Мимо него прошли многочисленные фазисы этого движения, о которых до него дошли одни только рассказы некоторых участников их, встретившихся с ним на каторге и поселении.
Таким образом, наилучший период как революционного движения, так и собственной жизни прошел для Бибергаля в тяжелых условиях и в суровой борьбе за прокормление и воспитание детей. Но, повторяю, на меня он произвел впечатление вполне сохранившегося, веселого, интересного собеседника, имевшего чем поделиться из своей многолетней жизни в Сибирской тайге.
Во время нашей совместной жизни в Благовещенске Бибергаль состоял агентом транспортной конторы «Надежда», что вместе с доходами жены за уроки давало им возможность жить без нужды и лишений.
Старшая дочь его Екатерина, по окончании местной гимназии, отправилась в Петербург на высшие курсы, а меньшая и сын были в последних классах гимназии.
Благодаря своей интеллигентности, а также радушию и гостеприимству, семейство Бибергаля привлекало к себе всех нас, невольных жителей Сибири. Мы охотно собирались у него, где вели бесконечные разговоры о прошлом, настоящем и будущем России и всех стран и народов; не то слушали недурную игру на пианино жены его или сына; некоторые в то же время играли в шахматы. Не довольствуясь этими развлечениями, мы, политические ссыльные, стали издавать разрешенную властями подцензурную прогрессивную газету «Амурский Край», в чем Бибергаль тоже принял участие. Его статьи о жизни на золотых приисках представляли интерес и не лишены были художественности.
Вообще, Бибергаль является довольно разносторонним человеком. Несомненно, жестокие русские политические условия погубили заложенные в нем дарования.
Одно ужасно тяжелое происшествие дало мне возможность несколько ближе узнать симпатичный характер Бибергаля. Говорят, люди лучше всего узнаются в несчастии. На Бибергале это вполне подтвердилось.
Летом 1900 г. жившие против Благовещенска на китайском берегу р. Амура сыны Небесной Империи вдруг проявили крайне враждебные чувства к русским: то было во время известного боксерского восстания против европейцев. На нас, мирных жителей Благовещенска, с китайского берега посыпались бомбы и гранаты, разрывавшиеся на улицах, а также попадавшие в дома, принося смерть и производя пожары...
Нетрудно представить себе, какую неимоверную панику должна была вызвать в Благовещенске эта бомбардировка. Многие из живших даже в отдаленных кварталах, куда редко попадали снаряды, от страха прятались в погребах или, наскоро собрав наиболее ценные вещи, покидали город.
Квартира Бибергаля находилась на набережной, как раз против расположившихся на другом берегу Амура восставших боксеров. Его жизнь подвергалась сильной опасности, но он ни на минуту не потерял самообладания. Выпроводив жену с детьми в окрестности, Бибергаль остался в квартире и, несмотря на наши, товарищей его, просьбы оставить ее, ни за что не соглашался сделать это, так как, мол, в ней находилось кое-что из имущества общества «Надежда», которое он, с опасностью для жизни, считал себя обязанным оберегать.
В те знаменательные для Благовещенска три недели я часто видался с ним: он шутил, острил по поводу разрывавшихся вокруг нас снарядов и нисколько не остерегался этого. Такое самообладание и беззаботность о себе не могли не внушить к нему расположения.
По счастью, ни он сам, ни квартира его не сделались жертвами непрерывной бомбардировки города, что дало ему возможность торжествовать: «Видите,—говорил он,—не было никакой опасности, а покинь я квартиру, все было бы разграблено».
В конце 90-х годов, после господствовавшей в России в течение многих лет реакции, вновь, как известно, началось значительное оживление. Как всегда и везде это происходит, первыми жертвами нового подъема явились учащаяся молодежь и рабочие.
Подобно тому как это случилось 6 декабря 1876 года, так же и в марте 1901 года передовой слой петербургского общества собрался на ставшей уже исторической Казанской площади, чтобы выразить свой протест против господствовавших в стране возмутительных порядков. Но за протекшие со времени первой демонстрации 25 лет произошел значительный прогресс: тогда число собравшихся было настолько невелико, что достаточно было небольшого количества полицейских и добровольцев для прекращения демонстрации и ареста ее участников; четверть века спустя, для этого потребовались целые взводы казаков, применявших наиболее решительные меры: вместо избиения кулаками, они топтали демонстрантов лошадьми и хлестали нагайками. А в заключение было арестовано не несколько человек, а тысячи.
По оригинальной прихоти судьбы, во второй демонстрации на Казанской площади участвовала старшая дочь Бибергаля Екатерина, о которой я выше упомянул, что она уехала в Петербург на курсы. За это она поплатилась значительно легче, чем отец: ее уволили из высшего учебного заведения и отправили к родителям, в Благовещенск. В этом, следовательно, также проявился «прогресс». Но этим не закончилась политическая деятельность молодой дочери Бибергаля: если не ошибаюсь, в 1908 г. Екатерина Александровна была, вместе с другими эсерами, арестована по делу о покушении на великого князя Владимира и приговорена к многолетней каторге. Единственный сын Бибергаля, студент Виктор также привлекался неоднократно, но, кажется, поплатился только административными высылками. Таким образом, два поколения Бибергалей участвовали в революционном движении.
121
Когда весной 1901 г. я решил бежать из Благовещенска, то об этом предварительно сообщил Бибергалю. Прощаясь со мною, он, помню, выразил опасение, что ему придется сложить свои кости в Сибири. Но этот пессимистический взгляд его не оправдался: четыре с половиной года спустя, последовавшая после революции 1905 г. всеобщая амнистия дала возможность Бибергалю, проведшему без малого тридцать лет в тюрьмах и Сибири, вернуться на родину. Так дорого поплатился этот честный и искренний человек за присутствие на первой политической демонстрации. Напомню, что Бибергаль был первым из еврейской молодежи, угодившим на каторгу, к тому же, как мы видим,—без всяких оснований. Вместе с тем он является единственным из всех нас, его соплеменников, столь много лет проведшим в Сибири.
В настоящее время Ал. Ник. Бибергаль, разбитый параличем, помещается в Доме ветеранов революции имени «Ильича» в Москве. Таковы последствия его страшного деяния—присутствия 50 лет тому назад на Казанской площади.
ГЛАВА VI.
ПАВЕЛ АКСЕЛЬРОД.
До сих пор я сообщил о евреях или игравших второстепенные роли, или случайно, по злой воле судьбы попавших в число «опасных, тяжких преступников», не будучи ими вовсе в действительности. Перейду теперь к тем немногим, о которых я упомянул выше, как о наиболее выдающихся среди евреев-участников русского революционного движения.
Одно из первых мест между ними, бесспорно, занимает Павел Борисович Аксельрод. Он принадлежит к старейшим социалистам не только в России, но и среди единомышленников наших во всех других цивилизованных странах. Имя его, поэтому, давно известно каждому, интересующемуся социализмом. К тому же, несмотря на очень преклонный возраст, — ему 75 лет, — Аксельрод и до сих пор не перестает интересоваться всем происходящим в современных сложных условиях и время от времени продолжает откликаться на животрепещущие вопросы. Он пользуется значительным и вполне заслуженным им уважением, как неизменный борец, в течение более полустолетия твердо стоящий на своем посту. Для некоторых, преимущественно для меньшевиков,—несмотря на крайне ошибочную, как ниже увидим, позицию, занятую им во время войны и февральской революции,—Аксельрод продолжает оставаться выдающимся тактиком, опытным и сведущим лидером. Уделим же ему особенное внимание.
Для этого очерка я пользуюсь собственоручно написанными П.Б. записками, присланными им мне 13 лет тому назад в Нью-Йорк для моей статьи о нем в журнале “Zukunft”.
123
Родился Аксельрод в 1850 году,—в точности месяца и числа он сам не знает,—в какой-то деревушке Мглинского уезда, Черниговской губ., где отец его был арендатором маленькой, жалкой корчмы.
«Помню,—сообщает он,—что мы жили в хатке, состоявшей из одной комнаты, в которой помещалась вся семья, и в нее же заходили мужики выпить чарку горилки».
Нетрудно, поэтому, представить себе обстановку, в которой протекали первые годы жизни этого выдающегося человека.
«Бедность у нас была отчаянная»,—пишет он далее. Затем он продолжает: «в буквальном смысле слова ужас охватывал моих родителей, когда они видели, что помещик (мелкий, очевидно) идет к нам, чтобы требовать арендную плату».
Вспоминает Аксельрод также, что, кроме этого помещика, еще становой внушал его родителям трепет, который, конечно, передавался и детям. Так, он упоминает о таком случае: «однажды, при известии о прибытии в деревню станового, отец куда-то спрятался, а мать и мы, ребятишки, понятно, сидели, затаив дыхание, опасаясь появления грозного и всемогущего начальника».
«Представление о «всемогуществе» всякого «пана», т.-е. человека привилегированного, да еще с кокардой, так крепко сидело во мне, и вера в обязательность для еврея, как и для мужика, снимать перед ним шапку, так вкоренена была во мне, что, прибыв в Могилев, чтобы поступить там в гимназию, я снимал на улице шапку не только перед всеми военными и чиновниками, но даже перед будущими моими товарищами-гимназистами».
В этой ужасной обстановке деревенской корчмы Аксельрод пробыл до 8—9-летнего возраста. После этого родители его перекочевали в местечко Шклов, откуда отец его был родом, и где он являлся совладельцем полученной им в наследство жалкой, полуразрушенной избушки. Но не долго пользовалась семья даже этим мизерным счастьем: вскоре после состоявшегося с неимоверными мучениями переселения на родину, избушка Аксельродов, вместе со всем местечком, сгорела.
«Мы очутились положительно в нищенском положении— рассказывает Аксельрод.—Не помню точно,—кажется, года два или три, если не больше, мы жили в богадельне, сначала ночуя в общей хате на палатях, а под конец, когда отец возведен был в звание надзирателя или заведующего этим приютом, нам отведена была там же особая комната».
И вот, очутившись в такой убогой среде, Аксельрод с самого юного возраста начал самостоятельно «зарабатывать» на хлеб, но, как он сообщает в своих записках, «ужасным промыслом».
«Нищие, проживавшие в этой богадельне, брали меня с собой по пятницам побираться по домам, и я кое-что приносил родителям, большею частью еду, иногда же и одежду».
Впоследствии отец его нашел поденную работу: он разгружал и нагружал хлеб на берегу Днепра, и об этом периоде П. Аксельрод вспоминает, как о счастливой полосе в жизни семьи: «семья наша тогда почти ежедневно обедала и вообще, насколько помню, не испытывала такой поистине страшной нужды, как в течение нескольких лет, предшествовавших нашему переселению в Шклов».
Там же одиннадцатилетнего Аксельрода поместили в казенную школу, в которой еврейских мальчиков обучали русской грамоте и арифметике.
(С 1804 года по указу императора Александра I еврейские дети черты оседлости бесплатно обучались в специально созданных для них государственных школах, в то время как русских детей российское государство обучать грамоте ещё и не думало. Прим. Проф. Столешникова).
Как мы уже знаем, евреи считали грехом отдавать своих детей в такие школы. Но так как смотритель ее—христианин—обходил хедеры и требовал, чтобы меламеды посылали к нему минимальное количество из полагавшегося числа учеников, то более состоятельные евреи отделывались от этой «повинности» путем подкупа или найма: отыскивались бедняки, которые за ту или иную плату соглашались посылать своих детей в «гойскую» школу, что, понятно, не обходилось без слез и рыданий.
Выше я уже сообщил, как, благодаря этому обстоятельству, Аксельрод попал в «казенное училище» и что за это он получал платье, обувь и два раза в неделю пищу. Мало того: едва научившись читать по складам, он сделался учителем русской грамоты одного мальчика за целых восемь копеек в месяц и за пищу еще в течение одного дня в неделю.
125
«А впоследствии,—сообщает Аксельрод,—я зарабатывал еще и чисткой сапог по пятницам. Я служил также вроде «камердинера» у одного из учителей своей же школы и за это получал у него стол еще в течение двух раз в неделю и сверх того имел у него «квартиру», т.-е. пользовался правом сидеть у него в передней и спать там же на полу, конечно, без всяких постельных принадлежностей, что, однако, не мешало мне очень крепко и вкусно спать».
Окончив с наградой двухклассное училище в Шклове, Аксельрод узнал о существовании еще более важных учебных заведений,—гимназий, раввинских училищ, университетов. И вот, он еще с одним товарищем, который был много его старше, решил пешком отправиться в г. Могилев, чтобы поступить там в гимназию, имея в кармане целый «капитал»—в 35 копеек.
«Замечу мимоходом, —пишет Аксельрод,—что поступил я в еврейское училище в такое время, когда отца не было в Шклове, и отправился в Могилев также в его отсутствии: отец едва ли согласился бы взять на свою душу тяжелый грех обучения меня гойской грамоте, а мать проявляла больше склонности к либерализму».
Далее Аксельрод сообщает, каким испытаниям он подвергся, когда шествовал в Могилев: лил проливной дождь, да к тому же он и волков побаивался, так как пришлось итти лесом.
Товарищ его не был принят, а он выдержал экзамен в первый класс. Но каковы были его материальные условия, видно из следующего.
«Первое время, не помню, сколько именно, — пишет Аксельрод,—я ночевал на дворе трактира, в котором останавливались еврейские богачи, в их фургонах. -Потом меня приютил у себя дядя, сам с огромной семьей помещавшийся в одной комнате, расположенной в подвале, куда надо было, с опасностью для жизни, спускаться по очень крутой и сломанной лестнице».
Не буду приводить, за ограниченностью места, сообщений Аксельрода, каким образом он обзавелся требовавшимся в гимназии мундиром, а также, как он устроился по части пищи и пр. Из вышеизложенного читатель, полагаю, представит себе, какими неимоверными лишениями сопровождалось ученье Аксельрода в гимназии.
Умственному развитию пытливого гимназиста содействовали, главным образом, русская литература и такие выдающиеся писатели, как Тургенев и Белинский, произведения которых случайно попадали ему в руки. Благотворно подействовало на него также знакомство с учителем истории, впоследствии довольно известным в России профессором Хлебниковым, который был хорошего мнения об Аксельроде. Особенно интересно следующее его сообщение: «в 4-м классе уже я начал сознательно стремиться к «просвещению» еврейской молодежи, к освобождению ее от религиозных и национальных предрассудков путем распространения в ее среде тех идей, понятий и стремлений, которые развивались в моей голове под влиянием названных выше русских писателей, а также Берне, Добролюбова, но не Чернышевского, с сочинениями которого я познакомился уже в качестве революционера, а также не Писарева».
Наибольшее влияние на Аксельрода оказали тоже случайно попавшие ему в руки книги: Лассаля—«Программа работников» и роман Гуцкова—«Рыцари духа». Эти два сочинения побудили Аксельрода перейти с культурного пути на революционный. «До прочтения этих книг,—сообщает он,— я занят был мыслью о том, чтобы всецело отдаться делу приобщения евреев к общечеловеческой и русской культуре». Для этого Аксельрод собирался изучить древне-еврейский язык, которого он не знал, а также историю евреев.
Далее он сообщает, что до того времени он вращался исключительно в среде своих единоверцев и не имел никакого представления о том, что делалось в прогрессивной части русского общества. Ему, например, решительно ничего не было известно ни об освобождении царем крестьян, ни о других реформах Александра П. Случайно только вспоминаются ему тихие беседы евреев об ожидавшихся ими каких-то облегчениях их участи. Об участниках польского восстания 1863 года у Аксельрода было представление, как о каких-то «мятежниках», «дурных людях».
«По случаю покушения Каракозова на царя (4 апреля 1866 г.) я отправился в синагогу, чтобы участвовать в благодарственных молитвах евреев за спасение царя, хотя в то время я уже не был набожен».
127
Затем, будучи уже в 5-м или 6-м классе гимназии, Аксельрод искренно верил, что царь стоит за народ, но что его обманывает окружающая его свита.
И вот, уже будучи студентом Нежинского лицея, куда сперва Аксельрод поступил, он все еще не имел никакого ясного представления, как посвятит он себя служению народу. Путь этот ему указали названные выше два сочинения—Лассаля и Гуцкова.
«Роман «Рыцари Духа», описывающий события и героев революции 48-го г. в Германии, сразу перенес меня в сферу общественных явлений, о которых я имел лишь смутное представление из школьных учебников. А агитационные речи Лассаля поразили мой ум и воображение грандиозностью перспективы освобождения всего человечества от бедности, рабства и невежества великим освободительным движением рабочего класса. Эта совершенно новая для меня идея сразу устранила все мои колебания относительно выбора сферы деятельности. «Еврейский вопрос» представился мне совсем крохотным по сравнению с «идеей четвертого сословия», обнимающей радикальное решение всех частных вопросов, от которых проистекают различные несправедливости и несчастия масс».
Уже к началу 1872 г. Аксельрод, совершенно независимо от подобного же процесса, происходившего в то же самое время в головах многих представителей русской передовой молодежи, пришел к выводу о необходимости действовать путем тайных революционных организаций.
«В феврале или в марте 1872 года, —сообщает он,—я выработал план действий для всероссийской организации с тайным революционным центром в университетских городах и с общим центром—во главе».
С этой целью, отказавшись от представлявшегося ему выгодного места в качестве репетитора, он отправился в г. Нежин, чтобы «вербовать своих первых адептов». Но в течение нескольких месяцев ему удалось привлечь одного только Григория Гуревича, о котором я сообщу ниже. Затем, летом того же года Аксельрод с тою же целью приехал в Киев, где мы с ним и познакомились, следовательно, более 50 лет назад.
Хорошо помню то приятное впечатление, которое на меня и моих товарищей—еврейских гимназистов и студентов— произвел вновь приехавший небольшого роста, с черной бородкой и живыми, умными глазами юноша 21—22 лет. Аксельрод говорил быстро, сильно жестикулируя руками, с жаром и глубокой верой в правоту пропагандируемых им идей. Он был неутомим, проповедуя с утра до позднего ночного часа; всюду—в квартирах, на улицах или в университете—он все говорил, доказывал со страстью фанатика, почему и увлекал за собой многих. Ни до того, ни после среди еврейской молодежи, в Киеве не было другого, который пользовался бы таким же влиянием, такою любовью и уважением, как Павел Аксельрод. Спустя несколько месяцев, а, может быть, и недель, по приезде в наш город, он уже был самым популярным среди нас человеком, и, хотя он был старше нас, остальных, всего на несколько лет, все мы относились к нему, как к уже многоопытному, испытанному, а главное, прекрасно знающему, что именно надо делать, товарищу. Но возвратимся к изложению прошлого, сделанному самим Аксельродом.
«В Киеве,—рассказывает он дальше,—для меня вскоре выяснилось, что передовое студенчество еще не пришло в себя от нечаевского буфа, завершившегося убийством ни в чем неповинного студента. Иванова и разгромом революционных ячеек».
Летом или осенью того же года с тою же целью Аксельрод съездил в Одессу, где, между прочим, старался завербовать в свою веру студента Андрея Желябова, который был тогда «чистым культуртрегером», а, следовательно, противником заговорщической деятельности.
Вскоре затем Аксельрод убедился в том, что его надежды создать всероссийскую тайную организацию при помощи интеллигенции—напрасны, и он перенес свое внимание на революционную деятельность среди самого народа.
В это же самое время,—в начале 70-х годов, как я уже выше сообщил,—во всей России передовая молодежь решила посвятить себя этой именно деятельности. Аксельрод, таким образом, явился одним из первых не только среди еврейских,
но и среди русских революционеров, посвятивших себя служению, трудящимся массам. Вместе с Григорием Гуревичем, а также студентом Семеном Лурье, о котором я тоже сообщу ниже, Аксельрод завел сношения с несколькими рабочими артелями плотников, столяров и стекольщиков. Они занимались обучением этих рабочих грамоте, чтением разных популярных книжек, затем и революционной пропагандой среди них.
129
Кроме того, Аксельрод старался навербовать среди студентов сторонников своих идей, и вскоре ему удалось создать небольшой кружок, который вступил в непосредственные сношения с такими же кружками, бывшими" в то время в Петербурге и Одессе. Известно, что кружки эти были объединены существовавшей в Петербурге организацией «Чайковцев». Созданный Аксельродом в Киеве кружок, как и тот в Одессе, в котором, как я уже сообщал, действовал Чудновский, являлся местным отделением «Чайковцев». Кроме самого Аксельрода, Григория Гуревича и Семена Лурье, из евреев в него затем вступили два брата Левенталь и две сестры Каминер, дочери известного еврейского поэта д-ра Исаака Каминера, о которых мне также придется еще рассказать.
Аксельрод принадлежал к бакунистам или анархистам, т.-е. он придавал большое значение агитации на почве народных стремлений. Вот что он сам говорит о тогдашнем своем настроении: «Оно характеризуется тем, что я быстро, без всяких колебаний, решился отправиться на поиски одного разбойника, о котором в газетах сообщалось, что он раздает награбленное им крестьянам и что он вообще является мстителем за народ, «инстинктивным революционером». Правда, я очень хорошо понимал, что я—«еврейчик, жидок», далеко неподходящий посредник между революционерами и хохлом-разбойником. Но другие «бунтари» не собирались взяться за эти розыски, а потому я на это решился».
И вот, летом 1874 г. Аксельрод отправился по деревням и местечкам Подольской губернии разыскивать этого добродетельного разбойника, рисовавшегося его воображению вроде народного мстителя-революционера. В конце концов он пришел к заключению, что в действительности такого разбойника не было.
Как и всем тогдашним революционерам, Аксельроду, не долго пришлось действовать: в конце лета 1874 начались, о чем я уже сообщил, в разных концах России массовые обыски, аресты, что, в связи с пропагандой в 36 губерниях, как читатель уже знает, привело к процессу 193-х.
Аксельрода случайно не было дома, когда жандармы пришли, чтобы арестовать его. То же случилось и с двумя его товарищами, братьями Левенталь. Все трое, узнав о посещении их квартир царскими слугами, решили скрыться. Но до чего в то время это было трудной задачей, покажет рассказ самого Аксельрода.
«В виду повального разгрома в Киеве, Москве, Одессе, Питере и в других городах, нам пришлось странствовать по провинции, не находя нигде ни пристанища, ни возможности достать какую-нибудь бумажку, которую можно было бы представить в полицию. В одном местечке (Климовичах) Могилевской губ. нас задержали, но нам удалось убежать; в другой деревне, лишь только мы ушли из семьи одного моего товарища, как следом за нами явилась полиция; наконец, в третьей деревне меня с Лейзером Левенталем, арестовав, отправили с мужиком к становому, но мы от него удрали в лес, откуда, после нескольких часов блужданий, нам удалось выбраться на дорогу, и, не помню каким образом, добрались мы до Могилева. Там наши поиски документов тоже оказались тщетными. После этого нам ничего другого не оставалось, как перебраться через границу, где мы рассчитывали пробыть только несколько месяцев, пока удастся найти какие-нибудь связи в России и обзавестись паспортами».
Таким-то образом, осенью 1874 года, Аксельрод и братья Левенталь (стали; эмигрантами. Прежде всего они остановились в Берлине, где Аксельрод душой и телом отдался ознакомлению с германским социалистическим движением.
«Возможность непосредственно познакомиться с движением «четвертого сословия» являлась для меня мотивом, облегчавшим мне решение хотя бы на время уехать заграницу»,—пишет он в своих записках.
131
Чтобы читатель вполне понял смысл этих слов Аксельрода, я должен напомнить, что в те отдаленные времена русские революционеры считали крайне предосудительным эмигрировать: это считалось ими «бегством с поля сражения», чуть ли не изменой из трусости. Настоящий революционер признавал необходимым, будучи даже сильно разыскиваем полицией, оставаться в России на «нелегальном положении», т.-е. проживать под чужим или фальшивым документом. Но мы видели, что Аксельроду и его друзьям не удалось получить паспорта,—им поэтому поневоле пришлось, хотя бы на время, перебраться за границу.
«И вот,—продолжает свой рассказ Аксельрод,—еще и теперь, сорок лет спустя, после осуществления этого решения, я не жалею о своем отъезде за границу, даже наоборот. Очень плохо я понимал сначала, что говорилось в рабочих собраниях. Все же они производили на меня огромное впечатление».
Знакомство с германским социалистическим движением очень многое дало Аксельроду в теоретическом, а отчасти и в практическом отношении, что в сильной степени помогло ему впоследствии в понимании социал-демократических взглядов, одним из первых провозвестников которых он, наряду с Плехановым, и явился в России. Но об этом ниже.
Зимою 1874—1875 годов Аксельрод по разным причинам должен был из Берлина перебраться в Женеву, куда вскоре приехала и его невеста,—старшая дочь д-ра И. Каминера, Надежда Исааковна, Там он сошелся с группой старых эмигрантов, последователей Бакунина, издававших анархические произведения, а также (в 1876 г.) журнал «Работник» для которого Аксельрод написал несколько статей. Но еще летом 1875 г. он на время отправился «нелегально» в Россию с напечатанными в Женеве «тайными революционными манифестами», чтобы, путем их распространения в народе, вызвать восстание среди крестьян. Но, конечно, не успев произвести этого, он, спустя несколько месяцев, вернулся обратно в Женеву, будучи вновь вызван туда семейными обстоятельствами. В конце же 1877 г. вместе с вышеупомянутой группой бакунистов Аксельрод предпринял издание журнала «Община», в котором помещены его интересные статьи о немецком социалистическом движении с анархической точки зрения.
Каковы были в описываемые годы материальные условия Аксельрода и его семьи, увеличившейся рождением дочери, могут показать следующие его строки.
«Месяца четыре,—рассказывает он,—я обучался столярному ремеслу и дошел до того, что зарабатывал по 16 франков в месяц за 11-часовой рабочий день. Я очень туго и медленно подвигался вперед, если вообще подвигался. А, главное, от чрезмерного утомления совсем лишился аппетита и до того ослабел, что принужден был оставить это занятие».
Потом Аксельрод принялся за изучение ремесла наборщика: «я достиг того, что зарабатывал от 2 до 3 франков в день». При таких заработках ему с семьей приходилось испытывать сильную нужду. Когда осенью 1878 г. я впервые приехал в Женеву, то нашел там его с семьей в крайне тяжелых материальных условиях. Но, слушая пламенную проповедь неизменно веровавшего в успех социализма Аксельрода, никто из посторонних не поверил бы, «то утром того же дня он, быть может, ломал голову над вопросом, где раздобыть 20 сантимов на бутылку молока для ребенка, а в полдень вновь задумывался над тем, у кого «призанять», чтобы купить что-нибудь на обед.
Кроме сотрудничества в нелегальных изданиях, доставлявшихся в Россию (конечно, контрабандным способом),— Аксельроду иногда удавалось также помещать статьи в издававшихся в Петербурге больших русских журналах. Но это случалось крайне редко. Когда же это удавалось, то нередко, по тем или иным причинам, гонорар не доходил до него.
Хотя, как мы выше видели, Аксельрод впоследствии не жалел, что уехал заграницу, но вынужденное пребывание там в течение нескольких лег неимоверно его тяготило, и он всеми силами рвался обратно на постоянную работу на родине. В таком именно напряженно-выжидательном состоянии я застал его в Женеве: он только и думал о том, как бы достать денег, чтобы расплатиться с долгами и, вместе с семьей, вернуться в Россию.
Весной 1879 г. это страстное его желание осуществилось. В Петербурге возник приобревший тогда большую популярность «Северно-Русский Рабочий Союз», состоявший, как известно, из интеллигентных, развитых рабочих, задавшихся целью, путем устной и печатной пропаганды, развивать классовое сознание рабочих. С этой целью они основали в России тайную типографию, в которой собирались издавать свой собственный орган. Эта пролетарская организация еще осенью 1878 г., через своего делегата, рабочего Обнорского, вступила в переговоры с Аксельродом, приглашая его вернуться в Россию, чтобы взять на себя руководство их органом.
Нетрудно себе представить радость Аксельрода, когда осуществилась его заветная мечта. Тотчас по получении денег от этого союза, он быстро собрался в дорогу, надеясь многое сделать, в качестве руководителя первого тогда в России специально рабочего органа. Лучшей сферы деятельности для него, давно рвавшегося именно в рабочую среду, невозможно было и придумать. Но судьба обманула его ожидания: не успел он еще прибыть в Петербург, как втесавшийся в «Северно-Русский Рабочий Союз» предатель Рейнштейн выдал всех и все полиции, за что вскоре и был убит революционерами.
Но Аксельрод нашел себе немало другой плодотворной работы в России. То был один из самых интересных моментов в истории русского революционного движения: в этом году началась систематическая борьба террористов уже не со слугами царя, а с ним самим: в апреле Соловьев возле Зимнего дворца сделал несколько выстрелов в Александра II, в ноябре месяце народовольцы под Москвой путем подкопа, проведенного ими из одного домика, взорвали поезд, в котором, как они предполагали, помещался царь, но он сидел в другом, а потому остался невредимым.
Террористическая борьба, как известно, еще раньше привела к расколу среди членов «Земли и Воли»: часть их решительно выступила против этого способа, так как эта борьба грозила поглотить все революционные силы и средства; эти лица считали более целесообразным попрежнему заниматься агитацией среди крестьян и рабочих. В их числе был также и П. Б. Аксельрод.
Поскольку это возможно было для «нелегального», он вел энергичную пропаганду среди рабочих и имел там успех. Когда же общество «Земля и Воля» поделилось на «Народную Волю» и «Черный Передел», Аксельрод, вместе со мною, Плехановым, Верой Засулич, Стефановичем и некоторыми другими, вошел в последнюю организацию, оставшуюся верной народническим задачам и стремлениям.
Наша черно-передельчеекая организация решила издавать в Петербурге подпольный орган; редактором его, кроме Плеханова, был выбран также П. Б. Аксельрод. Но в виду сложившихся обстоятельств ему не удалось написать для «Черного Передела» ни одной статьи, хотя всего вышло пять номеров.
Он пробыл целый год в России при чрезвычайно тяжелых условиях: почти вся наша организация, вследствие выдачи ее наборщиком нашей подпольной типографии, была разгромлена: только Аксельрод и еще несколько членов, живших в провинции, спаслись от ареста. Вообще Аксельроду везло в этом отношении: он ни разу не был арестован в России, как «политический», т.-е. жандармами, хотя, как мы видели, он дважды возвращался из-за границы в качестве «нелегального».
Уезжая летом 1880 г. вновь за границу, Аксельрод предполагал только переждать где-нибудь вблизи России, пока не улягутся начавшиеся со стороны властей чрезвычайно энергичные преследования. Он выбрал для этого соседнюю Румынию, куда выписал свою жену с двумя малолетними детьми, которых давно не видал. Но оказалось, что румынское правительство, желая угодить русскому царю, арестовало Аксельрода, Л. Гольденберга и еще нескольких проживавших там подданных Александра II, с тем, чтобы выдать их ему. К счастью, по дороге в Константинополь им как-то удалось бежать с парохода, после чего Аксельрод направился вновь в Швейцарию, где ради воспитания детей поселился в Цюрихе, находившемся несколько в стороне от главного тогда эмигрантского центра—Женевы.
135
После этого потянулись долгие и крайне тяжелые годы для Аксельрода и его семьи, увеличившейся еще одним ребенком. Определенных средств к существованию, по-прежнему, не было у него, заработки продолжали быть, лишь случайными. Временами нужда была неимоверная. Но тяжелые условия жизни все же не отрывали Аксельрода от поставленной им себе еще в ранней юности задачи — освобождения рабочего класса.
Осенью 1883 г., т.-е. более сорока лет тому назад, Аксельрод вместе со мною, Верой Засулич, В. Игнатовым и Плехановым участвовал в основании группы «Освобождение Труда», явившейся, как известно, первой ячейкой Р. С.-Д. Р. П.
Поставив своей задачей—ознакомление русской передовой молодежи и рабочих с учением Маркса и Энгельса, группа наша решила с этой целью издавать брошюры, книги, сборники и журналы под общей фирмой «Библиотеки научного социализма»; редакторами этих изданий, как и в организации «Черный Передел», мы выбрали вновь Аксельрода вместе с Плехановым.
В течение последовавших затем почти целых 35 лет, большею частью при крайне тяжелых материальных условиях, а, также некоторых физических недугах, Аксельрод по мере сил вел устную и печатную пропаганду среди многочисленных русских, приезжавших в те годы за границу. За этот длинный период лет им было написано несколько довольно хороших произведений, читавшихся в свое время с интересом: они дельны, содержательны, умны; автор обнаружил в них способность предвидеть дальнейший ход развития нашего рабочего движения и русской революционной интеллигенции. Вследствие неблагоприятно сложившихся, как мы видим, с самого рождения Аксельрода, условий его жизни, из него: не вышел ни выдающийся писатель, ни оратор: писал он всегда неясным, тяжеловатым слогом, почему произведения его нелегко было читать. По указанным же причинам Аксельроду, к сожалению, не удалось также приобрести соответствующую его положению эрудицию, в чем он сам признавался в своей переписке с друзьями.
Много времени и внимания поглощало у него кефирное заведение, которое он с женой и компаньоном-товарищем вынужден был завести в средине 80-х годов для прокормления семьи. Тяжелый и продолжительный ежедневный труд в этом предприятии, крайне далеком от его умственных запросов, часто отравлял ему жизнь и доводил чуть не до отчаяния.
Между тем, предпринятая, главным образом, Плехановым в начале 80-х годов проповедь марксистских воззрений только к средине 90-х годов начала давать в России явные, осязаемые результаты: одни за другими стали возникать, сперва в Петербурге, затем в другим крупных промышленных центрах, интеллигентские, а потом и рабочие организации, проникнутые идеями научного социализма. Рядом с этим за границей и в России начали печататься нелегально, конечно, кроме брошюр и листков, также и непериодически выходившие органы. А в 1900 году возникли за границей одновременно знаменитые «Искра» и «Заря». Аксельрод, как член группы «Освобождение Труда», вместе с В. И. Засулич и Плехановым, также вошел в число членов редакционной коллегии. Правда, и в этих двух органах он, по указанным мною выше причинам, тоже очень мало поместил статей, зато в обсуждениях принципиальных позиций нашего направления, программы и т. п. Аксельрод всегда принимал деятельное участие, что большинством редакционной коллегии, а также и многими членами партии, признавалось ценным.
Во время знаменитой всеобщей октябрьской стачки 1905 года, повлекшей за собой, как известно, «новую эру»,— «политические свободы», бедного Павла Борисовича постигло огромное несчастье: неизменная спутница продолжительной и тяжелой революционной его жизни, глубоко любимая им супруга, добрая, искренняя Надежда Исааковна, с которой он душа в душу прожил целых тридцать лет, лежала при смерти.
Я знал ее, как и нескольких сестер ее, отчасти тоже примыкавших к революционному движению, с самых юных моих лет: Надежда Каминер, по преданности интересам трудящихся масс, по готовности пожертвовать для этого всем самым дорогим для человека, принадлежала к разряду лучших русских женщин.
(Русских или же всё же таки еврейских женщин? В этом и проблема для русских гоев – евреи просто подменили гойские интересы своими, назвавшись «русскими». Этот финт они проделали в каждой стране мира. Прим. Проф. Столешникова).
Ее смерть явилась, поэтому, большой потерей не только для Павла Борисовича, но и для всех близко знавших ее товарищей. Похоронив безгранично- любимую жену, Аксельрод весной1906 года вновь, после 26 лет пребывания в эмиграции,
направился в Россию.
137
Здесь, по обыкновению, он повел усиленную агитацию с целью подъема классового сознания рабочих. Для этого как известно, наилучшим средством он признавал пропаганду идей «Рабочего съезда», приобревшего в свое время большую популярность среди расположенных к меньшевикам рабочих и интеллигенции. Замечу к слову, что я не принадлежал к числу сторонников этого плана, но подробнее об этом в другой раз.
Летом 1907 г. Аксельрод, вместе с тремястами пятьюдесятью делегатами, приехал на состоявшийся в Лондоне съезд нашей партии.
(Потрясающий факт – это какими же средствами надо обладать, чтобы в Лондоне собирать, со всей России и заграницы лиц еврейской национальности без определённого места занятий и жительства; и опять же Лондон - Лондон, который теперь всех осуждает, дескать, за терроризм, финансировал эти подрывные антироссийские сборища диверсантов и террористов. Прим. Проф. Столешникова).
Когда же вскоре затем в России произошел арест всей социал-демократической фракции Государственной Думы, а потом последовал и разгон последней, Аксельрод, как и все мы, не счел целесообразным, при установившемся в России столыпинском строе, вернуться туда.
И вновь потянулась для него длинная полоса эмигрантской жизни. Вновь пошли бесконечные совещания между своими, конференции с большевиками и с другими с.-д. фракциями, продолжительные толки о примирениях, расхождениях, соглашениях, несогласиях и т. д.
Затем разразилась, возмутительнейшая всемирная война и началось еще невиданное в истории человечества по своим размерам и приемам массовое истребление людей. Большинство лишилось здравого смысла, потеряла способность отличить черное от белого, зло от добра.
Я жил тогда в Нью-Йорке. Мне поэтому неизвестно; в точности, что переживал в это ужасное время Аксельрод,— он почему-то перестал отвечать на мои письма. Но из писем друзей—Г. В. Плеханова, его жены, а также покойной Иды Аксельрод,—я узнал, что П. Б. Аксельрод сперва вполне (одобрил занятую Георгием Валентиновичем в этой войне: позицию, затем, не объяснив ни ему, ни мне письменно своих мотивов, круто повернул в сторону «противников войны», или так называемых тогда «циммервальдистов» (Циммервальдская конференция). Чем дальше, том все страннее и непонятнее становилось для всех нас, старых его друзей и единомышленников, его поведение: после торжества февральской революции, он вместе со многими другими циммервальдистами проехал через Германию, затем, очутившись в Стокгольме, вместе с Мартовым весной 1917 г., опубликовал протест по поводу торжественной встречи, устроенной петербургским пролетариатом основателю соц.- дем. партии его другу, Г. В. Плеханову; далее, на одном собрании меньшевиков, в Петрограде он предложил объявить «вне демократии» того же старого своего друга и соратника, которому, по собственному его признанию в письмах, он был очень многим обязан.
Этими и аналогичными поступками Аксельрод сам порвал все связи со старыми своими друзьями и единомышленниками, с которыми рука-об-руку шел в течение 35 лет. Со времени этого разрыва прошла более десяти лет, но я все же не могу объяснить себе происшедшего в нем умственного и психического процесса, приведшего его к занятой им во время войны и революции позиции: он не сделал никаких попыток объяснить это нам, бывшим старым друзьям его.
Но я слишком забежал вперед, в современность. Возвратимся к давно прошедшему времени, к семидесятым годам и к действовавшим тогда евреям.
Среди наиболее близких П. Аксельроду лиц, кроме упомянутых выше братьев Левенталь, самым крупным был Семен Лурье. С него я и начну свое сообщение о первом в моем городе кружке, состоявшем исключительно из евреев.
139
ГЛАВА VII.
СЕМЕН ЛУРЬЕ.
Подобно тому как Соломон Чудновский был первым революционером, арестованным в Одессе, так Семен Лурье явился в этом же отношении первым в Киеве по тому же «делу о пропаганде в 36 губерниях». Более того: из всех участников движения той замечательной эпохи он был также первым революционером, который совершил удачный побег из-под ареста. Как и Аксельрод, Лурье был одним из наиболее ранних моих товарищей. В виду всего этого я охотно поделюсь всеми имеющимися у меня о нем сведениями.
Единственный сын у Герца Лурье—Семен родился в 1853 г. Родители его считались среди евреев не только зажиточными людьми, но и «аристократами», так как Герц Лурье приходился родным племянником известному ученому рабби Давиду Быховеру. Поэтому маленького Шимана тоже предназначали в раввины, так как он рано, стал проявлять большие способности.
Но, как я уже сообщал, получив некоторые права, евреи постепенно переставали враждебно относиться к христианскому образованию. Под влиянием возникшего среди них просветительного движения отец Семена в значительной степени сам «полевел». Поэтому он решил определить единственного своего сына в гимназию, рассчитывая, что со временем из него выйдет знаменитый ученый-профессор.
В этом случае Герц Лурье не предавался обычным преувеличениям, свойственным родителям: Семен действительно отличался не только большими способностями, но также чрезвычайной любознательностью и трудолюбием. Окончив в 1872 г. с медалью киевскую 2-ю гимназию, в которой мы с ним одновременно, но в разных классах, учились, он поступил в местный университет на медицинский факультет.
От многих своих товарищей Семен в это время отличался не только выдающимися способностями, но также своим развитием и характером: он много и с, толком: читал по всяким отраслям знания, в систематическом порядке, составлял конспекты прочитанного и делал обширные выписки из книг; в то же время он вел аккуратно «дневник», в который заносил приходившие ему на ум мысли и соображения по поводу виденного, слышанного и прочитанного. Семен не ограничивался заботами об умственном своем развитии, но чего не делал решительно, никто из нас, его товарищей, он регулярно занимался также гимнастикой и всякого рода физическими упражнениями.
На все у него хватало времени. Дни и ночи были у него правильно распределены по часам, от чего он никогда не отступал. Таким образом, с юных лет Семен Лурье являлся пунктуально-аккуратным человеком, обладавшим ровным, спокойным и вместе справедливым характером.
У него, несомненно, были все данные, чтобы оправдать надежды, возлагавшиеся на него родителями, которые, понятно, души в нем не чаяли.
Им было чем гордиться: судьба, казалось, снабдила их Семена всем, чего могут родители желать своему сыну: он был умен, способен, трудолюбив, добр, здоров, к тому же очень красив. Насколько могу припомнить, в то время в Киеве не было ни у какого другого еврея такого удачного во всех отношениях сына, каким являлся первенец купца Герца Лурье.
Все данные говорили за то, что Семену предстоит блестящая ученая карьера. Поступив в киевский университет, он усердно принялся за изучение медицины, чем сразу обратил на себя внимание некоторых профессоров. Состоятельный отец его решительно ничего не жалел для того, чтобы жизнь его любимца была обставлена всеми удобствами, комфортом. Для отца, матери и единственной его сестры, малейшие его желания были законом, и они медленно и с радостью ими исполнялись.
141
Однако нетребовательный и скромнейший от природы юноша не только никогда не высказывал никаких исключительных желаний, но находил излишним; многое из того, чем, помимо его воли, снабжали его близкие.
Так мирно и тихо шла жизнь этой небольшой семьи, когда вдруг над нею разразилось неимоверное, страшное несчастье.
Семен Лурье, конечно, был «нигилистом», «демократом», человеком, готовым приносить пользу обездоленным массам: русская передовая литература, на которой он, как и все мы, воспитывался, развила и в нем эти стремления. Немногое нужно было поэтому, чтобы Семен Лурье стал затем и социалистом.
Отчасти в виду носившегося уже в воздухе нового веяния, а еще больше, вероятно, под непосредственным влиянием приехавшего в Киев П.Б. Аксельрода—мирно и усердно работавший в анатомическом театре Лурье быстро примкнул к числу ярых его последователей.
Но раньше, чем отдаться целиком новой деятельности, Семен пожелал ближе познакомиться с задачами и стремлениями разных возникших тогда социалистических направлений и разобраться в разногласиях, существовавших между «бакунистами» и «лавристами». С этой целью летом 1873 г. Лурье отправился в Цюрих, где, как мы уже знаем, сосредоточились тогда представители русской политической эмиграции, и куда устремилась из разных концов России также учащаяся молодежь. Родители Семена, считавшие эту поездку очень полезным для его здоровья отдыхом и развлечением, конечно, щедро снабдили его средствами.
В Цюрихе Лурье познакомился со знаменитым тогда редактором журнала «Вперед» П. Л. Лавровым и вскоре затем стад его горячим последователем.
По возвращении в Киев медицинские занятия, понятно, отступили на задний план. Вместо этого Семен начал готовиться к другой, более тяжелой и опасной карьере—к делу служения трудящимся массам. Переодетый ремесленником или рабочим Семен Лурье отправлялся в упомянутые Аксельродом артели плотников, каменщиков и т. п., чтобы вести в их среде пропаганду нового учения, новой веры, которая должна была объединить все человечество:
Кумачовая рубаха с косым воротом, широкие брюки, длинные ботфорты и поддевка сверху—до того сильно изменяли внешний вид еврейского студента из богатой семьи, что крестьяне, среди которых он появлялся, принимали его за своего же брата-рабочего.
(Потрясающая мимикрия. Прим. Проф. Столешникова)
Как и все мы, еврейские юноши того времени, Семен Лурье тоже не считал нужным нести свет нового учения в среду своих единоплеменников, хотя раньше, чем стать социалистом, он вместе со мною и другими: юношами немало времени посвящал занятиям с ребятишками-сиротками в местной Талмуд-Торе.
Кончилась революционная деятельность Лурье скорее, чем можно было ожидать даже по тому времени: где-то и у кого-то в Саратове или в Самаре при обыске полиция нашла адрес Семена Лурье в Киеве. Этого, конечно, было достаточно, чтобы нагрянули жандармы к его родителям, у которых он продолжал жить. Как раз случайно сына их в это время не было дома, и они, зная, где он находится, успели сообщить ему о случившемся, чтобы он не являлся домой. Семен имел, поэтому, возможность избегнуть ареста.
Узнав о происшедшем на его квартире обыске, Семен решил скрыться. С этой целью он направился к знакомому в Киеве врачу Сощину (еврею же), не социалисту, а либералу, порядочному человеку, чтобы дождаться прихода кого-либо из родных и, получив от них деньги, уехать куда-нибудь из Киева. Но на его несчастье к Сощину пришел школьный товарищ Лурье—Гельман, который, таким образом, узнал, где он скрывался. По выходе от доктора встретивший Гельмана квартальный спросил его, не знает ли он, где теперь Семен Лурье? Как мне сам Гельман потом признался, он до того испугался полицейского,—хотя он тоже считал себя «нигилистом», «демократом», но не социалистом,—что, сразу не сообразил, можно ли или нельзя сообщать о местопребывании Лурье, и брякнул: «я только-что видел его у доктора Сощина». Квартальный, конечно, поторопился туда, и Лурье был арестован. Это было летом 1874 года.
143
Как я уже упомянул, то был первый в семидесятых годах арест в Киеве за политические деяния. Легко, поэтому, себе представить, какой переполох вызвало это небывалое событий в местном обществе, в особенности среди евреев. Состояние родителей Семена было отчаянное. Для них начались непрерывные опасения, тревоги и несчастья, печально закончившие столь, казалось, завидно сложившуюся жизнь их.
Незадолго перед арестом Семен влюбился в одну общую нашу приятельницу, красивую, с живым темпераментом девушку, Дору Шварцман - сестру небезызвестного Льва Шестова, так же под; влиянием обстоятельств и агитация Аксельрода ставшую социалисткой.
(Шестов Лев - настоящие имя и фамилия Лев Исаакович Шварцман. (1866-1938), российский философ и писатель. С 1895 преимущественно жил за границей в Швейцарии и Франции http://www.hrono.ru/biograf/bio_sh/shestov.html -). Вскоре затем должна была состояться свадьба этой молодой пары,—Семену во время ареста минул только 21 год,—но жених очутился в одном из киевских полицейских участков.
Условия его заключения там в течение нескольких первых месяцев были ужасные: камера при полиции была полутемная, сырая, по ней бегало бесчисленное количество крыс и мышей, к тому же по соседству содержались лица, арестованные за пьянство, дебоши и т. п. Поэтому, они сами и усмирявшие их полицейские подымали днем и ночью неимоверный шум, крик, драки, что совершенно непривыкшего к таким увеселениям Семена лишало возможности спать. Тем не менее, видаясь тогда часто с ним, я поражался его спокойствию, выносливости, терпению.
Несмотря на крайне отрицательные условия, заключение Семена в участке имело одно большое удобство: с ним легко было часто видеться, так как это стоило всего 15—20 коп., которые приходилось давать дежурному полицейскому, охранявшему коридор, в котором помещались арестованные.
Мы с невестой Лурье скоро узнали, про этот легкий способ навещать его и очень часто по вечерам, когда меньше было опасности встретить, в коридоре кого-либо из начальства, за небольшую мзду дежурному в коридоре городовому, пробирались к его камере. Стоя у проделанной в дверях форточки, мы могли не только о чем угодно с ним беседовать, но и передавать ему разные запрещенные вещи: книги, газеты, ножик и т. п.
(Это при репрессивном-то режиме. Прим. Проф. Столешникова. Как они сами после 1917 года будут относиться к арестованным см. у Мельгунова «Красный террор» http://zarubezhom.com/redterror.htm - )
Конечно, мы при этом рисковали тоже очутиться рядом с ним, но в том возрасте и настроении, в каких мы с Дорой тогда находились, сопряженный с этими тайными по ночам посещениями полицейского участка риск казался нам очень привлекательным.
В это время отец Семена употреблял все усилия, чтобы поскорее освободить дорогого ему сына. Он ездил ко всякого рода начальству, давал то тому, то другому из них «взаймы», конечно, без возврата, но ничто не помогало: сына, его продолжали держать, в полиции. Единственного «облегчения», которого спустя 5—6 месяцев ему удалось, добиться,—это того, что сына его перевезли в тюрьму, так как на здоровьи последнего очень скверно отразилось пребывание в части. Чуть ли не с первого же свидания с Семеном в полиции мне пришло на ум, что ему нетрудно было бы бежать оттуда. Но он долго не мог на это решиться. С переводом же его в тюремный замок совершить побег стало значительно труднее и рискованнее. К тому же Семен не терял надежды, что дело его скоро окончится пустяками; он поэтому не хотел, стать ни «нелегальным», ни эмигрантом. Отец, с которым он был вполне и во всем откровенен, пришел чуть не в ужас, узнав, что мы обсуждаем вопрос о побеге: он страшился, что, в случае неудачи, Семена изобьют и устроят ему значительно худший режим. Между тем, при помощи денег, даваемых им «взаймы» главному вершителю судеб политических «преступников»,— жандармскому офицеру, барону фон Гейкингу, ему удалось добиться некоторых льгот для своего обожаемого сына, и он надеялся добиться еще больших в будущем.
Эти облегчения в тюрьме доставили Семену возможность усиленно заниматься: он много читал и совершенствовался в иностранных языках, вместе с тем, благодаря льготам, ему удавалось часто видаться с невестой и со мною.
Получавший от отца Лурье большие суммы «заимообразно», барон фон-Гейкинг, под предлогом вызова Семена из тюрьмы в жандармское отделение для допросов, смотрел сквозь пальцы на то, что невеста и я, под видом родственников, приходили туда на свидание с арестованным. Во время этих посещений я все настойчивее убеждал Семена совершить побег, предлагая с своей стороны нужную для этого помощь.
145
Действительно, мне удалось найти вполне безопасную квартиру, в которой Семен мог после побега скрыться, что в описываемое время, как мы видели, было чрезвычайно трудно. Но неуверенный в благополучном исходе этого предприятия и боявшийся еще более ухудшить свое положение Семен продолжал колебаться.
В этих переговорах прошло много времени: Лурье находился под арестом уже около полутора года. У него начался легочный процесс: я и невеста его опасались, что он не дотянет до суда. Утром 1 января 1876 года за мною заехал его отец, предложивший вместе с ним отправиться на свидание к сыну в жандармское управление. Я охотно на это согласился.
В правлении мы застали невесту Семена. Когда мы: вместе с нею стали тихо уговаривать его, чтобы он сегодня же окончательно решился на наше предложение, отец, догадавшись, о чем у нас шла речь с его сыном, энергично запротестовал, и Семен вновь впал в нерешительность.
У всех было тяжелое, удрученное состояние. Время тянулось тоскливо, разговоры не клеились; так прошло несколько томительных часов. Кто-то из нас сказал громко, что не дурно бы что-нибудь закусить. Один из присутствовавших по близости жандармов заявил, что ему нужно отправиться на почту, и он может купить для нас что-нибудь съестное. Тогда Семен выразил желание отправиться вместе с ним, на что тот согласился, так как ему в голову не могло притти, чтобы Лурье, к которому явились на свидание отец, невеста и друг, мог бы решиться на побег в это время. Перед уходом Семена я снабдил его всеми необходимыми указаниями,—дал ему адрес квартиры и пароль.
Прошло с полчаса. Вдруг с шумом распахнулась дверь, вбежал жандарм, ушедший вместе с Лурье, страшно встревоженный и закричал: «Лурье тут нет?» Я ответил: «Он,
ведь, с вами ушел».—«Значит, он убежал», воскликнул он в ужасе.
Находившиеся там пять-шесть жандармов бросились вон из казармы на поиски убежавшего. Я тоже медленными шагами вышел вслед за ними; прошедши несколько кварталов и взяв извощика, я отправился на квартиру смелого и доброжелательного либерала, адрес которого дал Лурье. Там я застал большое стечение гостей, сошедшихся у хозяина, для поздравления его по случаю Нового Года, А в одной из отдаленных комнат Семен сидел с намыленными щеками и подбородком, с которых хозяин бритвой снимал его довольно густую растительность и делал его таким образом совсем неузнаваемым.
Пробыв у этого гостеприимного и радушного укрывателя, вовсе не бывшего социалистом, несколько дней, Семен Лурье контрабандным способом отправился за границу. При этом ему пришлось ходить по колени в снегу, отчего он сильно простудился. А так как вследствие пребывания в части и в тюрьме, как я уже упомянул, начался у него легочный процесс, то после этой простуды он быстро подвинулся вперед. Очутившись затем в Швейцарии, Лурье слег в постель.
Между тем, дела, его отца, вследствие хлопот о сыне, были очень запущены и, чем дальше, тем шли все хуже, так что по прошествии нескольких лет он совсем разорился и обеднел. Невеста же его не последовала за ним за границу и вскоре вышла замуж за другого.
Года два, с чем-то спустя я, тоже после побега, очутился в Швейцарии, где застал Семена, харкающим кровью. Врачи советовали ему поселиться в стране с более теплым климатом. Он отправился в Геную, где вскоре настолько поправился, что смог энергично приняться за изучение итальянского языка, который вскоре до того усвоил, что через год свободно писал и говорил на нем. Тогда Семен решил поступить там в университет. Благодаря своим замечательным способностям и трудолюбию, он с отличием окончил медицинский факультет в Италии, чем обратил на себя внимание профессоров. Своей специальностью он избрал физиологию и написал ученый труд, благодаря которому ему предложили профессуру.
147
Здоровье Семена настолько улучшилось, что он счел возможным жениться на любимой девушке—Амалии Рагнер. Затем пошли дети: он имел двух девочек. Счастье, казалось, вновь ему улыбнулось, но, увы, не надолго: хотя и медленно, туберкулез все же распространился, а ему приходилось много работать, чтобы добывать необходимые для семьи средства к существованию. Он стал врачом при одной больнице в Генуе, а также был приглашен в число членов медицинской академии.
(Разумеется это всё происходит не без помощи итальянских евреев. Прим. Проф. Столешникова)
Тяжелый недуг продолжал производить свое разрушительное действие: Лурье сильно страдал. Предчувствуя приближение смерти, он пожелал умереть в Швейцарии. Распродав все, жена с маленькими детьми повезла его, уже неспособного двигаться, так что его должны были переносить на руках из вагона в вагон.
Вскоре по приезде в Кларан (на берегу Женевского озера) Семен Лурье скончался 37 лет от роду, оставив вдову и детей решительно без всяких средств к существованию.
Так печально закончилась столь блестяще начавшаяся жизнь чрезвычайно даровитого, честного и гуманного еврея-социалиста. Нужно ли упоминать, кто был виновником преждевременной его гибели и печальной участи его семьи?
148
ГЛАВА VIII.
Д-р. ИСААК КАМИНЕР И КРУЖОК П. Б. АКСЕЛЬРОДА.
Выше я сообщил, что евреи-отцы» часто вовсе не являлись антагонистами, ярыми противниками «детей».
(Ах вот о чьих «Отцах и Детях» подразумевал Тургенев. Прим. Проф. Столешникова)
Отчасти мы уже видели это на Герце Лурье; но еще в значительно большей степени «потворщиком» своим детям являлся одно время довольно популярный в Киеве д-р Исаак Каминер, вся многочисленная семья которого так или иначе участвовала в революционном движении 70-х годов. Хотя сам отец не причислял себя к социалистам, но в качестве «сочувствующего» он оказал немало услуг нам, поэтому считаю уместным уделить этому оригинальному человеку несколько страниц.
Мне было лет 16—17, когда я впервые услыхал, что на Подоле проживает «доктор Каминер», о котором сообщали удивительные вещи. Так, говорили, что он должен был сделаться раввином, для чего до 16 лет исключительно изучал талмуд и другие древне-еврейские книги; при этом он проявлял выдающиеся дарования. В очень юном возрасте его, слабого, к тому же горбатого, обвенчали с девочкой, которая была еще моложе его. И вдруг этот юный, набожный ортодоксально ученый, обратился к изучению «гойских наук». Вместе с молоденькой женой своей он оставил затем маленькое местечко Лептиво (возле Житомира) и отправился в г. Вильно учиться. Двадцати лет от роду Каминер получил место учителя в еврейском училище в Житомире. Пробыв пять лег в этой должности и имея уже пятерых детей, Каминер решил поступить в университет. Легко представить себе, как должен был много трудиться и вместе с тем как сильно при этом приходилось бедствовать этому настойчивому человеку и его семье, чтобы достигнуть поставленной им себе цели.
149
Учась сам, он в то же время учил других, чтобы этим путем прокормить себя и большую семью. Но одного этого источника для их существования было, конечно, недостаточно, почему он с семьей терпел большие лишения. Все же, в конце концов, хотя и не очень уже молодым человеком,—кажется, лет тридцати с чем-то,—Каминер, имевший шесть душ детей, окончил медицинский факультет в Киеве и там же занялся практикой.
Местная еврейская голытьба вскоре оцепила умного, знающего свое дело и внимательного ко всем врача, вышедшего к тому же из ее среды,—из низов. Будучи врачом, Каминер не переставал следить за медицинской наукой, благодаря чему стал ассистентом у знаменитого профессора по внутренним болезням Меринга.
Материальные условия Каминера с каждым годом значительно улучшались. Натерпевшись в молодости, он хотел обеспечить жизнь семьи, да и свою собственную под старость. Работал он, поэтому, неимоверно много. Отчасти ему уже было, удалось достигнуть и этой цели,—он приобрел довольно большой каменный, дом в Киеве и небольшое именьице в Черниговской губ., но, будучи крайне непрактичным человеком, Каминер при этих покупках влез в большие долги. Это поставило его и очень затруднительное положение, и, в результате, он оказался без дома, без денег и с обремененным долгами имением, не приносившем ничего, кроме убытков.
Особенно выделялся Каминер в Киеве тем, что ничего не жалел для воспитания своих детей, которым он старался дать наилучшее образование. Имея сам с юных лет большую страсть к знаниям и испытав на, себе всю трудность достижения образования при материальных невзгодах, д-р Каминер, получив, наконец, средства, поставил себе целью освободить своих детей от каких-либо лишений. При этом он стремился дать, им все, что только было в его силах, для умственного их развития: приглашал лучших учителей и заботился о наиболее рациональных, прогрессивных методах их обучения.
Среди просвещенных киевских евреев, помню, дети д-ра Каминера считались «развитыми не по летам», обладающими «выдающимися способностями» и являющимися «очень передовыми». Но судьба не хотела порадовать на старости лет Каминера успехами и удачами детей: прежде всего его постигло большое несчастье с сыновьями. У него было два мальчика, считавшихся замечательно способными, в особенности один из них, признаваемый родителями чуть не гением. Но случившаяся в Киеве холера унесла его в могилу, а другой, наиболее из всех детей талантливый, выпив по ошибке яд, скончался.
Не берусь изобразить горе бедного отца. Все его надежды сосредоточились затем на пяти дочерях. Из них особенно выдающимися были две первые, Надежда и Августина. В числе немногих других в те времена еврейских девушек, они устремились: в Швейцарию, чтобы получить там высшее образование. Но, как известно, вскоре затем русское правительство—под угрозой тяжелых наказаний—потребовало, чтобы все «подданные царя» вернулись немедленно на родину, так как оно боялось, чтобы учившаяся в Цюрихе молодежь не заразилась от проживавших там же знаменитых эмигрантов —Лаврова, Ткачева и др. — преступными взглядами.
Как и другие девушки и юноши, дочери Каминера тоже вернулись домой, не окончив образования, но зато они стали там социалистками, готовыми всем пожертвовать для торжества своих новых воззрений.
В это же приблизительно время в Киеве появился П.Б. Аксельрод; затем туда приехали также для поступления в университет два брата—Нахман и Лейзер Левентали, о которых выше упоминал Аксельрод. Эти три молодых человека сделались вскоре женихами трех старших дочерей Каминера. Они внесли в его семью новую струю, новое течение и направление. Не достижение конечных результатов современных знаний, о чем для своих способных детей так заботился просвещенный доктор, стало задачей кружка, составившегося из указанных и нескольких еще лиц: подобно всем другим энтузиастам, они, забросив умственные занятия, стали подготовляться, чтобы пойти в народ.
Дом д-ра Каминера на Подоле превратился вскоре в центр «заговора», в притон «опасных людей» и место для хранения столь «ужасных вещей», как разные подпольные произведения. С этими новыми порядками, введенными в семье, легко мирился д-р Каминер, который, конечно, прекрасно знал, что грозит ему, если полиция и жандармы пронюхают относительно его «попустительства» и «пособничества»: по тем временам д-р Каминер легко мог угодить если не на каторгу, то во всяком случае—в Сибирь. На его счастье, долго не находился среди знакомых его детей предатель, который сообщил бы полиции, чем в действительности является семья и дом д-ра Каминера. Только шесть-семь лет спустя, в 1880 году, донос на дочерей Каминера сделал прославившийся своими разоблачениями знаменитый Григорий Гольденберг, о котором сообщу ниже. Тогда д-ра Каминера, конечно, стали донимать обысками и допросами. Но дочери его и их женихи, а затем мужья их, давно уже были в эмиграции, почему особенно тяжелых последствий разоблачения Гольденберга для самого Каминера не имели.
К увлечениям старших своих дочерей и их женихов, наиболее видным из которых, как я уже упомянул, был П. Б. Аксельрод, д-р Каминер относился хотя довольно сочувственно, но все же не без иронии. Он не пропускал случая: отпустить остроту как на счет молодых энтузиастов, так и их кумира—русского крестьянина, в особенности же по поводу правительства;—Каминер не лишен был сатирической жилки, что проявлялось в многочисленных написанных им на древне-еврейском языке стихотворениях, признанных многими компетентными лицами за выдающиеся.
В течение 70-х годов он скорее являлся сторонником ассимиляции евреев с коренным населением. Но разразившиеся в начале 80-х годов анти-еврейские погромы произвели на него столь сильное впечатление, что под их влиянием в психике этого недюжинного человека произошел крупный перелом. Прежде всего, он стал совершенно равнодушен к материальным благам, к приобретению которых, как мы знаем, он настойчиво стремился ради многочисленной семьи своей. Также и других он начал убеждать во вреде имущества, богатства. Так, в найденном впоследствии письме его к одному приятелю он не только выражает сожаление и раскаяние в том, что раньше стремился копить средства для семьи, но предупреждает его, чтобы он не стал жадным: к деньгам,—«к этому сатане нашей духовной жизни».
В то время Каминер будучи земским врачом в Черниговской губернии, лечил безвозмездно бедных и всячески старался помогать нуждавшимся. Так, наезжая в г. Чернигов, он отправлялся в местную Талмуд-Тору, где наделял бедных мальчиков разными необходимыми вещами и лакомствами. Он участвовал в общественной жизни евреев, для чего в 1882 году стал членом еврейской комиссии в г. Чернигове. На ее заседаниях д-р Каминер высказывался довольно решительно против правительственных чиновников, всячески преследовавших евреев.
Выпадавшие, при обильных его занятиях, немногие свободные часы д-р Каминер посвящал литературным вопросам: он много читал по самым разнообразным областям, а также писал стихи на древне-еврейском: языке, что, после «пробы пера» в юности», он давно уже оставил. Иногда же, живя в своем именьице, часами расхаживал до своему кабинету, распевая известные еврейские мелодии или свои импровизации.
Любовь к забитым, преследуемым единоплеменникам стала главным мотивом его поэзии. В ней он, с одной стороны, проповедывал необходимость единства. Израиля, а с другой,—нападал на народных врагов, отщепенцев и на «богача-либерала, у которого нет ничего святого, кроме денег». Он обрушивался также на «отчужденных от своего народа интеллигентов». Его стихотворения первой эпохи носили, по преимуществу, социальный характер. В этом отношении особенно замечательна его «Песнь о монете», напечатанная в еврейском социалистическом журнале «Наетез», издававшемся знаменитым Либерманом, а также Цукерманом и др. в Вене (1877 г.). В ней д-р Каминер бичует мир, в котором торжествует золото и насилие. Во втором периоде его жизни, когда он склонился целиком к еврейству, мотивами его поэзии стали возрождение и подъем родного народа.
Свою медицинскую практику, а также и службу в земстве Каминер тогда совсем забросил и занялся литературой и поэзией. В нем все более росло национальное чувство. Его занимала мысль о выселении евреев из России и вообще о колонизации.
153
Поэтому, когда в 90-х годах возникло сионистское движение, д-р Каминер стал сильно увлекаться мыслью о переселении евреев в Палестину. Как и многие другие, он высоко ценил личность и деятельность знаменитого д-ра Гертцля. Сочувствуя идее колонизации Палестины, он перед своей смертью в письме к приятелю, своему Ахад Гааму просил его весь доход от издания его произведений употребить в пользу «Одесского общества для колонизации евреев в Палестине».
Таким образом, между настроением, явившимся у Каминера после анти-еврейских погромов, и стремлениями его дочерей и их мужей, из (которых двое были христианами) возникло значительное несоответствие. Д-р Каминер очень сокрушался по поводу разногласий со своими детьми, что он отчасти и выразил в своем предсмертном стихотворении, названном «Исповедь». В нем бедный отец кается в отщепенстве от своего народа: «Из-за моего греха,—говорит он,— дух моего народа оставил моих детей, а после моей смерти, кто знает, останется ли мое ,имя и наследие?.. Я немного удалился от пути, а дети мои уже совсем потеряли его»... Поэт обращается с призывом к (богу, который, ведь, знает «страдания, несчастье и бурю его наболевшей души».
Две дочери д-ра Каминера, из которых вторая была замужем за небезызвестным некогда землевольцем, ставшим впоследствии также небезызвестным крупным нефтепромышленником—Тищенко,—вернулись в начале 80-х годов из-за границы к отцу в деревню. Но вскоре затем туда явились жандармы и, хотя ничего предосудительного не было найдено, все же они и Тищенко были арестованы, а потом в административном порядке все три отправлены на житье в Сибирь. Любимая жена, с которой д-р Каминер проявил около сорока лет, скончалась, а три другие дочери оставались за границей. Ко всему этому присоединилась у него еще тяжелая внутренняя болезнь. Не будучи в состоянии, при этих условиях, выносить одиночество, Каминер в конце девяностых годов отправился в Швейцарию, где жила старшая дочь его Надежда с мужем П. Б. Аксельродом и тремя детьми. Жизнь в семье любимой дочери и зятя, к которому д-р Каминер всегда относился с особенным расположением, в значительной степени облегчала его тяжелое душевное состояние, обусловленное всеми вышеуказанными обстоятельствами. Все же это, конечно, не могло излечить его от тяжкого физического недуга. Болезненный процесс развивался все далее. Знаменитый профессор Бернского университета Кохер сделал д-ру Каминеру операцию, после которой он скончался на 67-ом году от роду. Масса учащейся в Бернском университете молодежи из России провожала до могилы тело усопшего выдающегося человека.
1. БРАТЬЯ ЛЕВЕНТАЛИ
Выше мне лишь вскользь пришлось упомянуть о кружке евреев-революционеров, который был связан с домом д-ра Каминера и основан Аксельродом. Необходимо теперь несколько подробнее остановиться на нем.
Как я уже сказал, кроме трех старших дочерей—Надежды, Августины и Софии, в этот кружок входили также П. Б. Аксельрод, братья Нахман и Лейзер Левентали, считавшиеся женихами, второй и третьей дочерей, но впоследствии браки эти не состоялись. Сверх этих лиц в кружок «дома Каминера», как некоторые тогда иронизировали, входили еще известный уже читателю Семен Лурье, а также Григорий Гуревич, о котором выше упоминал П. Аксельрод, и др. Остановлюсь сперва на братьях Левенталь, так как, по- общему признаниях эти два молодых еврея подавали блестящие надежды.
Левентали были сыновьями учителя еврейского училища в г. Могилеве. Отец старался дать своим очень способным мальчикам наилучшее воспитание не только в умственном, но и в физическом отношении. Так, он ежедневно сам водил их на прогулки за город, чтобы они дышали чистым воздухом, занимался с ними гимнастикой и т. д. Наряду с этим умный отец обучал своих сыновей всему, что только мог им передать —языкам, рисованию, а когда они подросли, он поместил их в гимназию, что, как мы уже знаем, в те времена со стороны еврея являлось неимоверно смелым поступком. Но отец Левенталей уже тогда не придерживался еврейских взглядов и правил, почему и сторонился от своих единоверцев. В гимназии мальчики учились прекрасно и оба кончили ее с золотыми медалями, при чем старшему—Нахману было всего 17 лет, а меньшему—Лейзеру—только 16 лет.
155
В этом-то возрасте они очутились в Киеве, куда приехали (в 1872 г.) для того, чтобы поступить в университет. Но, как я уже сообщил, они вскоре затем вступили в созданный Павлом Акеельродом кружок. Братья Левентали прониклись начавшими тогда распространяться в России социалистическими воззрениями и, подобно другим юношам, также решили оставить университет, чтобы пойти «в народ».
Само собой разумеется, что, прежде чем превратиться «в крестьян»,
(Ни дать не взять оборотни. Прим. Проф. Столешникова) Левентали обучались ремеслам —столярному, сапожному, ходили в Киеве в .артели рабочих пропагандировать—читать им разные книжки и т. д. Не помню, удалось ли им осуществить свое намерение «пропагандировать» крестьян, т.-е. действительно ли они «ходили в народ». Но мы уже знаем, что летом 1874 г., вследствие ареста Семена Лурье, Левенталям, как и Павлу Аксельроду, пришлось эмигрировать заграницу, где они также предполагали остаться лишь короткое время, пока уляжется предпринятая за ними погоня.
Особенно выдающимися способностями обладал старший Левенталь. Очутившись в Берлине, он одновременно знакомился с местным рабочим движением и посещал лекции; по математике и физике: к этим предметам он имел особенно сильное влечение . Но эта же склонность была отчасти причиной ужасно трагического его конца: с одной стороны, его тянуло обратно в Россию, чтобы работать в народе, а с другой,—его интересовала чистая наука. Произошедший вследствие этого внутренний разлад привел Нахмана в крайне нервное состояние. К этой тяжелой борьбе присоединилась возникшая у этого выдающегося юноши несчастная любовь к одной еврейской девушке, любившей его товарища. Когда это обстоятельство выяснилось, несчастный Нахман, которому было всего 18—19 лет, выпил серной кислоты и бросился в реку. Несмотря на то, что его вскоре вытащили из воды, яд уже настолько подействовал, что никакие меры не могли его спасти.
Это была страстная, порывистая, чрезвычайно одаренная натура, быстро увлекавшаяся и также скоро переходившая к новому предмету. Но, конечно, не сложись так неблагоприятно обстоятельства его жизни, благодаря русским политическим условиям, из Нахмана Левенталя, несомненно, вышел бы крупный европейский ученый, подтверждением чему отчасти может служить участь его меньшого брата.
Много пришлось вынести и Лейзеру Левенталю за. границей. Ему удалось перебраться из России сперва в Турцию, откуда, за отсутствием денег на дальнейшее путешествие, он долго не мог выбраться и в течение некоторого времени буквально голодал. Наконец, он добрался до Берлина, где, благодаря тому, что он недурно рисовал, нашел себе какую-то работу. Но Лейзер не желал сразу стать эмигрантом: вскоре затем он нелегально вернулся на родину, где пробыл два или три года, после чего он вновь отправился за границу, на этот раз в Швейцарию, в Женеву. Там он поступил на медицинский факультет. Для приобретения средств к существованию он вновь прибег к рисованию; и, работая в фотографии, учился в университете. Вскоре профессор анатомии обратил внимание на артистически приготовляемые препараты, после чего определил его препаратором в анатомическом театре. Кроме того, когда Лейзер Левенталь перешел на 3-й курс, знаменитый физиолог проф. Шифф сделал его своим ассистентом. (Везде помогают свои. Прим. Проф. Столешникова) Таким образом, еще будучи студентом, этот даровитый человек выделялся уже своими недюжинными способностями, большими знаниями и редким прилежанием. Окончив блестяще медицинский факультет, Левенталь получил предложение занять кафедру гистологии в Лозанне. Насколько мне известно, он до недавнего времени продолжал состоять там профессором, завоевав своими сочинениями, крупное имя в ученом мире. От социалистического движения Лейзер Левенталь давно совсем отстранился. Жив ли он теперь, не знаю.
157
ГРИГОРИЙ Г У Р Е В И Ч.
Не раз уже упоминалось в предыдущих главах имя Григория Гуревича. Со слов П. Б. Аксельрода мы знаем, что одним из первых молодых евреев, которых он привлек к своим планам, был Григорий Гуревич. Он также входил в кружок, собиравшийся в доме Каминера. Однако, в русском революционном движении Григорий Гуревич, как и Левентали, С. Лурье и др., не играл решительно никакой роли: участие его в нем было совсем незначительно. Тем не менее, нельзя вовсе обойти его молчанием, так как среди евреев-семидесятников, имевших то или иное отношение к русскому революционному движению, Гр. Гуревич занимает особенное положение. Сообщу поэтому, что я о нем знаю на основании его собственных заметок, присланных им мне лег 15 тому назад.
Родился Гр. Гуревич в Могилеве на Днепре в 1852 году в богатой еврейской семье. Главное влияние на его воспитание имела мать его, урожденная Гаркави,
(Обратите внимание на эту фамилию, в России её обладатели обычно выдают себя за «грузин». Прим. Проф. Столешникова)
которая но характеру, уму и развитию была выдающейся женщиной. Кроме древне-еврейского, она прекрасно знала русский, немецкий и французский языки, на которых много читала. Она старалась сделать своих детей образованными людьми, привить им любовь к умственным занятиям. Учителя, которых она приглашала к Григорию и к брагу его Давиду, были не только большими гебраистами (хибруистами – знатоками иврита), но также знатоками всемирной литературы и европейских языков. Когда Грише минуло 15 лет, она его вместе с братом отправила в Германию, где он поступил в еврейское коммерческое училище, по окончании которого, два года спустя, он вернулся обратно в Россию. Не желая сделаться коммерсантом, он стал готовиться к экзамену для поступления в университет. Учителем его одно время был П. Б.. Аксельрод, имевший на него, как и на некоторых других еврейских юношей того времени, большое влияние. Вот что он сообщил мне об этом в своей записке.
«Мне было 14 лет, когда я познакомился с Пинхусом Аксельродом, который пришел пешком из местечка Шклова в Могилев и некоторое время жил в нашем доме. У нас существовал кружок саморазвития, в который входили гимназисты—братья Левентали, Лейзер Цукерман и др. Мы читали русских классиков, беллетристов и критиков. Когда я затем начал готовиться к поступлению в Нежинский лицей, то П.Б. Аксельрод стал моим учителем».
Спустя некоторое время, Гр. Гуревич поступил в качестве вольнослушателя на юридический факультет Киевского университета. Там, как мы уже знаем, он вновь оказался вместе с П.Аксельродом в одном кружке, ставившем себе задачей пропаганду среди рабочих.
Вследствие начавшихся арестов и розысков его жандармами, он бежал вместе с Аксельродом и бр. Левенталями за границу; одно время они все жили в Берлине. Там же затем очутились Цукерман, Зунделевич и др. еврейские юноши, принимавшие то или иное участие в революционном движении.
«Через Зунделевича,—сообщает мне Гр. Гуревич,—я потом присоединился к партии «Земля и Воля», а затем к «Народной Воле». Но, находясь под влиянием немецкой социал-демократии и живя, в Берлине, я пристал к оппозиции Иоанна Моста, отчасти завел также сношения со знаменитым противником Маркса и Энгельса—с проф. Дюрингом».
Живя; в течение долгого времени за границей; Гуревич имел возможность познакомиться со многими известными русскими эмигрантами, а также с знаменитыми вожаками немецкого рабочего движения—с Фр. Энгельсом, Либкнехтом, Бебелем, Ауэром и др. (Одни криптоевреи. Прим. Проф. Столешникова)
В Берлинском университете Гуревич занимался изучением медицины, что, однако, не исключало для него возможности одновременно принимать участие в немецком рабочем движении, бывать на собраниях, присутствовать па партийных съездах в Готе, Нюрнберге и в др. городах.
Когда, как мы уже знаем, Лейзер Гольденберг, вместо с известным Либерманом, подняли агитацию за необходимость вести пропаганду социализма среди еврейских тружеников на еврейском языке, Гр. Гуревич явился одним из первых, признавшим своевременность и полезность этой задачи. Затем, когда Либерман из Лондона переехал в Вену, где он начал издавать журнал «Haemes» (Правду). (Отсюда, видимо, пошло название и большевистской «Правды». Прим. Проф. Столешникова)
Григорий Гуревич присоединился к организованному им кружку еврейских социалистов. Осенью 1878 г. Гр. Гуревич был арестован в Берлине по обвинению в участии в тайной социалистической организации. После трехмесячного заключения он вместе с Либерманом и Аронсоном был предан суду, который приговорил его к 9-месячному заключению и изгнанию затем из Пруссии.
Вследствие разразившихся на юге России в начале 1881 г. анти-еврейских погромов Гуревич, будучи несогласен с несправедливым отношением «Народной Воли» к этим печальным событиям, разошелся с этой организацией и стал еврейским социалистом.
Здесь необходимо указать на то, как реагировала значительная часть еврейской передовой молодежи на не раз уже упомянутое мною анти-семитическое настроение, начавшееся после погромов.
В сильной степени заволновалась еврейская передовая молодежь: многие евреи, примыкавшие раньше к русскому революционному движению, отошли от него и начали строить планы—один грандиознее и утопичнее другого,—как помочь своим соплеменникам. Между этими мечтателями некоторые решили переселиться в Сев.-Амер. Соед. Штаты, с тем чтобы в еще девственных тогда западных степях основать еврейские земледельческие колонии.
«Мы, евреи,—говорили эти юные идеалисты,—дали миру великие моральные принципы, которые до сих пор еще нигде не привились. Быть может, нам же выпал теперь жребий показать миру пример, как следует организовать общественную жизнь на принципах правды и справедливости».
По плану этих будущих американских земледельцев-коммунистов, вся земля должна была стать собственностью коммун и обрабатываться сообща. Каждый член коммуны должен был получать все ему необходимое для жизни, а излишек продуктов общего производства следовало употреблять на улучшение и увеличение коммунального хозяйства, а также на устройство новых коммун для вновь прибывающих в Америку евреев.
Казалось, трудно было что-нибудь возразить против этого плана, разработанного во всех деталях: ведь, все, не исключая меня самого, часто обвиняли евреев за то, что они уклоняются от производительного, труда, предпочитая ему посреднические функции.
Один из моих старых школьных товарищей, даровитый юноша Вольтер, отправившийся из России с группой единомышленников в Америку с целью создать в Новом Свете земледельческие коммуны, специально, завернул в Швейцарию, чтобы, повидавшись со мною, склонить и меня присоединиться к ним. Он немало был затем удивлен, когда услыхал, что я не считаю этот план целесообразным и осуществимым: я не верил в возможность скоро достигнуть столь крупных перемен среди моих соплеменников и, к великому огорчению моего товарища, предсказывал, что, спустя короткое время, все эти идеалисты побросают свои колонии и переселятся в американские города, где займутся обычными интеллигентскими профессиями. Дальнейшие события,—как я впоследствии убедился, очутившись в Америке,—показали, что в этом случае я был неплохим пророком.
(Так и произошло, но эти юноши, сейчас, через 100 лет полностью руководят США а США руководят Россией – и кто был прав? Прим Проф. Столешникова)
Вернемся, однако, к Григорию Гуревичу. Как мы уже знаем, на него также в сильной степени подействовали анти-еврейские погромы и последовавшее за ними враждебное к его соплеменникам отношение некоторой части русского передового общества. Уже и раньше его влекло к работе среди евреев, почему он и присоединился к Либерману —первому глашатаю необходимости вести пропаганду социализма на еврейском языке, а после разразившихся погромов Гуревич совсем отстал от народовольцев и посвятил себя целиком деятельности среди своих соплеменников. Чтобы освободить их от преследований, он тоже надумал план—переселить евреев в Палестину. Этот план он стал проповедовать бывшему своему учителю П. Б.Аксельроду, который настолько увлекся им, что в своих письмах,—я жил в Женеве, а он в Цюрихе,—подробно излагал его; при этом он просил меня расспросить известного географа Элизе Реклю,
(Французского еврея. http://en.wikipedia.org/wiki/Elisee_Reclus Прим. Проф. Столешникова)
с которым я тогда часто встречался, о географических, климатических и других условиях Палестины. Но тогда, как, впрочем, и теперь, я, не признал и этого плана целесообразным в качестве радикального решения еврейского вопроса. Я полагал, что евреи вместе с другими национальностями, населяющими Россию, должны бороться за достижение полного равноправия для всех решительно жителей нашей страны. Из помещенной в № 1 сборника «Группа Освоб. Труда» моей переписки с Аксельродом можно видеть, что более 40 лет тому назад я относился к еврейскому вопросу так же, как и в настоящее время.
(Но через 50 лет они станут говорить о «нашей» стране только как о «географической родине», этим обосновывая своё право на эмиграцию на «историческую родину». Прим. Проф. Столешникова).
161
Закончу о дальнейшей жизни этого, как мы видели, если не первого, то одного из наиболее ранних сторонников ведения пропаганды социализма среди еврейских масс, а также и переселения их в Палестину.
Из Цюриха, где мы с ним встретились летом 1882 г., при чем горячо спорили по поводу еврейского вопроса, он переехал в Париж. Там Григорий Гуревич продолжал изучать медицину, но курса не кончил; занимался он, главным образом, литературой, написал ряд статей, появившихся в «Восходе» за 1884 г., о жизни эмигрантов. В 1883 г. он нелегально перешел границу, после чего поселился в Москве, где занимался литературой. Но вскоре затем его выследили и арестовали за принадлежность к партии «Народная Воля»; однако, продержав в тюрьме 16 месяцев, его, за отсутствием улик, освободили.
С тех пор он стал легально проживать в России, занимая пост датского консула в Киеве вплоть до начавшихся там в 1918 г. бесчисленных перемен правительств. Затем он вновь эмигрировал за границу, в Париж, где мы снова свиделись летом 1922 г. В течение более четырех десятилетий Григорий Гуревич почти все время отдает деятельности среди своих соплеменников. Как прежде в Киеве, так теперь в Париже, он состоит членом нескольких комитетов и учреждений, занимающихся еврейским эмиграционным вопросом.
Из вышеизложенного, мне кажется, ясно, что кружок, душой которого являлся П. Б. Аксельрод, в большинстве своем состоял из лиц, хотя способных, талантливых, но лишь случайно, на короткое время примкнувших к революционному движению.
Только сам инициатор этого кружка является видным участником нашего революционного движения; последователи же его, как мы видели, после первых розысков их, эмигрировали за границу и в дальнейшее время—одни раньше, другие позже—сошли совсем с политической сцены.
. Из этого, мне кажется, следует заключить, что ни темпераментами, ни стремлениями большинство членов описанного кружка не являлись революционерами, лицами, обладавшими глубоким, внутренним влечением к «революционной карьере»: у всех привлеченных Аксельродом молодых еврейских юношей энтузиазма и подъема хватило лишь на самое короткое время. Некоторые из них обладали крупными, выдающимися способностями, но при этом они были людьми тихими, сильно тяготевшими к научным занятиям, в которых, как мы видели, Л. Левенталь и С. Лурье кое-что сделали; революционерами же все они оказались неважными.
163
ГЛАВА IX.
МАРК НАТАНСОН.
Мы уже знаем, что весь контингент евреев, примкнувших к революционному движению, был крайне ограничен, а из него лиц, оставшихся неизменно на этом опасном и невыгодном поприще, было еще того меньше: их можно было перечесть по пальцам. Между этими 9—10 евреями самым выдающимся в 70-х годах был Марк Андреевич Натансон.
Среди крупных революционеров того десятилетия было, как известно, немало замечательных людей, приобревших большую популярность. Достаточно назвать: Веру Засулич, Софью Перовскую, Веру Фигнер, Екатерину Брешковскую, Желябова, Кропоткина, Плеханова. Но в начале 70-х годов, в разгар движения «в народ»,
(Теперь вы поняли, что за по крови было «движение в народ»? Это было движение еврейского народа в целях агитации гойского народа, которое привело к «Красному террору» 1917 года. Прим Проф. Столешникова).
другие имена пользовались всеобщим расположением революционной молодежи. Ее кумирами были: Сергей Кравчинский, Дмитрий Рогачев, Сергей Ковалик, Порфирий Войноральский. Об этих лицах, об их талантах, энергии, дарованиях и т. д. циркулировали почти легенды. Но когда на революционной арене в средине 70-х годов появился освобожденный из административной ссылки М. А. Натансон, он почти затмил славу всех только что перечисленных знаменитостей. В течение 2-х—3-х лет среди революционеров не было другого деятеля, который пользовался бы таким влиянием, уважением и могуществом, как «Марк»: он занимал самое видное, никем у него неоспариваемое положение.
Всем лицам, знакомым с нашим революционным движением, известно, какую крупную роль в нем сыграло общество «чайковцев», о котором я уже выше упоминал.- Но далеко не все знают, что основателем его был не П. В. Чайковский (Здесь этот Чайковский на фото на полу слева: http://zarubezhom.com/Images/DeyateliTovarizi2.jpg Кстати о настоящей крови композитора. Прим Проф. Столешникова),
а главным образом двадцатилетний студент Военно-хирургической академии М. А. Натансон.
(Опять Военно-Хирургическая Питерская академия)
это он положил начало тому тайному обществу, из которого вышло большинство уже не раз упомянутых мною знаменитых русских революционеров. Благодаря его же усилиям возникло затем и другое, не менее прославившееся у нас общество— «Земля и Воля»
(Ах вот кто, оказывается, основал «Землю и Волю. Но если вы посмотрите в русскую Вики, то вы увидите лишь: «Земля и Воля - тайное революционное общество, возникшее в России в 1861 году и просуществовавшее до 1864 года. Своей целью участники ставили подготовку крестьянской революции. В числе организаторов были Н. Н. Обручев, С. С. Рымаренко, И. И. Шамшин и др.». О том, что общество организовал Натансон – ни звука. Прим. Проф. Столешникова),
из которого, как известно, потом произошли «Народная Воля» и «Черный Передел», бесспорно сыгравшие крупнейшую роль в революционном движении России.
Уже из этих фактов можно заключить, насколько выдающимся человеком был в ту эпоху М. А. Натансон. Тем страннее может показаться, почему в дальнейшем ходе нашего движения он не играл особенно крупной роли, и имя его осталось мало или вовсе неизвестным новым поколениям.
Сын купца г. Ковно, Марк, по окончании местной гимназии в 1868-году, отправился в Петербург, где поступил в Медико-хирургическую академию. Там он сошелся с двумя студентами—Чайковским и, Сердюковым и сообща с ними решил основать кружок из наиболее просвещенных и высоконравственных молодых людей обоего пола. Принимать в свою среду они решили только лиц, во всех отношениях безупречных и вместе с тем являющихся наиболее выдающимися, талантливыми. 'Поэтому, прием каждого нового члена был обставлен большими строгостями: требовалось единогласие, и при малейшем сомнении с чьей-либо стороны, кандидат забаллотировывался. Привлекши, таким образом, всех наилучших в столице молодых людей, эта группа намеревалась то же самое совершить в Москве, Киеве, Одессе и других крупных городах России. Таким образом, со временем вся страна должна была покрыться тесно связанными между собою кружками, состоящими из просвещенных и высоконравственных людей, которые, будучи еще на школьной скамье, по мере своих сил, в законных легальных рамках, могли бы содействовать поднятию умственного и нравственного уровня населения.
Благодаря огромной энергии и настойчивости, проявленных Натансоном, в конце 1869 г. ему и двум названным мною выше товарищам его действительно удалось привлечь несколько человек из наиболее выдающейся молодежи Петербурга.
165
Затем кружок этот задался той в высшей степени плодотворной и практичной задачей, о которой я уже отчасти сообщил выше: чтобы учащаяся молодежь могла разобраться, какие из появлявшихся в большом количестве на книжном рынке сочинения стоит читать и приобретать для своих библиотек, Натансон и его товарищи решили сами заняться распространением наиболее ценных, новых и старых произведений. Сочинения эти подбирались ими так, что каждый отзывчивый, чуткий читатель должен был становиться человеком передовым, честным, гуманным, просвещенным и стремящимся жить не для себя одного и своих близких, а для всех обездоленных, угнетенных и оскорбленных.
Этот простой, могущий теперь показаться неважным, мелким, план, однако, сыграл громадную, неоценимую роль в процессе просвещения России. В самых глухих медвежьих углах, куда раньше попадали только бессмысленные, а то и вредные книги, начали попадаться хорошо составленные библиотеки, вносившие совершенно новую струю, новые мысли, указывавшие, какие цели и стремления должны преследовать честные люди.
Но, как мы уже знаем, Третье Отделение узнало, что инициатором, этого культурно-просветительного предприятия являлся М. Натансон; поэтому он был арестован и затем в административном порядке выслан на далекий север Европейской России (в 1872 г.).
Будучи в ссылке, Натансон не только не упал духом, не опустился, а, наоборот, еще более закалился и подготовился к дальнейшей предстоявшей ему широкой, революционной деятельности. Он довольно усердно занимался и вел усиленную переписку о товарищами, которым он старался внушить, сколь важно продолжать дело подготовки и собирания разрозненных сил. Он, таким образом, продолжал заботиться не только о сохранении, но и о дальнейшем распространении основанной им организации, которая продолжала функционировать.
Преследования правительства только увеличивали энергию и настойчивость остававшихся на воле товарищей Натансона. Как мы уже знаем, одного за другим они привлекли в свою организацию наиболее выдающихся молодых людей, в столице, затем создали отделения в некоторых городах; и не только продолжали .скупать у издателей хорошие книги, но, при помощи Л. Гольденберга, стали также печатать за границей разные книжки.
Особенную активность, кроме уже названных Чайковского и Сердюкова, проявляли Перовская, Чарушин, Куприанов, сестры Корниловы и др. Разъезжал много по России, проповедуя необходимость организоваться, Н. В. Чайковский; (О Чайковском: http://www.hrono.info/biograf/chaikov_n.html ) поэтому некоторые стали его именем называть возникавшие то здесь, то там новые кружки, отсюда; и пошло наименование всей организации «чайковщиной», почему некоторые, слабо осведомленные в прошлом нашего революционного движения, полагают, что Н. В. Чайковский играл особенно выдающуюся роль в России. В действительности же Н. В. в организации «чайковщины» вовсе не играл первой роли. Но некоторые по незнанию до того настойчиво приписывают ему огромное значение, что в конце концов, он и сам в это уверовал, чему отчасти иллюстрацией может служить им же написанный в английской энциклопедии автобиографический очерк.
Между тем Николай Васильевич был первым членом «чайковщины», который довольно скоро разошелся с остальными и совсем вышел из организации: он, вместе с известным Маликовым и Фреем, увлекся фантастическим планом—основать в Сев.-Амер. Соед. Штатах свободную и проникнутую мистицизмом коммуну, для чего в начале 70-х годов уехал туда с названными и еще с несколькими другими лицами, а затем по возвращении на много десятилетий поселился в Лондоне. (Опять зловещий для России Лондон. Прим. Проф. Столешникова)
Мы уже знаем все те фазисы, которые проделали оставшиеся, на воле товарищи, как они перешли к печатанию за границей разных революционных брошюр, сказок и пр., как занимались пропагандой среди рабочих, затем пошли «в народ», после чего вскоре последовал разгром, от которого лишь очень немногим удалось спастись, почти все было разрушено не только в Петербурге, но и повсюду, где были хотя бы малейшие ячейки.
167
Из места своего заточения Натансон,—насколько это было возможно, путем переписки, а, иногда также и личных встреч с товарищами,—с напряженным вниманием следил за указанным ходом нашего революционного движения, которое явилось как неизбежное звено предшествовавшей культурно-просветительной деятельности. С тяжелым чувством узнавал он о гибели в неравной борьбе лучших своих друзей, из которых то один, то другой, попав в цепкие лапы царских тюремщиков, быстро расставался с жизнью вследствие болезни или от собственных рук.
По окончании трехлетнего срока ссылки Натансон в конце 1875 г. появился вновь в Петербурге. Как и повсюду в крупных городах России, там господствовало полное расстройство, вызванное разгромом. Лишь немногие уцелевшие от него «чайковцы» (Д. Клеменц, С. Кравчинскнй) эмигрировали за границу, другие попрятались в провинции, а иные совсем отстали от движения, убедившись, в слабости революционеров по сравнению с правительством. Повсюду заметно было уныние, разочарование, незнание, что делать.
(Это состояние у российских евреев продолжалось только до начала 1900 годов, когда в дело финансовой помощи российским евреям активно включился англоязычный Евреонал США и Англии и лично глава Евреонала Яков Шиффф из семьи Ротшильдов http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Schiff . Прим. Проф. Столешникова)
Никто не умел вдохнуть веру, восстановить» разбитые силы, внести бодрость, внушить надежду. Но что было но по силам другим, взял на себя Марк Натансон: он явился тем нужным человеком, который объединив разбредшиеся остатки, привлек новых сторонников и, таким образом, опять положил начало другой, новой организации, которая по своему размеру и значению не только не уступала, а в некоторых отношениях даже превосходила «чайковщину». С большой энергией и настойчивостью принялся Натансон за дело организации. Вскоре по выходе на волю он знал всех находившихся где-либо в глуши России или заграницей, как уцелевших от прежних разгромов, так и вновь народившихся адептов. С каждым из них он вступал в непосредственные сношения для чего, не зная отдыха, разъезжал по России и по Западной Европе. В значительной степени, в его предприятиях помогло ему одно благоприятное обстоятельство.
Давно известно, что «весь род людской чтит один кумир «священный», не исключаются из него и революционеры, так как без «тельца златого» невозможно осуществить никакого дела. Это Натансон, повидимому, усвоил с юных лет,
может быть, и о самого детства, в качестве купеческого сына. Освободившись из ссылки, он первым делом стал приискивать источник материальных средств. Недолго пришлось ему искать: они сами его нашли, так как в его распоряжение передал свое, относительно большое, состояние — около 200.000 рублей - Дмитрий Андреевич Лизогуб (Подробнее о нём я сообщил в „За полвека").
одним из первых присоединился он к Натансону, потому что верил в его организаторские способности.
Известно, что деньги имеют притягательную силу:
(А сколько Троцкий получил от банкира Якова Шиффа в Нью-Йорке? – Более миллиарда долларов на сегодняшние деньги! Подробнее в «Реабилитации не будет http://zarubezhom.com/antigulag.htm Прим. Проф. Столешникова)
Уже одно то обстоятельство, что Натансон сразу мог располагать большими материальными средствами,—независимо от личных его свойств, а также от переживаемого тогдашними революционерами состояния,—в сильной степени содействовало тому, что один за другим стали к нему присоединяться некоторые отдельные лица, а то и группы. Находившиеся в его распоряжении средства Лизогуба давали ему возможность самому затевать те или другие предприятия или помогать деньгами в осуществлении чужих планов. Из разных мест начали к нему обращаться со всевозможными проектами, предложениями.
Таким образом, Натансон быстро стал во главе многих революционных предприятий, затевавшихся в разных местностях. Он поэтому знал если не обо всем, то, во всяком случае, о многом и мог, в некотором смысле, руководить революционным движением.
Если ту или иную существовавшую где-либо в России или за границей группу лиц Натансон не мог почему-нибудь привлечь в задуманную им единую организацию, он все же не оставлял ее в покое, а старался вступить с нею в соглашение, договор на определенные акты.
Таким образом, Натансону удавалось связать между собою разные крупные группы и отдельных лиц, почему его прозвали «Иваном Калитой»—собирателем земли русской».
При знакомстве Натансон производил тогда довольно благоприятное впечатление, благодаря своей серьезности, положительности, вдумчивости. Он быстро схватывал и ориентировался в каждом новом плане и, видимо, охотно приходил на помощь для его осуществления находившимися в его распоряжении средствами, в чем я имел случай лично убедиться, когда мне со Стефановичем оказалась необходимой сравнительно большая сумма денег в несколько тысяч рублей—для известного заговора среди крестьян Чигиринского уезда.
169
Располагал он в свою пользу некоторых также и своим всезнанием: о ком и о чем, бывало, ни спросишь его из революционного мира, он почти о каждом мог довольно точно и подробно сообщить, где он, что делает и пр. Это была «ходячая революционная энциклопедия», как острили некоторые.
Предшествовавшая его появлению в том или другом городе слава о нем также не в малой степени способствовала тому, что при личных встречах он производил благоприятное впечатление. Содействовало этому еще то, что Натансон не высказывал никаких принципиальных разногласий. Он никогда не заводил теоретических разговоров; по крайней мере, с нами, тогда ярыми бакунистами. Мне ни разу также не приходилось от кого-либо слышать, чтобы он возражал кому-нибудь: он мирился «со всеми направлениями, со всеми существовавшими тогда фракциями, за исключением только «Ткачёвцев» или «якобинцев», потому, вероятно, что эта фракция была тогда ничтожна и все остальные направления крайне отрицательно к ней относились. Такая его терпимость объяснялась тем, что главной или вернее—единственной его целью было объединить воедино как можно больше групп и лиц. При этом он не был столь строг и требователен, какими являлись, как мы видели, «чайковцы»: он скорее напоминал гоголевского Осипа, придерживавшегося правила, что все, даже веревочка, в дороге пригодится. Натансон также полагал, что каждый, соглашающийся вступить в задуманную им организацию, пригодится на что-нибудь. Да и трудно было бы в ту пору общего развала быть разборчивым. Вот почему Натансон всякого подбирал. А в результате получилась довольно обширная по тому времени организация, хотя на первых порах в числе ее членов не было особенно крупных, выдающихся людей,— почти никого, которого можно было бы сравнить с перечисленными мною выше видными «чайковцами»; однако, постепенно, из этих, казавшихся средними, серыми, членов выработались стойкие, энергичные деятели, которые потом во многих отношениях не только не уступали, но, пожалуй, превосходили выдающихся «чайковцев». Достаточно назвать имена Квятковского, Попова, Баранникова, Осинского, Михайлова и др.
Кроме организации регулярной доставки выходивших за границей произведений Лаврова, Бакунина, журнала «Вперед» и т. п., одним из первых крупных предприятий, устроенных кружком Натансона, был увоз летом 1876 г. на рысаке из военного госпиталя содержавшегося там князя Кропоткина. Как известно, то было очень сложное, сопряженное с большим риском и значительными расходами дело. Другим, не менее крупным революционным фактом, происшедшим в том же году, явилась демонстрация на «Казанской площади», о которой я уже выше сообщил. Инициаторами ее также были «натансоновцы», из которых, однако, за исключением Боголюбова (Емельянова), никто не пострадал.
Но главное внимание созданной Натансоном «Северной Организации», как потом; стали некоторые называть его кружок, было сосредоточено на деятельности как среди городских рабочих, так в особенности между крестьянами в деревнях. Практика предшествовавших лет убедила уже многих тогдашних революционеров в том, что применявшиеся ими приемы пропаганды социализма среди трудящихся масс были нецелесообразны и приводили лишь к скорой гибели молодых сил. Поэтому, необходимо было найти иные приемы, чтобы деятельность революционеров оказалась более успешной. Они были вскоре затем открыты и, как известно, получили в России широкое распространение под именем «народничества». Честь теоретического обоснования этого направления принадлежала также членам кружка Натансона. Как известно, оно господствовало у нас почти вплоть до 90-х годов, когда свергнуто было марксистами; но в лице социалистов-революционеров это направление отчасти еще сохраняется и теперь.
Чтобы сблизиться с «натансоновцами» и в виду еще дру гих обстоятельств, я вместе со Стефановичем весной 1877 г. отправился из Киева в Петербург.
171
Там мы поселились в «конспиративной квартире» кружка Натансона, что дало нам возможность скорее и ближе сойтись с новыми для нас людьми.
За истекший тогда со времени освобождения Натансона из ссылки год с несколькими месяцами, как я имел возможность лично в этом убедиться, он успел создать довольно значительную организацию, в которую входили уже такие впоследствии прославившиеся лица, как Плеханов, Осинский, Баранников, Алекс. Михайлов, Зунделевич и др.
Самого Натансона мы не застали в Петербурге, но дух его витал над всеми. Чуть, бывало, заходила речь о чем-либо, требовавшем решения, как раздавалось: «вот приедет Марк» или «как Марк скажет», что очень напоминало некрасовских крестьян, возлагавших все упования на приезд «барина». Натансон, видимо, всецело господствовал, был безапелляционным вершителем и, очевидно, придавливал других своим авторитетом.
Когда в середине мая он вернулся из предпринятой им обширной поездки по многим городам, я имел возможность наблюдать его в кругу членов созданной им организации. Несмотря на то, что ему тогда было не более 27 лет, он своей внешностью и манерами производил впечатление человека пожилого, солидного, до того он всегда был серьезен, углублен в себя и занят был мыслями о деле. Очень редко мне случалось видеть на его лице улыбку, смеха же его я совсем не помню. Белокурый, с правильными чертами лица, Натансон являлся типичным интеллигентом и мало напоминал еврея. В его присутствии другие лица чувствовали себя стесненными. Впрочем, он редко оставался долго среди своих товарищей - сочленов созданной им организации.
Весь день был занят у Натансона всякого рода деловыми свиданиями в разных концах Петербурга; когда же поздно вечером он являлся на конспиративную- квартиру, то там, подобно тому, как у какого-нибудь важного начальника;— его уже ждало несколько человек. Только поздно ночью, освободившись от этих визитов, он садился за письменный стол, чтобы ответить на обширную корреспонденцию, получавшуюся из разных мест. А на рассвете он был уже на ногах и снова устремлялся по всяким делам.
Таким образом, Натансон вел чрезвычайно напряженную жизнь, что у многих вызывало недоумение, как может он в течение долгого времени выносить такой усиленный труд. Его энергия и никогда не оставлявшая его бодрость передавались другим членам организации, и они также много работали.
Поэтому, тогда уже не замечались ни упадок веры, ни апатия и т. п. Натансон сумел влить новую струю во всех, с которыми он приходил в соприкосновение. В воздухе начало чувствоваться скорое наступление сильного революционного под'ема. Но в начале июля того же 1877г. Марк Андреевич был однажды остановлен на Невском тайным агентом. Ударив этого шпика кулаком, Натансон бросился бежать, но был настигнут полицейским и арестован.
Как очень важный «преступник», давно усердно разыскиваемый жандармами, Натансон был помещен в Петропавловской крепости.
Почти целых три года он затем провел в предварительном заключении. Но, несмотря на все старания, жандармы и прокуроры никак: не могли найти данных, чтобы привлечь Натансона к суду, так как никаких явных улик против него у них не имелось. Им поневоле пришлось удовольствоваться административной высылкой его, но на этот раз его уже отправили (летом 1880 г.) в отдаленнейшие места Сибири.
Вновь был изъят, к тому же на очень многие годы, основатель крупной организации, когда она далеко еще не достигла полного развития. А заложенное им общество, так же, как и кружок «чайковцев», тоже продолжало далее расти и увеличиваться, и спустя полгода оно уже было в состоянии устроить под самым, так сказать, носом Третьего Отделения подпольную типографию, в которой начала печататься значительного объема газета «Земля и Воля». С ее выходом основанное Натансоном общество стало называться этим же именем. В мои задачи не входит излагать здесь дальнейшую судьбу общества «Земля и Воля»,—этого я ниже коснусь отчасти, сообщая о других евреях, членах названной организации.
173
Замечу только, что—как это было уже во время наиболее разносторонней деятельности «чайковцев»—Натансону вновь пришлось провести вдали и от землевольцев весь период наиболее кипучей, отчаянной их борьбы, сперва в течение трехлетнего предварительного его заключения: в крепости и разных тюрьмах, а затем в годы пребывания его в заброшенном в безлюдной Якутской области одиноком улусе.
Этой особенно злой игрой с ним судьбы следует объяснить тот факт, что, стоя в первых рядах при возникновении двух крупных организаций, Натансон был лишен возможности лично участвовать в дальнейших, еще более важных, сложных и шумных моментах их жизни. Поэтому же Натансон оба раза легко отделался в смысле наказания, но вместе с тем по этой же причине и имя его для многих, не посвященных в подробности, истории нашего революционного движения, не связано со знаменитыми, особенно блестящими эпохами конца 70-х и начала 80-х годов минувшего столетия.
Во время второй, повторяю, еще более продолжительной своей ссылки, Натансон также не попытался бежать из нее, хотя на это у него, вероятно, хватило бы уменья и энергии. Думаю, что не делал он этого потому, что считал наступивший в России, после убийства Александра II, режим крайне неблагоприятным для революционной деятельности.
В столь глухое время даже такой талантливый организатор, каким несомненно являлся Натансон, ничего существенного и важного не мог бы сделать. Вероятно, сознавая это, Натансон терпеливо выжидал наступления перемены режима. Целых десять лет, перенося всевозможные лишения и страдания, оставался этот энергичный человек без всякого сколько-нибудь полезного дела в разных глухих трущобах Восточной Сибири и в отдаленной Якутской области.
Только по прошествии тринадцати лет со времени второго ареста, Натансон в начале 1890 г., наконец, получил возможность вернуться в Россию, но без права проживать в столице. Он выбрал гор. Саратов.
Годы тюремного заключения и продолжительной ссылки, как и в первый раз, не убили в нем ни трудоспособности, ни настойчивости, ни уменья привлекать к себе людей, а вместе с этим и необходимые для дела материальные средства Лишь только Натансон осмотрелся на новом месте, как тотчас же вновь принялся за свое, излюбленное занятие,—за сплачивание разрозненных сил и за создание единой организации. Известно, что, после гибели в 80-х годах партии «Народная Воля» в России совсем исчезли какие-либо организации, и ему опять в третий раз пришлось создавать все сначала.
Хотя живя в Саратове, Натансон находился под строгим надзором полиции, тем не менее, он все же принялся за деятельность как среди представителей общества, так и молодежи. Объединив между собою наиболее подходившие элементы в некоторых крупных городах Поволжья—в Саратове, Самаре, Нижнем-Новгороде,—Натансон отправился в 1892 г. в Петербург. Там ему удалось привлечь некоторых из выдающихся русских писателей со знаменитым Н. Михайловским во главе. После этого он создал третью в своей жизни организацию, принявшую, как известно, название «Народное Право».
Как сам Натансон, так и некоторые из привлеченных им видных деятелей, принадлежали прежде к «народникам» или «народовольцам», т.-е. все же к русским социалистам, хотя и утопистам, тем не менее, члены «Народного Права» решили, в виду господствовавших тогда в России порядков, на время забыть, отказаться от социализма и устремить все свое внимание на завоевание элементарных политических прав, иначе говоря, добиться конституции. На требовании - политических свобод, полагали они, легче всего будет объединить всех без различия передовых людей России.
С этой целью Натансон с товарищами выработали программу, в которую, кроме требования представительного правления, вошли также свобода вероисповеданий, национальное самоопределение и т. д. В этом смысле вновь народившаяся партия «Народного Права» выпустила «манифест», в котором сообщала о своих задачах и стремлениях. Как и в прежние времена, Натансону опять удалось создать уже довольно значительную организацию, которая располагала деньгами, подпольной, типографией, связями и пр. Уже приступлено было также к выпуску тайного органа—«Народное- Право», и первый номер был почти совсем готов.
175
Но правительству вновь удалось разнюхать о предприятии Натансона, и весной 1894 г. начались в разных городах аресты, приведшие к полному разгрому не успевшей еще окрепнуть организации. Большинство членов партии «Народного Права», в том числе Натансон, были в административном порядке отправлены в Сибирь.
В какой сильной степени Натансон обладал способностью заводить крупные связи, может отчасти доказательством служить то, что при обыске у него нашли визитные карточки некоторых высокопоставленных лиц, с которыми он находился в хороших отношениях. (А вот это важно. Прим Столешникова) ) Когда же его отправили в Сибирь, то кто-то из важных сановников написал Иркутскому генерал-губернатору, чтобы он, по возможности, оказывал Натансону протекцию, не отправлял его в очень глухое местечко и т. п.
Действительно, на этот раз Натансон устроился совсем недурно: он получил место счетовода при строившейся кругом Байкала железной дороге с довольно большим окладом и пользовался там громадным весом и влиянием. Имя Натансона было известно в Сибири как «политического», имеющего крупное значение и играющего видную роль. Поэтому многие искали его помощи и протекции.
И все же то была жизнь в Сибири, а не в той сфере, которой с юных лет посвятил себя Натансон. Удовлетвориться такой деятельностью Натансон, конечно, не мог. Его не оставляла надежда на возможность широкой революционной борьбы в России.
Вновь целых восемь лет пришлось этому неутомимому деятелю пробыть в сибирской ссылке, и только в начале настоящего столетия Натансон опять, по окончании срока, возвратился в Россию, сперва на юг, в Баку, затем и в другие города. На этот раз ему уже не нужно было заново создавать организацию, так как существовала уже не одна, а целых две: социал-демократическая и социалистов-революционеров,—ему оставалось только выбрать между той и другой. По традициям, привычкам, связям и взглядам Натансону ближе были последние, и он без всяких колебаний вступил в их среду, где сразу занял очень видное положение в Центральном Комитете.
Политическое чутье обмануло убеленного сединой, чрезвычайно опытного и испытанного деятеля: партия социалистов-революционеров, по существу своему, является пережитком старого, докапиталистического строя России. Она, поэтому, не могла стать истинной выразительницей широкого, массового революционного движения. Как и во всех без исключения странах цивилизованного мира, передовым отрядом рабочего класса, наиболее сознательного и вместе наиболее всех других заинтересованного в радикальном изменении капиталистического строя, должна была стать социал-демократическая партия.
Оказавшись во главе социалистов-революционеров, Натансон, по присущей ему привычке, вновь задался целью объединить свою партию, с одной стороны, с социал-демократами, а с другой,— с либералами, «освобождениями», для чего, разъезжая по западно-европейским городам, он вел переговоры с разными вожаками.
Во время одного его посещения Плеханова с этой объединительной целью я с ним встретился весной 1905 г., т.-е. спустя около 30 лет после предыдущей нашей встречи в Петербурге весной 1876 г.
Передо мною находился совершенно белый старик, в котором я не мог бы узнать прежнего, молодого Натансона. И не только цвет волос на голове и лице изменился у него; он весь стал иным. Уже не бросалась в глаза прежняя его способность влиять и подчинять себе других; наоборот, чувствовалось нечто крайне антипатичное: заискивание, подобострастие, стремление подделаться, при этом замечалась неискренность, неправдивость.
Затеянные им с нами переговоры, как и можно было заранее предвидеть, ни к какому соглашений с социал-демократами не привели. Но с либералами Натансон о чем-то тогда договорился. Как вскоре затем обнаружилось, мы, социал-демократы, проявили большую дальновидность, не поддавшись на льстивые уговоры Натансона; рядом с ним, как оказалось, делами партии социалистов-революционеров руководил тогда и правительственный агент, известный провокатор Азеф.
В этом случае Натансону изменило не только чутье, но и чувство революционной порядочности: даже когда против этого низкого предателя имелось уже много улик, Натансон, заодно с Черновым, продолжал его отстаивать, не считая нужным разоблачить его, исходя из того маккиавелевского соображения, что Азеф, «работая» одновременно на два фронта, все же полезен и социалистам - революционерам.
Зимой 1909—1910 г. мы с ним в течение нескольких недель состояли арбитрами, выбранными партиями, к которым каждый из нас принадлежал, по делу изоблачения втершегося в нашу, социал-демократов, среду провокатора, зубного врача Батушанского.
Встречаясь довольно часто в ту зиму с Натансоном и обсуждая с ним возникавшие в связи с этим «процессом» обстоятельства, я имел немало случаев узнать, что он тогда собою представлял, и я должен был, с крайним огорчением, констатировать, что этот, прежде стоявший в первых рядах человек сильно опустился, измельчал, отстал. Натансон, правда, обнаруживал еще большую подвижность, но он шел уже не впереди, а позади общественного движения; не он вел других, а его вели за собою Чернов, Савинков и даже Азеф.
Прошло еще четыре года, и в разразившейся всемирной войне Натансон примкнул к циммервальдистам, а во время революции он вошел в ряды «левых эсеров». Очутившись в качестве делегата в Швейцарии, он скончался, кажется, в 1920 году.
Хотя со времени образования партии «Народное Право» Натансон в качестве политического деятеля, несомненно, начал двигаться не вперед уже, а назад, все же надо признать, что в семидесятых годах он сыграл одну из наиболее крупных ролей в русском революционном движении, и в истории этого периода имя его должно занять видное место; среди же евреев-революционеров той эпохи Натансон бесспорно был самым крупным деятелем.
178
ГЛАВА X.
ЗЕМЛЕВОЛЬЦЫ.
1. ИОСИФ АПТЕКМАН.
Ни Натансона, ни тем более Зунделевича нельзя причислять к истинным, подлинным «народникам», так как первый, как мы знаем, был довольно равнодушен к оттенкам социалистических направлений, а второй, как мы ниже увидим, относился резко отрицательно к деятельности среди крестьян. Но, кроме этих двух евреев, в число членов Северной организации, получившей затем название общества «Земля и Воля», входили еще два еврея—Иосиф Аптекман и Александр Хотинский, целиком придерживавшиеся народнических воззрений. От первого из них я получил 12 лет назад биографические сведения, которые привожу здесь целиком.
Дорогой Лев Григорьевич!
Родился я 18 марта 1850 г. в купеческой, довольно зажиточной семье, в гор. Павлограде, Екатеринославской губ. Род наш с отцовской стороны пользовался почетом среди евреев: много было в этом роду ученых талмудистов и знатоков еврейского закона. Дед мой (отец отца) считался праведником (цадиком) не столько за строгую приверженность его к еврейскому закону, сколько за жизнь его, исключительную по чистоте ее и благородству. Он дал сыновьям своим блестящее еврейское образование: все вышли отличными талмудистами. И, тем не менее, они, т.-е. старший брат моего отца и сам мой отец, выступили очень рано, в молодых своих еще годах, яркими сторонниками русского просвещения. (Теперь вы поняли, чьё это было просвещение на самом деле? Прим. Проф. Столешникова).
179
Отец мой отличался сильным умом и характером. Типичный самоучка. Когда и как научился он русскому языку, не знаю, но я с «самого раннего детства помню его за чтением, русской книги. Читал с жадностью все, что попадалось ему: романы, оригинальные русские, популярные книги по естествознанию, учебники разные и т. д. Ему, ему одному, мы обязаны тем, что принес русскую книгу в нашу семью, и привил нам, своим детям—сыновьям и дочерям,—охоту к чтению. Я рано пристрастился к чтению. В религиозны» вопросах отец отличался широкою терпимостью. Он учил нас, что не в фанатизме спасение, не в изуверстве—вера, а в живой любви к людям,—кто бы они ни были. Он был горячий сторонник Рабби Гиллеля и много рассказывал нам о нём, его учении и жизни. Запрещал нам называть иноверцев «гоями», а покойников их—«пейгерами». Все, де, люди от Адама, все, де, сыны божьи.
Пока мы были маленькими, отец выполнял все обычаи еврейского богослужения. Но, когда подросли, он эмансипировался совсем, предоставляя нам, сыновьям, полную свободу: кто хотел—молился, ходил в синагогу, исполнял обряды и т. д.
Когда я уже был в гимназии (в 1867—1868 г.г.), нашу семью можно было принять за неверующую. В такой атмосфере терпимости я уже мальчиком стал равнодушен к вопросам догмы, религии. А в гимназии стал ярым атеистом, горячо и открыто пропагандировал атеизм. Особенно Бокль утвердил меня в этом направлении.
До 12 лет я учился в хедере, проходил еврейские науки и талмуд. Последние отец считал полезными для дисциплины ума. Но я не полюбил талмуда, хотя учился, ради отца, хорошо. Сильно влекло меня, наоборот, к «русским» знаниям, и, уступая мне, отец отдал меня в Екатеринославскую гимназию.
В гимназии я учился и жил под влиянием идей шестидесятых годов. Моими учителями были: Чернышевский, Добролюбов и Писарев, Гоголь, Тургенев, Гончаров еще до гимназии совершенно овладели мною. Что касается дальнейшего моего умственного и социального развития, то оно совершалось под влиянием тех же общих объективных и субъективных идеологических моментов, какие были в те времена для всей учащейся молодежи. В частности же надо прибавить гнёт нашей национальности, к которому я с раннего детства болезненно - чувствительно относился и против которого протестовал, как умел. Мальчиком я мечтал стать. Бар-Кохбой (один из иудейских мессий, положивший свою голову в борьбе с римлянами).
Сам я, особенно в гимназии, бичевал наш гонимый народ за его исключительность и другие несимпатичные черты, но другим я этого не позволял. Но более специальные конкретные условия, подготовившие почву для социалистического моего утверждения, лежат несомненно в моей семье. Наша семья согласно и дружно жила с нашими соседями— русскими; русская прислуга годами жила у нас и полюбила нас (няня Аксинья и кучер Осип—лучшие мои друзья детства). Наконец, было одно семейное обстоятельство, поразившее нашу столь уважаемую в городе семью и покрывшее нас незабываемым унижением и горем, несмотря на нравственную поддержку, оказанную нам единоверцами и христианами. Я говорю о насилии, произведенном над моим отцом одним военным. Оно, к счастью, не было доведено до конца, но отец поседел за одну ночь.
Мне было тогда 8—9 лет. Я присутствовал при этом насилии. Я его не забыл,—не могу забыть. Я возненавидел, подрастая, а с тем вместе все более и, более осмысливая это насилие, всякий гнет и насилие вообще. Я думаю, что этот урок жизни больше всяких других уроков возымел своё действие. Индивидуально не могу назвать лица, которое утвердило мое социалистическое мировоззрение. Такого не было. Я самостоятельно развивался. Я всегда был склонен к критике и анализу. На веру ничего не принимал. «В народ», же ушел, социализмом проникся, как «благой вестью», призванной освободить все человечество. И научный социализм (и социал-демократия) и поныне остался для меня, субъективно и об'ективно, «благой вестью», хотя сам-то я активно не участвую теперь в его практике.
181
О ссылке и тюрьме не стоит вообще говорить. Скажу лишь, что я вернулся из ссылки окрепшим физически и морально. Думаю, что, не будь тюрьмы и ссылки, я бы не дожил до этого времени: завял бы, превратился в бросовый ошмёток. О «Народном Праве» найдете все существенное и, думаю, объективное в июльской или августовской книге. «Былое» за 1907 год. Неудачный и эфемерный это был революционный опыт.
В последний раз я был арестован в декабре 1905 г. Привлечен по 102 и 126 ст. Революционная волна докатилась и до Ново-Вилейска, в самую лечебницу, где я служил старшим ординатором. Массовки, речи, агитация среди соседних рабочих на фабриках и среди крестьян, организация профессиональных союзов, систематических чтений по социализму и проч., и проч., как и в других местах в России. Просидев в тюрьме 1/2 года, я выпущен был под залог и уехал за границу, где и поныне пребываю».
21, V 1913.
Дополню это краткое сообщение теми сведениями, которые мне удалось собрать из других источников.
Как в последних классах гимназии, так затем в Медико- Хирургической академии (Опять Медико-Хирургическая академия.) Аптекман, наряду с обязательными занятиями внимательно следил за ходом общественной жизни и мысли. В академии он являлся одним из наиболее образованных студентов. В виду этого, а также в виду условий его детства, вполне естественно, что, когда социалистаческая волна в начале 70-х годов захлестнула передовую молодежь, она не могла не задеть этого впечатлительного и развитого юношу. Поэтому, серьезный, вдумчивый Аптекман, будучи уже студентом чуть ли не последнего курса, подобно многим другим, бросил академию, чтобы немедленно понести в среду угнетенных масс проповедь нового евангелия. Он отправился «в народ», в качестве страстного, пламенного апостола учения о равенстве и счастье всего бедствующего человечества.
Все в этом молодом, крайне экзальтированном проповеднике соответствовало взятой им на себя тяжелой, сопряженной с большими лишениями и страданиями миссии.
Крайне физически истощенный, маленького роста, с бледным цветом лица, огромным выпуклым лбом и глубоко сидящими задумчивыми глазами, Иосиф, никогда не расстававшийся с евангелием, которое он превосходно знал, производил своими пылкими, страстными речами большое впечатление на слушателей, русских крестьян. Ему иногда удавалось приобретать последователей там, где это трудно была его товарищам: тщедушный, крохотный еврей был создан для роли проповедника.
Как я уже много раз повторял, вскоре оказалось, что путем лишь критики современного строя и изображения самыми яркими красками будущего социалистического строя, со ссылками на евангелие и без них, невозможно осуществить этого заманчивого рая: должны были бы пройти многие, многие десятки лет, пока таким страстным, убежденным проповедниками, каким был Иосиф, удалось бы превратить большинство забитых, невежественных и изнуренных чрезмерным трудом русских крестьян в сознательных сторонников нового строя.
(Какая трогательная забота о русских крестьянах, которых этими еврейскими «революционерами» с только с 1917 по 1923 год было геноцидировано более 30 миллионов человек, по докладу лорда Сидэнхэма в британской Палате Общин. Прим. Проф. Столешникова).
Между тем, как мы уже знаем, правительство усердно вылавливало этих вдохновенных проповедников и упрятывало их в разные казематы и в лютой Сибири.
Аптекман, несмотря на полную, как казалось, неприспособленность свою к жизни среди крестьян, вследствие физической слабости и неподходящей внешности, каким-то чудом спасся от ареста и, как ниже увидим, еще долго оставался на воле, переживая разные фазы нашего социалистического движения.
После первого потока «в народ», названного, как известно, «летучим» и закончившегося полным разгромом 1874— 1875 г.г., социалисты все же не отказались от непосредственной деятельности среди крестьян: они только изменили ее форму. I
Ввиду сохранившегося, главным образом у великорусских крестьян, общинного землевладения, а также артельных привычек и т.п. «устоев», нам, как известно, казалось, что в России может значительно раньше, чем где-либо в Западной Европе, произойти социалистический переворот, что наши крестьяне-общинники могут показать пример всем наиболее цивилизованным народам.
183
Известно, что этот взгляд на русский народ сложился у нас, социалистов, отчасти под влиянием консерваторов-славянофилов, которые были первыми, начавшими превозносить отсталые русские общественные отношения над западно-европейскими, а также вообще славян над другими народами, усматривая в некоторых присущих первым чертах характера залог их блестящего будущего.
(Видите, кто был первыми славянофилами? Собственно, они и сейчас вожди славянофилов? Прим. Проф. Столешникова)
Мы, народники, вслед за Бакуниным, искренно верили, что нередко происходившие среди крестьян до освобождений, их от крепостной зависимости бунты, которые правительство подавляло кровавыми расправами, служат неопровержимым доказательством присущей русскому народу склонности к протесту, к восстанию; иначе говоря, что по своей натуре наши крестьяне—бунтари, революционеры. Из этого апостол всемирного разрушения делал, как известно, тот вывод, что нет ничего легче в любой деревне и во всякое время вызвать восстание, бунт. Поэтому-то революционеры, признававшие первенствующую важность за русскими «устоями», и назывались «народниками». Отличие их от пропагандистов, о которых я уже сообщал, состояло в том, что «народники» считали совершенно излишней как устную, так и путем литературных произведений проповедь социалистических взглядов среди крестьян, в виду того, что у последних уже имеются зародыши коммунистических взглядов, унаследованные от предков.
(Вечный еврейский спор, как лучше управлять гоями. Прим. Проф. Столешникова)
Казалось, что народникам остается только умело использовать свое пребывание среди крестьян для ускорения момента наступления полного торжества издревле хранящегося у последних стремления к коммунальному строю. Поэтому народники признали необходимым, вместо кратковременного, летучего посещения сел и деревень, поселяться прочно там на продолжительное время или, как мы тогда выражались, «устраивать, среди народа поселения».
Из всех таких кружков наиболее значительные, прочные и солидные поселения были основаны созданной Натансоном Северной организацией, на русских исторических реках, где некогда подвизались «первые русские народные. протестанты-революционеры»—Степан Разин и Емельян Пугачев—на Волге, Урале, Дону. Число евреев, примкнувших к «народникам», было еще
менее значительно, чем количество их, входившее в пропагандистское направление. Иосиф Аптекман, а также Александр Хотинский были чуть ли не первыми, к тому же и единственными, вошедшими в народническую организацию. Поселившись в народе, члены «Северного Общества» (или землевольцы, что одно и то же) поступали на должности сельских или волостных писарей, учителей, фельдшеров,
(Вот кто, оказывается, были русские писари, учителя, фельдшеры, вся сельская интеллигенция. Прим. Проф. Столешникова), чтобы, живя постоянно среди народа, содействовать непосредственно осуществлению его желаний и стремлений.
(Желаний народа, или, всё таки, своих желаний? Прим. Проф. Столешникова).
Как бывший студент-медик, Аптекман получил должность фельдшера в каком-то селе одной из Волжских губерний. В этой роли он был вполне на своем месте. Мягкий, нежный от природы, любовно относящийся ко всем обездоленным, Аптекман, в качестве фельдшера, всем внушал к себе расположение, симпатию. Он настолько пользовался доверием крестьян, что мог вполне свободно развивать среди них свои социалистические воззрения, не боясь измены с чьей-либо стороны. Если мы примем во внимание уже не раз упомянутую тщедушную фигуру Аптекмана с резко выраженными национальными чертами лица и типично-еврейскими манерами, жестикуляцией и пр., то нужно признать у него внутреннюю, моральную силу, благодаря которой ему удавалось приобретать хотя бы некоторое влияние на темную крестьянскую массу. Аптекман как бы отрешился от всего земного, материального, посвятив себя всецело интересам окружавших его крестьян: им он отдавал не только все свое время, знания и свои слабые физические силы, но и всю свою любящую, отзывчивую душу.
Для обездоленных, темных, полных всевозможными предрассудками и суевериями крестьян Иосиф был способен пойти на большие жертвы и страдания. Ничто не могло отклонить его от тяжелого, усеянного всякими бедствиями пути, по которому он решил пойти, никакие мучения, угрожавшие ему впереди, не страшили его. Он жил одной мечтой, одним стремлением—помочь несчастным вечным труженикам выбиться из каторжной их жизни на широкую вольную дорогу. Приходившие с ним в соприкосновение крестьяне с течением времени оценили добрую душу его, искренно полюбили своего маленького «фершала» и, в свою, очередь, готовы были оказать ему любую услугу.
185
Так мирно, тихо прожил с ними Аптекман, кажется, года полтора в селе,—срок для тех времен очень большой, так как обыкновенно через месяц—два, а то и раньше, вновь поселявшийся среди крестьян интеллигент то тем, то другим возбуждал против себя подозрение, после чего подвергался аресту. Аптекман же, чем дальше, тем все больше внушал к себе любовь и доверие: имя его становилось все более популярным среди окрестных крестьян.
Неизвестно, чем закончилось бы это его плодотворное влияние на население, но покушение А. Соловьева на царя (14 апр. 1879 г.) положило конец пребыванию. Аптекмана на Волге, так как оказалось, что стрелявший в Александра II молодой человек незадолго пред тем занимал должность волостного писаря в одном из «поселений» на Волге. Поэтому, вследствие предпринятых жандармами розысков, всем лицам, находившимся в «поселениях», пришлось из предосторожности покинуть насиженные ими места и скрыться.
В их числе находился, кажется, также Аптекман. Ему нелегко было расставаться с мужиками и бабами, с которыми юн так сжился, так к ним привязался, и, в свою очередь, они к нему.
Из своей полезной, трудовой жизни в деревне, где все Аптекману было мило и дорого, революционная волна выбросила его вновь в шумную, полную всяких треволнений, забот и споров столицу: тогда-то, главным образом под влиянием произведенного Соловьевым покушения на царя, и начались уже упомянутые мною выше крупные разногласия среди членов общества «Земля и Воля», которые вскоре затем привели к расколу последнего и к образованию двух организаций.
Добродушный Иосиф, любивший тогда всех людей вообще, а товарищей в особенности, попал меж двух огней: став на одну сторону, он огорчил бы другую, чего ему, вновь прибывшему из совсем другой среды, вовсе не хотелось. Как человек, проведший довольно продолжительное время среди народа и полюбивший свою там деятельность, он не мог не признать, что террористические акты мешают «народнической деятельности», отвлекая от нее силы и средства и вынуждая покидать вдруг «поселения», как это, мы видим, произошло после покушения, произведенного Соловьевым. С другой стороны, не пережив сам предшествовавшего периода в городах и питая любовь и уважение к товарищам, занимавшимся террором, он не мог поверить чтобы они сознательно изменяли народнической программе. Но Иосиф, являвшийся любимцем обоих направлений, все же примкнул к так называемым «деревенщикам», т.-е. к нам, отстаивавшим необходимость, оставив террор, продолжать деятельность среди крестьян. Когда же состоялось распадение «Земли и Воли», Аптекман вступил в Черный Передел».
Мое знакомство с Аптекманом произошло осенью 1879 г., вскоре после моего возвращения в Петербург из Швейцарии, куда я уехал за год перед тем. Среди членов общества «Земля и Воля», в которое и я по возвращении вступил, шли уже не раз упомянутые мною споры о терроре и деятельности в народе. «Деревенщина», к которой и я тогда принадлежал, горячо доказывала сторонникам «террора», что избранный ими способ революционной деятельности безусловно вреден, гибелен для народных интересов, так как может привести к полному исчезновению всех активных лиц и к наступлению в стране сильной и продолжительной реакции, что, как известно, вскоре затем вполне оправдалось. С другой стороны, члены «Земли и Воли», отстаивавшие необходимость заниматься террором, доказывали «деревенщикам», что их пребывание среди крестьян совершенно бесполезно, так как от этого и через много десятилетий не произойдет в России социалистической революции.
В квартирах, в которых происходили эти словесные стычки, стоял обычный в таких случаях галдеж, во время которого трудно было что-либо разобрать.
Пришедший в первый раз на такое кружковое собрание, я не сразу заметил худощавого, крошечного роста человека, лет 28—30, сидевшего несколько поодаль и что-то негромко говорившего своему соседу. Оказалось, что то был «Иоська», как некоторые товарищи называли Аптекмана. Но, раз увидев его, невозможно было не остановить на нем внимания.
187
Сразу бросились в глаза черты его лица и манеры. Из беседы с ним выносилось хорошее впечатление: чувствовалась искренность и задушевность у этого маленького человека. К отличительным свойствам «Иоськи» принадлежали его любознательность, большой интерес к книгам, теоретическим вопросам. Ввиду его начитанности, Плеханов настаивал, чтобы он взялся за перо и стал сотрудником вновь возникшего тогда органа «Черный Передел». Но до этого никогда не печатавшийся скромный Аптекман сперва, отклонял это предложение и уступил лишь после настоятельных просьб товарищей.
Написанная им затем для первого номера названного органа большая статья, озаглавленная «К старым товарищам», вполне подтвердила верность составившегося у «Жоржа» и у других о нем мнения. Статья эта с известным эпиграфом об истине, которая выше Платона, в свое время обратила на себя общее внимание как своим содержанием, так и теплым, задушевным, вполне товарищеским тоном обращения к недавним нашим сочленам, выделившимся в новую, террористическую организацию, назвавшуюся партией «Народная Воля». Подобно устным своим беседам, так и в этом печатном произведении Аптекман излагал свои мысли ясно, вдумчиво, обращаясь к лицам, несогласным с нами, не как к врагам, а только ошибающимся, заблуждающимся товарищам. И, несмотря на протекшие со времени появления этой статьи 40 с чем-то лет, обозреватели нашего революционного прошлого не проходят мимо нее без похвал.. Единственно было предположить, что из Аптекмана выработается хороший публицист, но, к сожалению, вследствие сложившихся потом, неблагоприятных для него условий, эти ожидания не осуществились; таким образом, указанная первая его статья, насколько мне известно, осталась его единственной; впоследствии, на склоне лет, Аптекман не без успеха начал делиться в печати своими воспоминаниями, о чем скажу ниже.
Как известно, после упомянутого мною взрыва царского поезда под Москвой, тайная полиция начала особенно усердствовать; поэтому некоторыми из «деревенщиков»—Засулич, Плеханову, Стефановичу и мне,—давно усиленно разыскиваемым агентами 'Третьего Отделения, угрожала опасность быть арестованными. Аптекман был первым из наших товарищей, начавшим энергично настаивать на том, чтобы мы, выше названные, снова отправились за границу: «Уезжайте, иначе вас арестуют, и вы погибнете ни за грош»,—доказывал он. К этому совету его присоединились и другие члены нашей организации.
С крайней неохотой мы подчинились этому решению, но потом я и другие были признательны Аптекману, так как он оказался прозорливым: вскоре после нашего отъезда, за небольшим исключением, все члены «Черного Передела» были арестованы. В их числе был также и Иосиф.
Нетрудно представить себе, сколь тяжелым должно было оказаться одиночное тюремное заключение для впечатлительного, нервного и слабосильного Аптекмана. Его живой, подвижной характер, всегда искавший деятельности, не мог мириться с тяжелым режимом. Вместо необходимого обмена мыслями; с другими, ему месяцами приходилось, не слыша человеческого голоса, оставаться со своими мрачными думами опасениями за судьбу близких, любимых им товарищей. Не удивительно поэтому, что нервы его в сильной степени расшатались,—он не далек был от помешательства и не раз обдумывал способ, как покончить с собой.
Но судьба и на этот раз оказалась к нему очень милостивой: после двадцатимесячного заключения, Аптекман не был даже привлечен к суду над арестованными одновременно с ним «чернопередельцами», а отправлен административно в Якутскую, область на три года.
Жизнь, не только в одном наслеге, но и в одной юрте с Короленко и Натансоном была подробно им самим описана в его записках. Напомню лишь о приведенном выше замечании его по поводу влияния пребывания в ссылке, откуда он вернулся, «окрепши физически и морально».
Как известно, Александр III, с момента вступления на престол, стремился повернуть вспять колесо истории. То был наиболее мрачный период во второй половине минувшего столетия. В стране настала тишина кладбища,—все замерло.
189
Аптекман не мог переносить господствовавшего состояния. Пожив по возвращении на родину короткое время в кругу горячо любивших его родственников, он вскоре затем отправился за границу, с тем, чтобы, закончив там медицинские курсы, вернуться обратно в Россию: это он считал нужным в виду составившегося у него, сообща с Натансоном, Тютчевым
(Кстати о настоящей крови поэта Тютчева. Прим. Стол)
и другими товарищами по ссылке, плана создать в России тайную организацию для завоевания политических свобод.
Очутившись за границей, он съездил в Швейцарию, чтобы повидаться со своими старыми товарищами, бывшими членами «Черного Передела»,—Плехановым, Засулич, Аксельродом, которые, как известно, задолго до встречи с ним, отказались от народничества и стали решительными последователями Маркса и Энгельса. На этой почве между старыми приятелями возникли, горячие споры: Аптекман за годы тюрьмы и ссылки, не только не отказался от прежних воззрений, но еще более в них укрепился. Поэтому все новое, услышанное им от Плеханова и его товарищей, ему казалось неверным», неприменимым в России, надуманным долгим пребыванием вдали от нее. Однако, в конце концов, доводы Плеханова и остальных убедили Аптекмана в правоте марксизма, и он также примкнул к числу его последователей, надо, однако, заметить, что марксистом он стал не настоящим, так как вскоре затем примкнул к основанной Натансоном конституционной группе «Народное Право».
Медицину он стал изучать в Вене, откуда по окончания курса со званием доктора медицины вернулся в Россию.
Считая, что наступило «тихое время», в котором никакая революционная деятельность невозможна,—хотя в действительности было далеко не так,—Аптекман погрузился в свою специальность. В нем, повидимому, с юных лет заложена §ыла способность находить ключ ко всякому человеческому сердцу, что и делало его умелым проповедником. Эта же черта сослужила Аптекману большую службу, когда он стал врачом: своей специальностью он выбрал психиатрию. Этот маленький, слабенький человек, который, казалось, от дуновения или щелчка должен был лететь кувырком, умел, по его рассказам, усмирять неукротимых больных, с которыми не могли справиться служителя его лечебницы. Между прочим, на его попечении находился Глеб Иванович Успенский, о чем Аптекман подробно рассказал на страницах «Современного Мира» и в вышедшей затем отдельной брошюре.
Как мы уже знаем из сообщения самого Аптекмана в 1905—1906 г.г. «революционная волна докатилась и до Ново-Вилейска,—в самую лечебницу душевно-больных», где он состоял старшим ординатором. После этого пошли «массовки, агитация среди рабочих соседних фабрик и среди крестьян, организация профессиональных союзов, систематические чтения по социализму и пр., и пр.,—как и в других местах России».
О «преступной деятельности» старшего ординатора вскоре дошло до бдительного начальства, и он вновь очутился в тюрьме. От угрожавшего ему тяжкого наказания вновь спасла его, очевидно, счастливая звезда, под которой он, надо полагать, родился: собралась Первая Государственная Дума, появилась надежда на торжество права и справедливости в полу-варварской стране; поэтому царские тюремщики согласились, чтобы, старый, расхворавшийся в тюрьме врач был до суда выпущен на поруки под большой залог. Хороший знакомый Аптекмана внес эту сумму, а также дал ему возможность отправиться за границу для поправления расшатавшегося здоровья.
Зимой 1906 г. после побега из Сибири я вновь очутился за границей. Для свидания со старыми друзьями Плехановыми я отправился весной следующего года в г. Нерви (на сев. Италии), где в первые дни моего туда приезда встретил у последних очень подвижного, совершенно белого старичка с таким же светящимся лбом, какой был у Аптекмана. Конечно, это оказался «маленький Иоська», лишь сильно состарившийся, так как со времени нашей с ним разлуки прошло всего только двадцать семь лет, и протекшее время наложило, на него, как и на меня, конечно, свою печать.
Пожив некоторое время на Ривьере с очень больной женой, Аптекман переехал с ней в Швейцарию, где я также вскоре затем очутился, и мы вновь встречались. Там образованный, старый врач, не скопивший, однако, ни гроша про черный день, будучи выброшен революционной волной в эмиграцию, вместе с неизлечимо больной женой, терпел большие материальные лишения и боролся с страшной нуждой. Ради жены Аптекман жил долго в Кларане, откуда изредка посылал в русские журналы свои воспоминания, о которых скажу здесь несколько слов.
191
Мемуары Аптекмана, в общем, не лишены интереса, но также и крупных ошибок. Они касаются исключительно народнического периода нашего революционного движения,— общества «Земля и Воля», его пребывания в ссылке и лиц, с которыми: он встречался, а последнее время—отчасти и «Черного Передела». Эти новые его заметки, как я и другие показали, полны извращений, несправедливых нареканий на своих прежних товарищей и, наоборот, чрезмерных возвеличений народовольцев. Кроме того, все его писания страдают любовью к вычурному, аффектированному стилю, имеющему неприятно слащавый привкус. В качестве исторических документов воспоминания Аптекмана можно принимать только cum grano salis.
Вновь прошло десять лет, в течение которых мы жили в разных полушариях—я в Сев.-Амер. Соед. Штатах, а он— все в том же небольшом курорте над Женевским озером.
Разразившаяся затем всемирная война разместила нас в противоположных лагерях: Аптекман примкнул к Циммервальдиетам, я стал оборонцем. Лишь года два спустя после торжества февральской революции я встретился с Аптекманом в государственном революционном архиве, где я стал работать над изучением материалов, хранившихся в бывших Третьем Отделении и Департаменте Госуд. полиции. Аптекман, оставив свою психиатрическую лечебницу, где он раньше состоял ординатором, также решил заняться изучением архивных документов. При этом, несмотря на свой очень преклонный возраст—ему уже 75 лет—и переживаемые тяжелые внешние условия, проявлял значительную трудоспособность, настойчивость и выносливость. Но рядом с этим,—должен скрепя: сердце сказать,—нрав его неимоверно изменился в худшую сторону: это уже не прежний отзывчивый, гуманный, справедливый пропагандист, а брюзжащий, раздражительный, несправедливый старец. В политическом отношении Аптекман склоняется к большевикам; активного участия он не принимает ни в чем.
2. АЛЕКСАНДР ХОТИНСКИЙ
Третьим евреем, членом общества «Земля и Воля», кроме Зунделевича и Аптекмана, был Александр Хотинский. Он родился в 1852 г. в довольно зажиточной купеческой семье в гор. Мелитополе и с детства проявлял выдающиеся способности, в особенности к математике. Окончив симферопольскую гимназию с золотой медалью, Хотинский отправился в Петербург, где поступил в Медико-хирургическую академию. (Опять Медико-Хирургическая Академия. П.С.) Замкнутый, сосредоточенный в себе, молчаливый, Хотинский туго сходился с товарищами и почти не принимал участия в общих студенческих вопросах и предприятиях. Только с одним единственным однокурсником он сблизился и подружился,—с Осипом Аптекманом, хотя,—как, впрочем, это часто бывает,—они представляли противоположные типы: насколько Аптекман был сангвиничным, экспансивным, увлекающимся, настолько же Хотинский был сдержан, спокоен и хладнокровен.
Общее альтруистическое настроение, охватившее значительную часть тогдашней передовой молодежи, коснулось также этого, по внешности, уравновешенного, положительного, как казалось, неспособного поддаться никаким идеалистическим увлечениям, усердного и трудолюбивого студента. Ему, несомненно, предстояла видная ученая карьера, но, будучи на четвергом курсе, он, подобно многим тогда, бросив медицинскую академию, отправился «в народ». Этот его поступок может отчасти служить доказательством необыкновенного подъема, силы влияния социалистических идей, впервые тогда распространившихся среди лучшей части русской и еврейской молодежи: если такие положительные, уравновешенные студенты старшего курса, как Хотинский, могли целиком отдаться новому социалистическому движению, значит, в нем, действительно, заключалась особенная притягательная сила, одинаково охватывавшая людей, обладавших разными темпераментами и характерами.
Теперь решительна не могу припомнить его собственных рассказов о деятельности его в народе. Знаю лишь, что сообща с несколькими товарищами-христианами Хотинский работал в качестве крестьянина на хуторе своего брата, в Бердянском уезде, где он, как и другие, приучался предварительно к тяжелому труду хлебопашца.
Выше мне уже пришлось сообщить, что по тогдашним нашим представлениям пропагандисты должны были во всем сравняться с трудящейся крестьянской массой. Результаты «хождения в народ» Хотинского в качестве крестьянина были в общем столь же мало продуктивны, как и у большинства остальных из нас: кое в ком из крестьян, с которыми ему случалось вступать в беседы, он, вероятно, заронил ту или иную новую мысль, но это было далеко не то, на что он, как и все мы, рассчитывал, отправляясь на великий подвиг, в качестве проповедника нового учения.
Как мы уже знаем, если не всем, то все же многим пропагандистам казалось, что стоит только раскрыть крестьянам глаза на современный строй, т.-е. познакомить их с причинами господствующих всюду на земле несправедливостей, неравенства и возмутительной эксплоатации большинства человечества ничтожным меньшинством, а также с магическим средством все это изменить, превратив землю и орудия производства в общую собственность,—как трудящиеся, подобно нам, интеллигентской молодежи, станут ярыми последователями нового для них евангелия. Но, убедившись затем, наоборот, что крестьяне, в общем, довольно равнодушны к открываемым нами им великим истинам, что они не только не приходят от них в неописуемый восторг, как мы по своей наивности воображали, а подчас не прочь и выдать нас начальству, многие из недавних безграничных идеалистов довольно скоро превратились в столь же отчаянных пессимистов, скептиков и отрицателей пользы социалистической проповеди в среде земледельцев. Не из этого разряда деятелей был Хотинский, раз став сторонником известного направления, он держался его до конца, и нужны были, как мы увидим, особенные, исключительные обстоятельства, чтобы Хотинский отказался от избранного им пути.
Среди нас, революционеров семидесятых годов, как известно, в особенно сильной степени распространены были товарищеские чувства. Это станет вполне понятным, когда вспомним об охватившем пропагандистов необыкновенно повышенном настроении и энтузиазме в виду казавшегося нам столь близким наступления новой эры для всего человечества. За товарища каждый всегда готов был положить душу свою, что мы уже видели на несчастной Бетти Каменской. Само собой разумеется, что имевшееся у кого-либо имущество считалось общим достоянием всех членов данного кружка. Никто не заботился ни о чем личном, материальном. Иллюстрацией тогдашних наших товарищеских отношений может, мне кажется, служить следующее. Если, положим, кому-нибудь из революционеров хотелось проехать, например, из Одессы в Петербург, на что у него не было средств, то он у любого товарища брал несколько рублей на билет до ближайшего города. Там товарищи его снова снабжали деньгами до следующего большого города и т. д. Таким образом, без собственных денег, а также и вещей, он, в чем был, мог совершать длиннейшие путешествия, всюду встречая радушный прием, получая квартиру, пищу, белье и пр., словно он переезжал от одних близких родственников к другим, хотя часто лишь впервые видел этих «родственников». Так было решительно во всем.
(Это важно, так показывает, что еврейские тайные организации опутали не только «36 губерний» а всю страну. Прим. Проф. Столешникова).
Легко после этого представить себе, какую готовность притти на помощь товарищу вызывали те случаи, когда кто-нибудь попадал в беду, когда происходили аресты, отправляли, в ссылку, на каторгу. Ни перед какими жертвами и риском в таких случаях мы не останавливались и нередко сами попадали в руки жандармов при намерении освободить другого. В одной такой попытке, немало нашумевшей в то время, принял деятельное участие и Александр Хотинский.
Это было весной 1878 г. Хотинский давно уже состоял тогда членом общества «Земля и Воля». В Петербурге арестовали одного из немногих тогда дельных и развитых рабочих—Преснякова. Товарищи на воле знали, что его из тюрьмы должны были повести на допрос в жандармское управление. Хотинскому, приехавшему тогда на время по делу в Петербург, пришла мысль освободить Преснякова, о чем он и сообщил товарищам-«землевольцам». План его состоял в том, чтобы вблизи жандармского управления находилась лошадь, запряженная в кабриолет, в который Пресняков легко мог бы вскочить.
195
Принадлежавший обществу «Земля и Воля» знаменитый рысак «Варвар», на котором уже был совершен увоз П. Кропоткина, был предоставлен в распоряжение Хотинского. Роль кучера охотно согласился взять на себя известный А. Квятковский. Разработав сообща план освобождения, о чем заранее было сообщено Преснякову, Хотинский уселся в кабриолете в качестве «барина» и направился к зданию жандармского управления. Возвращавшийся с допроса Пресняков бросился по направлению к стоявшему у подъезда экипажу, но едва успел он вскочить на его подножку, как один из настигших жандармов уцепился за него, стараясь сдернуть его. Тогда отличавшийся довольно большой физической силой Хотинский в свою очередь обхватил Преснякова, а кучер в это время погнал рысака. Таким образом из рук цербера была спасена одна жертва.
Напомню, что через два года Квятковский и Пресняков были повешены по процессу 16-ти. Хотинский же не только на этот раз остался невредим, но судьба его и в дальнейшем берегла: несмотря на участие в столь отважных попытках, как только что описанная, он ни разу даже не был арестован.
Я впервые встретился о Хотинским в упомянутое же лето. Глядя на его чрезвычайно скромную наружность, с трудом верилось, что этот молчаливый молодой человек скрывает в себе столько холодной отваги, выдержки и настойчивости. Товарищи - землевольцы хвалили его, как хорошего «народника»; мне же самому в виду его замкнутости не удалось тогда его узнать. К тому же он скоро после нашего знакомства отправился в одно из упомянутых уже мною поселений земледельцев, а я уехал за границу, и мы надолго расстались. Как и Аптекман, Хотинский в качестве студента - медика последнего курса занял должность фельдшера в какой-то деревне Саратовской губернии, где пробыл два с чем-то года.
Не много могу теперь вспомнить об этом периоде его деятельности, да она ничем особенным не была отмечена так как была очень проста и однообразна. Леча и исполняя все обязанности, связанные с должностью, Хотинский, подобно Аптекману, также пользовался всяким случаем, чтобы делиться с крестьянами своими взглядами насчет современного несправедливого строя. Это была скорее культурная, чем революционная деятельность. Все же она приносила свою долю пользы тем лицам, с которыми ему приходилось сталкиваться. При солидной внешности Хотинского, ровном и серьезном его характере, разговоры его приобретали в глазах слушателей особенно большой вес. Крестьяне охотно приходили побеседовать с ним, они также обращались к нему за решениями разных местных вопросов и споров. Хотинский не возбудил против себя подозрения со стороны полиций и продолжал год за годом спокойно пребывать на опасном по тем временам посту, в качестве фельдшера из революционных народников. То тот, то другой из его товарищей, вследствие розысков полиции, а то и наступившего у него разочарования, покидал «поселение» и перекочевывал в центры, где жизнь била тогда ключом. Один только А. Хотинский оставался неизменно на своем посту. В обществе «Земля и Воля» произошли крупные разногласия; для разбора, их созван был съезд в Воронеже,
(Евреи запросто собирают собственные «съезды», вернее «малины», в чужой стране. Прим. Проф. Столешникова)
—даже ради этого исключительного события Хотинский не оставил своего поста в деревне. Произошло, наконец, распадение общества «Земля и Воля» на «Народную Волю» и «Черный Передел»; поднялась отчаянная, невиданная никогда в истории борьба кучки революционеров с всесильным русским царем,—борьба, заставлявшая: правительство напрячь вое свой силы; введены были повсюду генерал-губернаторы, в деревнях завели урядников. Жизнь в «поселениях» стала совершенно невозможной,—решительно все товарищи покинули деревню: Хотинский остался там единственным. Наконец, мы, его товарищи, члены «Черного Предела»,
(А между прочим в школах детей учат подразумевая, что все эти «Народные Воли» и «Чёрный Передел и др., - всё это, дескать, организации гойские. Прим. Проф. Столешникова).
к которому он также присоединился, стали письменно убеждать его, что не имеет более смысла оставаться в деревне, когда все ее покинули. Только тогда Хотинский уехал. Таким образом, насколько мне известно, он явился последним народником, которого к тому же другие побудили оставить народ и отправиться за границу, где и я находился. Это было в конце 1880 г. В те времена жизнь в изгнании имела много общего с пребыванием в ссылке.
197
Эмигранты также жили со дня на день, занятые исключительно интересами России,—ее прошлым, настоящим и предположениями о ее будущем. Встречаясь ежедневно у себя на квартирах за «чаем», или в каком-нибудь дешевом ресторане, мы вели бесконечные разговоры и споры о скорейших способах превращения варварской России в совершеннейший строй.
(Совершеннейший для них – для евреев, строй. Прим. Проф. Столешникова)
При огромном досуге, имевшемся у нас, была полная возможность хорошо узнавать друг-друга. Я, между прочим, довольно близко сошелся там с Александром Хотинский.
Но не долго был он способен вести жизнь богемы, без дела, лишь в ожидании крупных событий на родине. Довольно скоро по приезде в Швейцарию Александр решил поступить в какой-нибудь университет, чтобы получить докторский диплом: как бывшему студенту одного из последних курсов ему для этого нужно было заниматься, кажется, всего в течение 2 семестров. Я и другие одобрили его намерение, и из Женевы он отправился для этого в Берн.
Чрезвычайно способный, педантически аккуратный, трудолюбивый и настойчивый, Хотинский прекрасно занимался и делал быстрые успехи в предметах, преподававшихся на новом для него языке. Мы лишь изредка виделись, но часто переписывались. Год с чем-то спустя наступили окончательные экзамены. Он блестяще сдавал их. Остался только один какой-то предмет. В этот день он чувствовал себя несколько не по себе, но последний экзамен прошел так же блестяще, как и все предыдущие.
Вскоре после этого мы свиделись, но вместо радости я увидел на лице его выражение глубокой печали.
— Поздравляю вас, Александр,—сказал я.
— С чем?—спросил он с грустью.
— Как, вы разве не рады?—удивился я.—Да что с вами?
— Случилась большая неприятность,—с грустью произнес он, и мне невольно вспомнилась эта же фраза, произнесенная им однажды тем же тоном по другому случаю, но не заключавшая в себе ничего особенно неприятного.
— Какая?—спросил я, поэтому, улыбаясь.
— Вы уже знаете, что я получил диплом...
— Полагаю, что не в этом же «случившаяся неприятность»?—продолжал я шутить.
— Конечно, не в этом,—ответил он.—Но вы, вероятно, еще не знаете, что я сделал предложение Вере Григорьевне?
— Нет, не знал, но догадывался, что это рано или поздно должно было случиться. Так что же, вы отвергнуты?
— Наоборот,—мы теперь уже сошлись.
— Поздравляю. Рад за вас вдвойне, Александр: Вера Григорьевна славная девушка—вы будете счастливы. Но, позвольте: в чем же тут «большая неприятность»? У вас, наоборот, два счастливых события одновременно.
— А вот третье неприятное событие уничтожает радостное чувство, вызываемое двумя первыми,—заявил он вновь с грустью.
— Да в чем дело? Как вы любите тянуть и мучить, Александр!
— В день последнего экзамена,—продолжал он по обыкновению медленно, растягивая слова,—я почувствовал лихорадочное состояние, но не придал этому значения. По окончании я ежедневно гулял с Верой и все чаще чувствовал себя не совсем хорошо. Наконец, я решил отправиться к своему профессору, специалисту по внутренним болезням. Очень внимательно выслушав меня и расспросив обо всем, он сказал: «мне незачем скрывать от вас, коллега,—у вас начался легочный процесс». Видите, дело скверно,—закончил Хотинский с грустью.
Я стал утешать его, доказывая, что при благоприятных условиях, с этой болезнью многие долго живут. Я высказал уверенность, что полюбившая его девушка-студентка, которую я довольно хорошо знал, постарается создать для него наилучшую обстановку.
Не помню, насколько мне тогда удалось его успокоить,, но в душе я но мог не сознавать, что на этот раз, действительно, произошла «большая неприятность» у Хотинского. Судьба сыграла с ним злую шутку. Сближение с Верой Григорьевной являлось чуть ли не первым его «романом», между тем ему было уже лет под тридцать, и особенной красотой он не отличался. Девушка же, которая, повидимому, чувствовала к нему большую симпатию, была очень привлекательна: недурная собой, умная, с добрым сердцем, она отличалась настойчивым и самостоятельным характером. Оставалось только радоваться этому союзу. И вот, когда мелькнул луч счастья, вместе с ним явилась и зловещая угроза. Было от чего впасть в мрачное уныние.
199
Наступило жаркое лето 1882 г. Лечивший Хотинского профессор посоветовал ему отправиться в горы. Вместе с молодой женой он поселился в чудной местности вблизи известного в Швейцарии Интерлакена.
Вскоре затем я получил от Александра приглашение навестить их. Я тем охотнее принял его, что их деревня лежала на пути в Цюрих, куда мне нужно было с'ездить по делу.
Я нашел Александра очень поправившимся физически. От этого, вероятно, резко изменилось и, его настроение: он шутил, смеялся, охотно разговаривал,—молодая, симпатичная жена, повидимому, внесла в его жизнь то, чего он раньше не испытывал. Теперь он уже сам допускал, что сможет протянуть еще много лет.
— Когда наступит осень, мы отправимся в Италию, а весной—опять к вам, в Швейцарию: так и будем путешествовать из страны в страну, смотря по временам года, подобно «знатным иностранцам»,—шутил он.
Средства у него и у нее были крайне ограниченные,— они могли жить только «по-студенчески».
Пробыв у них дня два или три, я распрощался с ними на пароходной пристани, куда они проводили меня пешком. Я был уверен, что в следующую нашу встречу после их возвращения из Италии найду Александра не в худшем состоянии. Но зимой того же года я вдруг получил от Веры Григорьевны из Кларана телеграмму: «приезжайте немедленно, Александр при смерти, желает проститься».
Вследствие скудных средств, имевшихся у Хотинских, а также холодной зимы, бывшей тогда в Италии, у него развилась скоротечная чахотка. Поняв это, как врач, Хотинский настоял, чтобы Вера Григорьевна немедленно перевезла его обратно в Швейцарию, так как он во что бы то ни стало хотел умереть вблизи товарищей. Так, даже накануне смерти, у Хотинского не ослабели товарищеские чувства: из-за желания проститься с нами он, несомненно, ускорил момент наступления роковой развязки.
Когда я приехал, он был уже в агонии и на следующую ночь скончался.
У гроба Хотинского собрались все друзья и товарищи его. Кроме Плеханова, Тихомирова, Кравчинского, Аксельрода, Веры Засулич, меня и других русских эмигрантов, туда явились также некоторые знаменитые иностранные социалисты, в их числе находились знаменитый географ-анархист Элизе Реклю, коммунар Лефрансэ и др.
Сергей Кравчинский произнес теплое надгробное слово, в котором сообщил о тихой, незаметной жизни мало кому известного, кроме очень ограниченного кружка лиц, стойкого, преданного борца, обладавшего выдающимися душевными качествами.
На живописно расположенном над Женевским озером Кларанском кладбище так же забыта могила Хотинского, как и память о нем.
201
ГЛАВА XI.
ЧЕРНОПЕРЕДЕЛЬЦЫ.
Вследствие возникших в редакции «Земля и Воля» разногласий по вопросу о продолжении покушений на Александра II, общество того же имени, как известно, разделилось на «Черный Передел», оставшийся верным народнической программе, и на «Народную Волю», поставившую своей задачей путем террора, главным образом, цареубийств, добиться политических свобод. В обе эти организации вошли, кроме тех же немногих евреев, которые состояли членами «Земли и Воли», еще четыре новых.
За исключением Аарона Зунделевича, присоединившегося к «Народной Воле», мы, остальные,—я, Аптекман и Хотинекий,—вступили в «Черный Передел»; кроме того, к нам присоединились еще П. Б. Аксельрод и Евгения- Рубинчик, не бывшие «эемлевольцами».
Но, как известно, не долго просуществовала эта народническая организация, лишь получившая другое название и пополнившаяся несколькими новыми, членами, по существу же являвшаяся повторением, так сказать,—новым изданием прежней «Земли и Воли»; вследствие оговора, сделанного арестованным вскоре затем наборщиком Жарковым, работавшим в типографии «Черного Передела», большинство членов нашей организации было арестовано зимой 1880 г. (Обратите внимание, Лев Дейч одновременно хвалится в этой книге подпольной террористической деятельностью и ничтоже сумняшеся называет обвинения в этой деятельности «оговором» - особенности еврейского мышления. Прим. Проф. Столешникова). Выдавший всех из трусости рабочий Жарков был выпущен на волю, но вскоре затем его убил Пресняков. При этом захвачена была, также и наша типография, а с ней вместе, за вычетом лишь нескольких; экземпляров, был забран совсем готовый № 1 нашего органа.
Мы, члены «Черного Передела», уехавшие за границу почти накануне этих печальных событий—Плеханов, Засулич, Стефанович и я—решили переиздать в Женеве этот погибший до выноса из типографий номер. После того как мы это осуществили, от уцелевших на воле товарищей пришло предложение издать также и № 2. Затем они нам сообщили, что им удалось наладить новую типографию, где будут печататься следующие номера «Черного Передела».
Действительно, спустя некоторое время, мы получили из России третий, четвертый и пятый номера, а также специально издававшуюся нашими же товарищами рабочую газету «Зерно».
Где, кем и как организовано было печатание этих подпольных органов, мы, перечисленные выше лица, живя за границей, долго не знали. Нас немало удивлял и вместе с тем очень радовал факт сравнительно долгого существования нашей, очевидно, хорошо организованной и прекрасно функционировавшей типографии. Только весной или летом 1882 г. от эмигрировавших в Швейцарию трех молодых евреев— Гецова, Гринфеста и Левкова—мы узнали, что это они основали в г. Минске подпольную типографию, в которой были напечатаны перечисленные выше номера «Черного Передела», а также несколько №№ «Зерна». Но, в виду протекших с тех пор более сорока лет, в моей памяти в значительной степени стерлись подробности сообщений названных выше трех лиц.
До сих пор в печати ничего решительно не попадалось о происхождении номеров «Черного Передела» и «Зерна», вышедших в России; между тем интерес к этому все более возрастал. Из перечисленных основателей минской типографии, насколько мне известно в живых остался только Иосиф Гецов, в 1890 г. переселившийся в Нью-Йорк. Будучи там с 1911 до 1916 г., я изредка встречался с ним, но не имел возможности, вследствие разных местных причин, путем расспросов освежить в своей памяти его и двух его товарищей сообщения об указанном вопросе.
По всей вероятности, навсегда остался бы неизложенным рассказ об этом непосредственного участника, если бы не счастливое стечение обстоятельств: после тридцатилетнего пребывания безвыездно в Нью-Йорке состарившийся там Иосиф Гецов решил вместе с женой навестить своих родственников, для чего осенью 1921 г. он приехал в Берлин; здесь мы с ним вновь встретились.
203]
На этот раз, исполняя мою просьбу, он написал мне нижеследующее подробное и чрезвычайно интересное письмо, которое, в виду крупного исторического его значения, я привожу целиком.
«Берлин, 10 января 1923 г. Многоуважаемый
Лев Григорьевич!
Вопросы, которые вы мне поставили, относятся к давно минувшим дням,—к эпохе, которой уже более 40 лет. События эти успели уже покрыться в моей памяти толстым слоем пыли. К тому же наша кружковая деятельность обнимала очень короткое время—всего 2—3 года, которые протекли без всяких потрясающих событий.
Начну по порядку.
Родился я в начале 1860 г. в Минске в строго ортодоксальной еврейской семье. Мой отец умер, когда мне года не было. Вырос я у дедушки и бабушки,—родителей моего отца. Считались они довольно зажиточными хозяевами: имели свой двор, дом и пивоваренный завод в г. Минске. Воспитывали они меня в строго ортодоксальном духе, готовили в ученые, талмудисты. Помню, как моя бабушка пришла однажды из синагоги с заплаканными глазами и объявила мне, чтобы я в тот день не шел в хедер. Одевшись, она, отправилась со мной к нашему домашнему врачу. По дороге остановил нас сосед, спросивший мою бабушку о причине ее расстройства. Она сказала, что в силу вышедшего закона все еврейские мальчики обязаны посещать еврейские городские училища. Поэтому бабушка надумала запастись свидетельством врача о моей болезни, препятствующей мне посещать это училище. Сосед объяснил ей, что этого же можно достигнуть, наняв учителя, который будет приходить к нам для обучения русскому языку. При этом он дал ей записку к такому учителю-христианину.
При нашем заводе имелась никем незанятая небольшая квартира. Ее дедушка отвел под класс для меня и еще 8—10 мальчиков из нашего; окраинного поселка, где мы
жили. Таким образом, возникло нечто вроде небольшой школы, в которой один учитель-христианин обучал нас русскому языку, начальной арифметике, географии и пр. Только, благодаря описанному обстоятельству, я начал обучаться русской грамоте.
Два человека имели наиболее сильное влияние на мою судьбу: инженер Леон Михайлович Носович и студент Велер. Первый был родом из Белостока. Приехав летом 1877 г. в Минск, он поселился в доме Левкова, в ближайшем от нас соседстве. Он был из «раввинистов», т.-е. из учеников тогда, уже закрытых раввинских училищ, перереформированных в еврейские учительские семинарии. Он хорошо знал древнееврейский язык, талмуд и пр. 'Между ним и моим ровесником Саулом Левковым начались горячие религиозные диспуты: Носович был свободомыслящим, а сосед мой Левков, получивший такое же ортодоксальное, как и я, воспитание, был очень религиозен.
Эти споры происходили в течение некоторого времени при моем, так сказать, закулисном участии: Левков передавал мне подробно содержание своих диспутов с Носовичем, а я указывал ему на те или другие возражения, которые он должен был делать. Сам же я наотрез отказался от знакомства с Носовичем, памятуя сказанное в талмуде: «знай, что следует отвечать неверующему». Но однажды Левков, уверив меня, что Носовича нет дома, заманил меня к себе, а у него тот уже ждал меня. Тотчас же возник у нас религиозный спор, который вслед затем в сильной степени увлек меня.
Такие дискуссии с этого времени повторялись ежедневно в течение многих недель. Наконец, Носович торжествовал победу. Тогда мы, т.-е. Левков и я, начали серьезно заниматься общеобразовательными предметами, готовясь к поступлению в землемерное или в реальное училище. Мы делали большие успехи и уже были близки к цели, но тогда новый человек выступил на сцену.
Это был студент, не помню, киевского или московского, университета, родом из Пинска,—Велер. Он в Минске кончил гимназию с медалью и был популярен среди местной молодежи. В университете он стал чрезвычайно деятельным социалистом и, как многие в те годы, начал смотреть на получение диплома, как на средство для эксплоатирования бедного народа.
205
Он решил поэтому бросить учение и целиком предаться пропаганде социализма. С этой целью он написал одному из своих приятелей в Минске довольно обширное письмо, которое переходило из рук в руки, производя сильное впечатление. Оно, таким образом, подготовило умы к его приезду.
Наконец, бывший франт и популярный среди барышень танцор появился в парусиновой блузе с кушаком, в высоких ботфортах, с длинными волосами, в темных очках, словом, в полном наряде социалиста-революционера того времени, что, однако, не помешало ему начать свою деятельность. Порядки в наших палестинах были тогда еще очень патриархальные. Это было, кажется в 1878 г. Появились книжки; мы стали собираться, чтобы группами читать и разбирать их. В этом кружке было человек 20—25. Из легальных книг наиболее сильное впечатление произвели на меня: «Исторические письма» Миртова, «Положение рабочего класса» Флеровского, «Что делать» и статьи Чернышевского из «Современника». (То есть Чернышевский был их – криптоеврей. Он и своих сами определяют лучше всего. Прим. Проф. Столешникова) Из нелегальных: «Хитрая Механика», «Сказка о 4-х братьях», «О копейке», «Слово на великий Пяток» и «Кому принадлежит будущее? (Разговор последовательных людей)», из газеты «Вперед». Любимым нашим поэтом был, конечно, Некрасов (На могиле которого магендавид. Прим Проф. Столешникова); его стихи мы декламировали и распевали.
Под влиянием этих произведений Левков и я решили поступить в земледельческое училище. С этой целью мы поехали в Горки, где было такое училище. Но там оказался слишком большой наплыв учеников: на 3—4 вакансии было больше 50 желавших поступить. По конкурсному экзамену я поступил, и то классом ниже, Левков же должен был вернуться домой; потом он поступил в аптеку учеником.
Я пробыл там год. На нас, евреев, в училище смотрели, как на вторгавшихся не в свою среду, хотя нас было всего трое или четверо. Так на нас смотрели учителя и ученики. Мне удалось поставить себя там независимо, но моего товарища-еврея Кугеля постоянно обижали, и мне приходилось брать его под свою защиту. При этом я убедился, что еврею и по окончании не легко будет попасть в крестьянскую среду, совершенно ему чуждую. Я решил бросить школу и уехать домой.
Между тем в Минске обстоятельства значительно изменились. Несмотря на всю патриархальность нашей жандармерии Велеру пришлось бежать. Ему удалось перебраться через границу, и затем' в течение некоторого времени он жил в Швейцарии и в Париже. Благодаря стараниям: Тургенева, Лорис-Ме ликов разрешил ему вернуться да родину. Он приехал совершенно разочарованным и отстал от движения. Кажется, вскоре за тем он умер.
Но кружковая жизнь значительно расширилась. С одной стороны, завязались сношения с местными рабочими, среди которых особенно деятельными были известный в Америке Ицхок-Айзик Гурвич и его сестра Евгения (Женя). Проектировался даже специальный рабочий орган да еврейском языке. Завязались постоянные сношения со столицами. Тов. Хургин пристал к Народовольцам, а Саул Гринфест, двоюродный брат моего сверстника Левкова, приставший к движению в мое отсутствие из Минска, завел сношения с черно-передельцами московского кружка. Он также вел сношения с контрабандистами, при помощи которых переправлялись через границу лица и издания. Минск стал в некотором роде революционным центром.
(То есть еврейским террористическим центром. Прим. Проф. Столешникова)
Мы получали книги и распространяли их в других городах,—в Вильне, Витебске, Гродне, Белостоке и т. п.
В это время нашему кружку удалось освободить из Виленской политической тюрьмы офицера Фомина и переправить его через границу. Будучи в офицерской форме, он пред вечером быстрыми шагами направился к воротам, где стоявшие на часах солдаты, отдав ему честь, выпустили его. Нужно было только, чтобы вблизи ждали его со штатским платьем, и чтобы имелась готовая квартира для скрывания его. С этой целью из Минска поехал д-р Вольман, имевший в Вильне знакомых. Вместе с Иоселевичем (ныне известный в Нью-Йорке дантист Левич) они все это устроили. Военное платье Фомина было положено на берегу протекающей вблизи реки Вилии. Полиция поэтому искала после Фомина в реке. А он, переночевав в Вильне в приготовленном месте, кажется, в бане, затем нарядился женщиной и, сев в повозку, переправился в Вилейку.
207
Там находился свой человек—Казимир Парфянович, служивший на железной дороге и разъезжавший в своем вагоне; он довез Фомина на последнюю, но доезжая до Минска, станцию. Оттуда Гринфест и я, ожидавшие там с повозкой, привезли его в дом Носовичей. Прожив на этой квартире вместе с ним дней 8—10, мы затем переправили его за границу.
Как известно, петербургская типография «Черного Нередела» провалилась при наборе первого номера, и первые два номера этого журнала были напечатаны за границей. Чувствовался большой недостаток в типографии. И вот, однажды, Гринфест вернулся из Москвы с предложением устроить в Минске типографию. Но ни он, ни я до тех пор не видали вблизи типографии. Нам надо было действовать очень осторожно. Познакомиться с типографским делом в самом Минске было рискованно: оно сейчас вызвало бы подозрение среди товарищей, с какой целью это делается. Мы были уверены, что типография сможет просуществовать довольно долго, если никто не будет знать о ее существовании в Минске. И, наоборот, раз подозрение возникнет, то полиции легко будет накрыть ее, так как мы все были у нее на виду.
В Гродно жил некий Гурвич, который когда-то был преподавателем в раввинском училище и состоял ученым евреем при губернаторе. Он в то же время был собственником типографии. Заручившись рекомендательным письмом к нему т Носовича, я поехал в Гродно. Гурвич посмотрел на меня, как на интеллигента-еврея, готового взяться за «физический труд», и охотно принял меня в свою типографию. Я пробыл там всего несколько недель, во время которых ознакомился с техникой набора и печатания.
Будучи там, я познакомился с наборщиком по профессии Янчевским, высланным из Петербурга на родину под надзор полиции. Когда Гринфест приехал в Гродно, я их познакомил. У Янчевского были большие связи в типографской среде, в том числе с рабочими в Виленской губернской типографии. Он взялся доставить необходимое нам количество шрифта. Но, как поднадзорному, которому надо было являться часто в полицию, ему только с крайними предосторожностями возможно было уезжать из города. Он замаскировывался—одевал бороду,—и таким образом доставил нужное нам количество шрифта. Потом он пристал к народовольцам и, будучи арестован, оговорил многих, когда мы уже были за границей.
К нам в Минск прислали одного нелегального, по фамилии, кажется, Чертов. Мы же прозвали его в шутку «Холомонией». Мы его легализировали, т.-е. достали для него настоящий паспорт на имя Левина от старосты какого-то местечка. Этот Чертов был скомпрометирован, если не ошибаюсь, вследствие покушения Мирского, где-то на юге1). Он околачивался у нас довольно долго без всякого дела. Мы его сделали официальным хозяином квартиры, в которой устроили типографию.
Это был дом-особняк, в тихой части города, напротив старого еврейского кладбища. В нем были всего две квартиры: в одной жил офицер с денщиком, в другой—«комиссионер» Левин (т.-е. нелегальный Чертов). Туда ходили только мы, работавшие в типографии,—Гринфест, я и Левков, который по нашему вызову оставил аптеку и приехал в Минск. Чтобы по возможности обезопасить существование типографии, мы избегали встречаться с местными радикалами и отстали от кружка. В те времена мы, социалисты, всегда называли себя «радикалами», что, между прочим, приводило иногда к некоторым недоразумениям.
Лично я встречался с Булановым, когда он приезжал к нам в Минск или когда я отвозил напечатанные номера в Петербург. Анатолий Буланов, бывший морской офицер, состоял членом чернопередельческого кружка в Петербурге, возникшего после ареста типографии и большинства членов, о чем я выше сообщил. Он, вместе со студентами Загорским, Шефтелем и др., стремился продолжать начатое нами дело. Но в конце 1881 г., под влиянием приехавшего из-за границы Стефановича, присоединился к „Народной Воле". Подробно об этом кружке и его членах сообщила
0. К. Буланова в № 1 сборника: Группа „Освоб. Труда". Там же я встретил Загорского, между прочим, по следующему поводу.
Он нам прислал для «Зерна» статью по поводу анти-еврейских погромов на юге России. Статья была написана в агитационном духе, рассматривала погромы, как начало революции, поощряла народ продолжать их, переходя к помещикам и полиции.
Статья эта произвела на нас, наборщиков, отвратительное впечатление, и мы единогласно решили не набирать ее. Но необходимо было урезонить автора.
На меня товарищи смотрели, как на человека, более «твердого в принципах», и эта миссия была мне поручена. С этой статьей в кармане я поспешил в Петербург, и к чести Загорского надо сказать, что мне нетрудно было доказать ему, что эти погромы не классовое движение, а расовое, основанное на суевериях, предрассудках, недоразумениях и т. п., что пострадали от них, главным образом, такие же бедняки-пролетарии, как и сами погромщики, что это дело агентов правительства в его борьбе с революцией, а также конкурентов эксплоататоров-капиталистов и т. д.
Загорский, выслушав меня без спора, разорвал эту статью и тут же написал другую в совершенно ином духе. С ближайшим поездом я торжественно поехал обратно. И хотя мне пришлось тогда провести 4 ночи без сна, но чувствовал я себя счастливым, и мои товарищи также ликовали. Впрочем, не одни мы радовались этому: наши заграничные товарищи, которые крайне возмущались по поводу выпущенной тогда же Исполнительным Комитетом «Народной Воли» известной погромной прокламации на малороссийском языке, пришли в восторг от этой статьи в «Зерне» и, кажется, перепечатали ее в переводе в иностранных газетах. (Что само по себе служит доказательством, что все эти революционеры» с самого начала работали на заграницу – на интернациональное еврейство - Евреонал. Прим. Проф. Столешникова)
«Сергея» ( Морской офицер Вырубов) я встретил в Петербурге, а также видел раз в Минске, куда он приехал с большой тревогой, опасаясь, почему-то, чтобы мы целиком не перешли к народовольцам. Его опасения были напрасны.
Эфрона я впервые встретил в Минске, где он был проездом за границу. Яков Эфрон, студент Московского Технического училища, член московских чернопередельцев, женился на известной Елизавете Петровне Дурново. (Что служит доказательством криптоеврейства известной в России фамилии Дурново, представители которой были российскими министрами внутренних дел и премьер-министрами. Прим. Проф. Столешникова).
Он тогда рассчитывал скоро вернуться обратно и обещал нам золотые горы в смысле денег. Но он там застрял, и я уже потом встретил его в Женеве.
С горбатым Роммом я встретился при оригинальных обстоятельствах.
В качестве члена Московского кружка чернопередельцев, он знал о существовании в Минске тайной типографии. Из всех нас он лично знал одного только Гринфеста, ездившего иногда по нашим делам в Москву. Знал он также адрес нашей конспиративной квартиры. Случилось это через несколько дней после выпуска 5-го и последнего номера «Черного Передела». Статьи и материал для этого номера привез тогда из Петербурга тов. Лавров. Он оставался в Минске, проживая на нашей конспиративной квартире, пока номер был набран и напечатан. Тов Лавров говорил во сне и даже отвечал, на вопросы. Мы поэтому были недовольны, что петербургские товарищи прислали его с такой важной миссией, опасаясь невольной его выдачи в вагоне, на обратном пути, но делать было нечего.
Мы условились с ним, что тотчас по приезде в Петербург он пришлет нам телеграмму. Но 3—4 дня прошло, а ее все не было. Мы, поэтому, находились в очень тревожном состоянии и были почти уверены, что Лавров провалился вместе с номером «Черного Передела».
В это именно время к нам совершенно неожиданно явился Ромм: он был тогда выслан из Москвы и водворен на его родине, в Вильне, под надзором полиции. Ему нельзя было отлучаться из Вильны. Второпях он нам рассказал, что обыски происходят в Белостоке, Гродне и Вильне, что у них дома был тщательный обыск и что сравнивали какую-то печатную бумагу со шрифтами их типографии, о чем он и приехал предупредить нас.
Не успел Ромм кончить, как в комнату вбежал запыхавшись мальчик — меньшой браг Левкова и рассказал, что дома жандармы и полиция производят у них обыск. Это, конечно, утвердило нас в мысли, что Лавров провалился. Помню, что это было накануне Рождества, 24 декабря 1881 г.
Мы попросили Ромма удалиться, сами же наскоро очистили квартиру от всякой нелегальщины и разошлись в разные стороны. Разошлись мы, конечно, не по своим квартирам, а к родным и знакомым, чтобы выждать дальнейших событий.
211
На следующий день мы узнали, что полиция арестовала упомянутого мальчика, брата Левкова, и путем угроз и побоев заставила его указать ей нашу конспиративную квартиру. Там был сделан тщательный обыск и оставлена засада.
В неё попался Ромм, которого после обыска отвели к жандармскому полковнику.
Но через несколько дней после этого нам сообщили, что Ромм хочет нас всех видеть, причем указал место, куда мы должны притти вечером—на бульваре, в самом центре города. При этом он уверял, что нам нечего опасаться, что все жандармы и шпионы разосланы по другим частям города.
Все это было очень загадочно, все же мы решили пойти на это свидание; и вот что мы узнали.
Просидев 2—3 дня в тюрьме, Ромм вдруг потребовал, чтобы его повели к жандармскому полковнику, которому он заявил, что тот рискует своей служебной карьерой, арестовав его, так как он, Ромм, достоверно знает, что в Минске существует тайная типография, с целью открытия которой он и приехал из Вильно. Между тем, как раз в тот момент, когда он напал на настоящий след, его арестовывают и держат в тюрьме, чем портят все его предприятие. Если его сейчас же не освободят и не дадут ему нужной помощи, он должен будет обратиться непосредственно к Игнатьеву (тогдашнему министру внутренних дел).
Все это было так искусно изложено Роммом, что старик полковник вполне поверил ему, возвратил отобранные у него шифрованные адреса и записки и предоставил в его распоряжение всех жандармов и шпионов. Ромм разослал тех и других в разные окраины города выслеживать, а в центральной части Минска свободно гулял с нами.
На этом свидании с ним присутствовали мы трое—Гринфест, Левков и я; кажется, также и «Холомоний». Ромм настоятельно требовал, чтобы мы ему дали возможность накрыть типографию,—тогда, мол, настанет золотое время для революционеров: он будет пользоваться доверием жандармов, узнает все их тайны и т. д.
Понятно, что мы наотрез отказались от этой заманчивой картины будущего, указав Ромму, что он попадет в руки жандармов, а не они в его. Ему оставалось последовать нашему совету и наскоро уехать домой, что он и сделал.
Мы продолжали скрываться. Одно время я жил в одном имении, а потом с поддельным паспортом уехал в Ковно в своему дяде. В это время приехал ко мне Гринфест, сообщивший, что он нигде не мог достать для себя паспорта— везде была разруха. Я ему отдал свой, так как я жил у родственников. Но» через некоторое время мой дядя, узнав, почему я уехал из Минска, попросил меня удалиться. Я уехал в Вильно, где встретил Гринфеста и, при помощи нашего контрабандиста, перебрался за границу. На границе меня стража задержала, ограбила и прямо-таки выгнала из России, пересадив меня на другую сторону оврага.
По доносу жандармского капитана, из Петербурга в Минск прислана была комиссия. Жандармский полковник слетел. Были арестованы Носовичи, моя кузина Ида Гецова, банковский служитель Трубович и некоторые другие. Ромм был арестован в Вильно. Они все были затем освобождены.
Впоследствии оказалось, что Лавров вовсе не провалился, он и телеграмму послал, но слишком поздно. Весь разгром произошел вследствие ареста в Москве Яковенко (писателя), у которого нашли все адреса организации Красного Креста. Обыски и аресты были произведены тогда, начиная с западной границы России до Сибири включительно.
В нашей типографии были напечатаны: Прокламация Северного Рабочего Союза по поводу стачки, 3, 4 и 5 номера «Черного Передела», 3, 4, 5 и 6 номера раб. газеты «Зерно» и «Земля и Воля»—прокламация по поводу 1-го марта 1881 г. (Казнь Александра П.)
Перешедши границу (в начале марта 1882 г.), я поселился в Кенигсберге. Через некоторое время ко мне присоединился и Гринфест. Мы прожили там несколько месяцев, переписываясь с товарищами в России и рассчитывал вернуться обратно нелегально. Но разруха была там полная; притом кенигсбергская полиция стала слишком сильно интересоваться, нами; мы, поэтому, решили уехать в Швейцарию. В августе 1882 г. мы уже были в Цюрихе. Через некоторое время и Левков приехал туда.
В Швейцарии я работал потом в типографии «Вестника Народной Воли» и, когда он прекратился, делал кефир с Аксельродами.
213]
Там же я ознакомился с основами научного социализма.
В 1890 г. я уехал в Америку.
Р. S. О напечатанной нами прокламации Сев. Раб. Союза, к сожалению, не могу дать никаких больше подробностей. Даже точной даты не могу припомнить. Помню только, что наша типография еще не была тогда вполне обставлена.— мы еще не имели подходящей квартиры, не было станка, когда нас настоятельно попросили товарищи из Петербурга, нельзя ли как-нибудь напечатать эту прокламацию по поводу стачки. С большими усилиями, работая на полу, мы ее напечатали.
Наши сношения с центром, т.-е. Cт. Петербургом, были, главным образом, личные: приезжали к нам со статьями и увозили напечатанные номера, или кто-нибудь из нас отвозил напечатанное в Петербург. Через две недели мы начинали распространять данный номер в Сев.-Зап. крае.
Казнь Александра II, письмо Исполнительного Комитета к Александру III, процесс Перовской, Желябова и других имели колоссальное влияние на революционные круги всех оттенков. Это влияние выразилось, насколько мне помнится, и в передовице 5-го номера «Черного Передела». Я помню, что по этому поводу были разговоры в нашей типографии: мы находили там слишком много уступок террору.
Стефанович, вернувшись в Россию летом 1881 г., повел усиленные переговоры о соединении с «Народной Волей». Буланов и некоторые другие товарищи-«чернопередельцы» выражали готовность присоединиться; но Сергей и другие товарищи остались верными старой программе. Чтобы убедиться в верности типографского состава, он отправился в Минск, не имея нашего адреса, которого Буланов, по его словам, не захотел дать ему. Тем не менее, он все же решился поехать,- рискуя провалить себя и нас. Но очень скоро после этого нас провалили, и мы не могли более принимать участия в дальнейших переговорах.
Напечатанный материал обыкновенно отвозился нами в ручном чемодане в Петербург. Единственной предосторожностью было то, что мы брали билеты не прямо от Минска до Петербурга, а по частям, возобновляя билет 3—4 раза по дороге. Этой предосторожностью мы стремились, обеспечить типографию от риска на случай провала перевозчика «Черного Передела» но дороге, чтобы полиция не догадалась, что она находится в Минске. До получения телеграммы мы, работавшие в типографии, были настороже.
Только один раз мы предприняли особые предосторожности,—когда напечатали прокламацию по поводу события 1-го марта 1881 г.
С текстом прокламации («Земля и Воля») приехал к нам один товарищ, имени которого, к сожалению, не помню. Внешним видом и костюмом он напоминал помещика. Ввиду господствовавших тогда строгостей в Петербурге, мы купили довольно высокую деревянную кадку с крышкой; зашив прокламацию в клеенку, мы вложили ее в кадку, а сверху положили пуд или полтора масла. Таким образом она благополучно прибыла в Петербург. Оттуда ее доставили в Москву, где товарищи рассовали ее на Пасху в деревянных яйцах.
В «Московских Ведомостях», помню, появилось подробное описание этой прокламации: ее размер, число строк, золотые буквы и т. д.
Буланов, насколько мне помнится, усердно и успешно занимался пропагандой среди рабочих. Статьи в «Зерне», писанные «рабочим языком», принадлежат его перу. Он и Сергей занимались также пропагандой среди матросов.
Вот, Лев Григорьевич, все, что я смог выжать из своей памяти в ответ на ваши вопросы. Возможно, что вкрались ошибки: ведь это «дела давно минувших дней». Всего доброго.
Ваш И. Гецов».
Нужно ли объяснять, насколько ценны заключающиеся в этом письме сообщения: мы получаем из него не только живое представление о том, как в то отдаленное время устраивалась и функционировала подпольная типография, но, что не менее важно, в нем имеется верное описание жизни еврейской молодежи в провинциальном захолустье; мы узнаем, каким путем туда доходили передовые взгляды и какой переворот они производили в головах молодых еврейских фанатиков, воспитанных в строго ортодоксальном духе.
Хотя Гецов лишь мимоходом упоминает о своих сверстниках—Левкове и Гринфесте, но несомненно, что они прошли приблизительно ту же школу, что и он.
Гринфест сыграл некоторую роль при возникновении группы «Освобождение Труда»; также и Левков принес нам некоторую пользу.
Подробно об этом я сообщил в статье «Первые шаги» группы «Освобождение Труда», в сборнике того же названия № 1. Л.Д.
ГЛАВА XII.
БУНТАРИ.
АННА РОЗЕНШТЕЙН-МАКАРЕВИЧ.
В предшествующих главах я сообщил о евреях обоего пола мирного направления, преобладавшего в России в первой половине 70-х ГОДОВ. Как мы видели, они принадлежали к пропагандистам и,—начиная с 1875/76 г.г.—к пропагандистам и народникам. Но со второй половины указанного десятилетия на юге России приобрело преобладающее влияние так называемое «бунтарское направление». В этом революционном течении участие евреев было еще менее значительно, чем в тех, о которых я здесь сообщил: едва ли я ошибусь, сказав, что «бунтарей» среди евреев не было даже одного десятка на всю обширную нашу страну. При этом преобладавший контингент этих бунтарей принял непосредственное участие не в деятельности среди крестьян, а, главным образом, в качестве участников в террористических актах. Об этих лицах я сообщу во второй части настоящих записок, здесь остановлюсь на подлинном бунтарском направлении, самой выдающейся участницей которого из евреев была Анна Марковна Розенштейн-Макаревич.
Родилась она в Симферополе весной 1855 года. Родители ее были довольно зажиточные, люди, к тому же в значительной степени ассимилировавшиеся, интеллигентные. Отец ее выглядел «цивилизованным человеком», не придерживавшимся еврейских обычаев.
Своей единственной дочери он старался дать наилучшее воспитание: у маленькой Ани были гувернантки, обучавшие ее иностранным языкам, игре на пианино и пр. Решительно во всем, чему ее обучали, она проявляла необыкновенные способности. Память у девочки была положительно феноменальная. Но, кроме того, она обладала изумительной сообразительностью и выдающимся даром слова. Ко всему этому надо прибавить, что Аня с детских лет отличалась поразительной красотой и чрезвычайно добрым, нежным, отзывчивым характером.
Легко поэтому, представить себе, как относились умные, образованные родители к единственному своему ребенку: они буквально боготворили голубоглазую, с длинными белокурыми локонами девочку, действительно походившую на купидонов и ангелочков, которых рисовали великие и заурядные художники на своих картинах.
В симферопольской женской гимназии, куда отдали ее родители, она была общей любимицей не только подруг, но также учителей и начальства. Училась Аня превосходно, всегда шла первой и шестнадцати лет окончила гимназию с золотой медалью.
Как я уже рассказал в прежних очерках, тогда, в начале 70-х годов, передовые русские и еврейские девушки стремились получить высшее образование, для чего, в виду отсутствия в России доступа к этому женщинам, они отправлялись в Швейцарию, в Цюрих, в единственный в то время город, открывший двери своих двух высших учебных заведений— университета и политехникума,—лицам обоего пола. (Весьма показательный факт интернационального еврейского сотрудничества. Прим. Проф. Столешникова).
Аня Розенштейн была одной из первых еврейских девушек, отправившихся туда учиться.
Мало того: она была чуть ли не первой во всем мире женщиной, которая избрала не медицинский факультет, как сплошь сделали все ее подруги, а Политехникум. Одаренную, наряду с лингвистическими, также и выдающимися математическими способностями, Аню привлекали точные знания,—высшая математика, астрономия, механика, химия.
Вскоре по поступлении в это учебное заведение А. Розенштейн, благодаря своим успехам, сделалась знаменитостью цюрихского Политехникума: профессора на находили слов для выражения своего восторга и изумления по поводу ответов молоденькой русской студентки, а ее товарищи— иностранные студенты—устраивали ей овации, толпами провожали ее до ее квартиры и под окнами последней распевали «серенады» в честь «белокурой русской», являвшейся их «гордостью», «украшением» высшей их школы и т. д. Про красивую, необыкновенно одаренную русскую студентку складывались легенды, пииты посвящали ей плоды их музы и т. д. Все в один голос предсказывали этой на редкость одаренной девушке, самую блестящую ученую карьеру. Но, как и многие другие пророчества, не сбылось и это: подобно другим выдающимся представителям учащейся молодежи того замечательного десятилетия, Аня Розенштейн от всего и всех отказалась в пользу дела освобождения трудящихся масс.
Я уже сообщил, что в Цюрихе, одновременно со съехавшимися туда учиться русскими девушками, поселились знаменитые эмигранты — Лавров, Ткачев, Соколов, Сажин, Смирнов и другие, занявшиеся изданием социалистических произведений и пропагандой своих взглядов среди молодежи. Само собой разумеется, что пылкая, страстная, увлекавшаяся всем идейным Аня не могла остаться равнодушной к проповеди счастья, равенства и пр. Как и другие ее сверстницы, Аня также отказалась от прежнего своего намерения учиться и с головой отдалась новому учению, сулившему освобождение человечества от тяготевших на нем бедствий, несчастий, несправедливостей.
Всего семнадцати или семнадцати с половиной лет от роду юная красавица оставила Политехникум со всеми оказанными им ей почестями и в Цюрихе же она вступила в революционную группу, в шутку прозванную эмигрантами—кружком «Сен-Жебунистов», так как основателями его были три брата Жебуневы, сыновья богатого черниговского помещика, также приехавшие в Цюрих учиться и тоже ставшие там социалистами, при чем двое из них вместе со своими женами. (Обратите внимание – богатые люди делали, якобы, «пролетарскую революцию». Прим. Проф. Столешникова).
Они были противниками Бакунина за его проповеди анархии и необходимость всегда и везде вызывать «бунты». «Сен-Жебунисты» являлись последователями П. Лаврова, проповедывавшего, как мы уже знаем, медленную и постепенную подготовку русского народа к социалистическому перевороту.
219
«Сен-Жебунисты» выработали для членов своего кружка следующий план действий. Они должны были расселиться по селам и деревням в качестве народных учителей, врачей, фельдшеров и т. п. и рядом с точным исполнением взятых ими на себя официальных обязанностей, вести в то же время усиленную пропаганду среди крестьян мирного социализма. Только когда большая часть населения России будет таким путем подготовлена, т.-е. доведена до умственного и нравственного уровня, на котором стоят социалисты-интеллигенты, можно будет призвать народ к ниспровержению существующего несправедливого строя. Как и другим последователям Лаврова, «Сен-Жебунистам» эта задача не казалась тяжелой, и момент призыва к социальной революции им представлялся очень близким: при энергичной, самоотверженной деятельности, время ее наступления должно было произойти через несколько лет.
Могла ли Аню Розенштейн не увлечь эта заманчивая перспектива? Со своим присущим ей пылом и стремительностью отдалась она этой великой задаче и вместе с другими членами названного кружка, осенью 1873 года вернулась в Россию; перед этим она- вышла замуж за члена этого кружка Макаревича.
В России для Ани началась новая жизнь, полная разнообразных впечатлений, сопряженная с лишениями, самоотверженностью и опасностью, вместе с тем и необыкновенно увлекательная ввиду ее стремлений и задач.
Но известно, ничто не вечно на свете, в особенности же в России, где за всем следит бдительное и попечительное начальство. Однако на этот раз не само правительство, по его собственной инициативе разбило планы «Сен - Жебунистов», а их же сочлен—некий Трудницкий.
Этот господин, занявший, подобно остальным товарищам в одной деревне место учителя, весной 1874 года, без всякого внешнего повода написал подробнейший донос, в котором раскрыл не только всю организацию «Сен-Жебунистов», но также сообщил решительно все о лицах, — об их целях и про которых что-либо узнал даже из вторых и третьих рук.
Во всей России начались тогда обширнейшие обыски и аресты лиц, среди которых были и лучшие друзья этого оказавшегося низким предателем члена кружка. Подобно тому, как впоследствии произошло при изобличении провокатора Азефа, также и известие о доносе Трудницкого, как громом поразило всех своей невероятностью и причиненным им огромным вредом.
Немногим из лиц, оговоренных этим и другими негодяями, удалось избегнуть ареста. Те из них, которым посчастливилось скрыться от розысков полиции, стали «нелегальными», почему нередко, в течение многих месяцев они оставались без пристанища, ночуя где придется и находясь под вечной опасностью быть случайно узнанными или злостно кем-либо выданными в руки властей.
В число этих немногих травимых полицией скитальцев попала и юная наша Аня, осенью 1874 года, так как и ее подробно изобразил в своем доносе этот изверг. Между тем как решительно все ее друзья, все члены организации «Сея-Жебунистов» были арестованы, она какими-то судьбами спаслась и стала «нелегальной».
Ей, поэтому, нельзя было уже показаться в Симферополе, где многие знали ее в лицо, и она принуждена была переезжать из города в город, —из Одессы в Херсон, оттуда— в Николаев, Харьков, Киев, хотя у полиции всех этих городов были ее карточки с точным обозначением ее характерных, бросавшихся в глаза, черт красивого ее лица. Но Аню нисколько не пугал арест, несмотря на то, что по начавшим доноситься слухам жизнь заключенных в тюрьмах и крепостях товарищей ее была крайне неприглядна, местами даже ужасна.
Видя, как рискует собою Аня, можно было подумать, что она бравирует или нарочно стремится быть арестованной. Но ни то, ни другое не было ей присуще: Аня просто не считалась с опасностью, не замечала, не ощущала ее, будучи целиком увлечена стремлением содействовать восстановлению революционного дела, которому Трудницкий своим доносом причинил столь огромный вред. Всюду, куда ни приезжала эта юная проповедница, она с необыкновенным пылом, страстью, увлечением, агитировала, убеждала, склоняла примкнуть к кучке таких же, как и она, энтузиастов, для которых счастье парода было выше, дороже всего на свете, дороже любимых родителей, своих детей и собственной свободы и жизни.
221
Впервые я встретил Аню вскоре после того, как она стала нелегальной на квартире также выданного Трудницким товарища, д-ра Эмме и состоявшего поэтому под надзором полиции.
Пришедши к нему однажды вечером, я увидел, стоявшую посредине комнаты очень красивую, изящно одетую блондинку, повидимому, собиравшуюся уходить. Эмме познакомил нас, мы обменялись несколькими фразами, после чего она ушла.
По наружности и произношению в Ане нельзя было узнать еврейки,—только несколько утолщенная нижняя губа выдавала ее национальность. (Интересное признание для иверологов. Прим. Проф. Столешникова). Прекрасно сложенная, с ясным, открытым лицом, она выглядела несколько старше своих тогда 18-ти лет, а, благодаря ее изящному костюму никто из самых опытных полицейских ищеек не мог признать в ней «нигилистку», революционерку. Но особенно приятное ощущение вызывал ее ясный, громкий контральто.
Тогда Аня привлекала к себе каждого, с которым встречалась, я не был исключением. Мне тоже минуло тогда 18 лет и лишь незадолго пред тем я примкнул к немногим, уцелевшим после разгрома, борцам за освобождение угнетенных масс. На меня Аня также произвела.очень симпатичное впечатление: такой девушки, я до того еще не встречал. Прекрасный образ ее надолго запечатлелся в моей памяти. После этой мимолетной встречи она уехала на юг—в Николаев, Херсон, Одессу, где, как я уже сказал, из всех сил работала на избранном ею тяжелом, полном опасностей поприще.
Изредка от товарищей до меня доходили радостные известия об успехе, который Аня всюду имела, о ее ловкости и искусстве избегать розысков ее полицией.
В те времена полтора-два года революционной деятельности считались максимальной продолжительностью жизни на воле; после этого срока, а то и значительно раньше его почти каждый попадал в цепкие руки тайной полиции, а затем навсегда сходил со сцены. Естественно было поэтому опасаться, что и Аня не минует этой участи. Но, повидимому, она родилась под счастливой звездой: между тем, как других кругом нее ловили и водворяли под тяжелые крепкие запоры, она счастливо изворачивалась и оставалась неуловимой.
После разных происшедших в моей жизни приключений, о чем я уже рассказал в другом месте (См. подробности в моей книжке «Четыре побега») года полтора спустя после первой встречи с Аней, я вновь свиделся с нею в особенно памятный момент моей жизни.
Приблизившись со мною, после моего побега из бани, к своей квартире, друг мой Я. Стефанович, помогавший мне в его осуществлении, сказал:
— Отгадай, кого сейчас увидишь?
Я, конечно, не отгадал. Вошедши в комнату, я увидел Аню Розенштейн.
Два столь радостных факта: удачный побег из заключения и встреча с прекрасным товарищем, образ которого, в течение долгого времени хранил в душе!
Я, конечно, чрезвычайно ей обрадовался. Она также. В тот же вечер мы перешли на «ты», и на всю дальнейшую нашу жизнь стали не только добрыми товарищами, но близкими друзьями, которых никакая продолжительная разлука не могла уже разъединить.
При этой нашей встрече. Аня выглядела такой же привлекательной, живой, энергичной, какой была во время первого нашего знакомства; но в идейном отношении у нее произошла крупная, резкая перемена, как это случилось также со мною и со многими другими тогдашними социалистами.
В качестве «Сен-Жебунистки» Аня, как мы уже знаем, была последовательницей П. Лаврова, т.-е. мирной пропагандисткой. Но, после «массового» хождения «в народ— с 1873 по 1875 год—многие лавристы на опыте убедились, что «распропагандировать» не только большую часть русских крестьян, а даже незначительный их контингент является почти совершенно неосуществимой задачей, связанной к тому же с гибелью многих и многих социалистов.
223
Кто-то в те времена вычислил, что на одного распропагандированного крестьянина приходится чуть ли не полсотни арестованных социалистов. При такой «бухгалтерии» социальная революция могла бы произойти лет через пятьсот, а то и позже.
(Весьма интересное признание. Учитывая, что крестьяне в конце 19-ого столетия составляли более 90% населения России, совершить государственный переворот, используя эту, совершенно инертную массу, было не реально, именно поэтому они ухватились за пролетарский марксизм, но на самом деле госпереворот в России 1917 года сделали еврейские «реэмигранты» в Россию при изобильной финансовой и вооружённой поддержке из США. Прим. Проф. Столешникова).
Нам же хотелось произвести её года через два-три, а так как Бакунин сулил ее в самом близком будущем, раз мы, революционеры, постараемся, то, как известно, наиболее нетерпеливые из молодежи стали его последователями.
Мы уже знаем, что по его утверждению вызывать бунты не представляло в России никакой трудности. Для этого требовалось только, отправившись в народ, пользоваться всяким поводом к возбуждению крестьян против властей. При этом молодые агитаторы - бунтари не должны были заниматься никакой проповедью социализма, а обязаны были довольствоваться уже существовавшим у крестьян идеалом, состоявшим в общинном владении трудящимися всей землей, без всяких платежей, в артельной работе и т. д. Раз этот идеал крестьян был бы осуществлен, внушал нам Бакунин, крестьяне уже без особенного труда перейдут к обобществлению всех орудий производства, после чего «государство» станет излишним и вместо него установится федеративный, или «анархический» строй. По его же утверждению, стоит только начаться восстанию в одной какой-нибудь местности России, чтобы оно, подобно пламени среди горючего материала, немедленно охватило всю нашу страну, так как для этого все в ней уже давно готово.
Такую-то простую, ясную, легко осуществимую программу, одновременно со многими южными лавристами Аня Розенштейн усвоила в середине 70-х годов. Я поэтому вдвойне обрадовался встрече с нею, так как не только вновь увидел ее здоровой и невредимой на воле, но еще нашел в ней единомышленницу, готовую, как и мы остальные, сделать все возможное, чтобы «вызвать в народе бунт», долженствовавший разгореться во всенародное и, конечно, победоносное восстание.
Снятая Стефановичем на окраине Киева квартира состояла из двух небольших комнат, в одной из которых поселились мы с ним, другую занимала Аня. Мы, таким образом, имели возможность видеться ежедневно и близко узнать друг друга.
Нередко случается, что при совместной жизни разочаровываешься в человеке, которого до того знал поверхностно, так как при частых встречах замечаешь те или другие черты его характера или привычки, манеры, которые неприятны, несимпатичны. Ничего подобного не случилось от совместной нашей жизни с Аней: наоборот, она еще много выиграла в нашем о ней мнении. Прежде всего, я и Стефанович изумлялись энергии и трудоспособности, которые были присущи этой, тогда 20-ти летней «бунтарке».
Начать с того, что Аня спала всего 5—6 часов в сутки. Проснувшись до рассвета и наскоро сделав свой туалет, она быстро убирала свою комнату, затем, приготовив и съев завтрак, во время которого прочитывала утреннюю газету, она отправлялась на целый день по делам. Только вечером возвращалась она домой, оставаясь нередко в течение всего этого времени без еды. Дома, написав ответы на письма и прочитав разные новинки, она затем делилась с нами сообщениями о проведенном ею дне; после чего мы обсуждали текущие дела. Наши беседы нередко продолжались до полуночи, после чего оставшись одна, она еще долго занималась. Насколько помню, кажется, не случалось, чтобы Аня встала позже положенного ею себе времени.
Перелетая ежедневно из одного конца Киева в другой, Аня иногда лицом к лицу сталкивалась с полицейскими и жандармами, которые легко могли узнать в ней давно разыскиваемую революционерку, так как приметы ее был» всюду разосланы.
Однажды вечером она сообщила нам, что встретилась с знаменитым на юге жандармским адъютантом бароном Гейкингом, вперившим в нее глаза и, повидямому, узнавшим ее.
— Ох, доскачешься, Аня,—заберут тебя на улице! сказал я.
— Ничего, еще поработаю, смеясь ответила она, и в голосе ее слышалась такая уверенность, что действительно казалось мало вероятным, чтобы Аня могла погибнуть из-за глупой случайности.
225
Года полтора спустя, при вторичном моем аресте барон Гейкинг мне к слову рассказал об этой встрече с Аней, которую он узнал, но непринужденный вид ее вызвал у него затем сомнение, почему он и не решился ее арестовать. Несмотря на напряженную деятельность, Аня никогда не жаловалась на усталость: она охотно и всегда легко исполняла и любую домашнюю работу, хотя, как дочь состоятельных людей, совсем не привыкла к физическому труду; тем не менее, все нужное в обиходе она скоро научилась прекрасно исполнять. Одна уже эта черта была чрезвычайно симпатична. Но, если к тому же примем во внимание, что она всегда была в приподнятом, возбужденном настроении, чем заразительно действовала на других, то, полагаю, всякому ясно станет, почему эта выдающаяся революционерка одинаково вызывала к себе симпатии, как со стороны мужчин, так и женщин.
По натуре, по складу ума и характера Аня была прирожденной к тому же крупной агитаторшей. Для этого судьба наделила ее всеми необходимыми данными, — красивой внешностью, умом, выносливостью, а главнее—большим даром слова. Аня могла долго и с огромным увлечением говорить, не испытывая при этом ни малейшей усталости. Но в ту отдаленную эпоху в России совершенно не было сколько-нибудь благоприятных условий для применения этих ее дарований. В лучшем случае можно было, вести пропаганду среди отдельных рабочих, но такой деятельности бунтари, как известно, не придавали почти никакого значения.
Выдающиеся дарования и необыкновенная энергия, которые были присущи Ане, поэтому, растрачивались ею почти совершенно непроизводительно. Но тогда ни она, ни мы, ее товарищи, не сознавали этого, и Аня работала без передышки, являясь одним из самых деятельных членов нашего бунтарского кружка. Здесь я должен сказать о нем несколько слов, так как иначе останется непонятной дальнейшая участь Ани.
Южный бунтарский кружок, в который Аня Розенштейн зимой 1875 года, почти одновременно со мною вступила, задавался целью вызвать бунт среди крестьян Чигирйнского уезда Киевской губ. Это предприятие вскоре затем приобрело у нас большую известность. Отсылая интересующихся этой попыткой к другим источникам, ограничусь здесь немногими о ней словами. См. мою книгу «За полвека», а также у Туна в «Истории рус. револ движения» и у Степняка в «Подпольной России».
«Из чего абсолютно ясно, что пресловутое «русское революционное движение было исключительно террористическим движением русских евреев. Прим. Проф. Столешникова).
Из-за спора о земле в некоторых селах названного уезда произошли весной в 1875 г., крестьянские беспорядки, закончившиеся, как обыкновенно, поркой крестьян, постоем в деревнях солдат, изнасилованиями их жен и дочерей и т. п. приемами «увещания» народа. Крестьяне были уверены, что эта возмутительная расправа с ними производится местным начальством, помимо не только воли, но и ведома «доброго царя-освободителя» их от крепостной зависимости, что он, наоборот, стоит за народ, желает ему отдать всю землю, но помещики и разное начальство скрывают от него действительное положение. Чтобы открыть ему глаза, рассказав им об их страданиях, они отправили к нему несколько ходоков, но полиция их по дороге перехватила и арестовала. Крестьяне после этого были в полном отчаянии, так как не видели возможности добиться заступничества со стороны царя.
Этим их настроением решил воспользоваться наш киевский бунтарский кружок, чтобы, согласно учению Бакунина, вызвать вооруженное восстание среди населения названного уезда.
Познакомившись с некоторыми заключенными в Киеве Чигиринскими крестьянами, Стефанович предложил им себя в качестве ходока к царю, на что они после некоторых колебаний согласились.
Стефанович, понятно, вовсе не собирался предстать пред царем,—он надумал, по прошествии некоторого времени, явиться к Чигиринским крестьянам и заявить им, что ему удалось благополучно исполнить возложенную на него миссию, но, при свидании с царем, происшедшем наедине, последний велел им передать, чтоб они на него не надеялись, что он бессилен помочь им, так как окружен врагами, а потому велит народу восстать, с оружием в руках и, одолев помещиков, чиновников, капиталистов и всех других народных угнетателей, забрать себе всю землю, леса, фабрики и пр., и создать вольный строй.
(Под чутким руководством, в качестве авангарда, еврейской интеллигенции, но когда еврейской интеллигенции таки удалось совершить государственный переворот в 1917 году, они предпочли избавиться от своих подопечных, именем которых они совершали отрекламированную ими «революцию». Прим. Проф. Столешникова).
227
В этом духе царь, будто бы сам составил и передал Стефановичу «грамоту народу», которую, конечно, нам нужно было напечатать в своей подпольной типографии.
Эту типографию наш кружок поручил Ане, привезти из-за границы. Сверх того ее уполномочили заехать к больному тогда Бакунину, чтобы сообщить ему о вышеизложенном вашем плане вызова восстания.
Снаряжая Аню весной 1876 года с такими серьезными поручениями, кружок наш был заранее уверен, что она, в виду ее способностей, знания иностранных языков и пр., лучше, чем кто-либо другой, исполнит их. И действительно, по прошествии самого короткого времени, она сообщила, что все устроила, после чего вскоре вернулась обратно.
Затем Аня с прежним пылом отдалась делу организации указанного бунта. Для этого ей постоянно приходилось брать на себя очень рискованные поручения, из которых, однако, она всегда выходила целой и невредимой: во всяком встречавшемся ей затруднительном положении она умела быстро найтись, всюду ей легко удавалось приобретать помощников, которые охотно оказывали ей поддержку, снабжали необходимыми ей материалами, средствами, деньгами, паспортами, квартирами, адресами. Поэтому неисчислимо было оказанное ею нашему кружку содействие.
Но по разным причинам, о которых не буду здесь распространяться, отсылая к другим литературным произведениям, план вызвать путем царского манифеста крестьянское восстание не осуществился, и в конце 1876 г. наш киевский бунтарский кружок, в который входило двадцать с чем-то членов, распался на несколько самостоятельных групп.
Аня осталась, поэтому, без живого дела, которому она могла бы оказывать содействие, чего она не в состоянии была перенести, а потому решила эмигрировать за границу с тем, чтобы, там примкнуть к обще-европейскому социалистическому движению.
(Которое, как вы поняли было исключительно криптоеврейским. Прим. Проф. Столешникова). Между прочим, даже в переезде через границу ее выручила «счастливая звезда».
Чтобы переехать, через границу, она взяла паспорт у одной своей знакомой, «сочувствовавшей» либералки. Но об этом как-то узнала тайная полиция и дала телеграмму на границу о задержании такой-то, а оттуда пришел ответ, что она «только что благополучно переехала границу». Это мне тоже рассказал сам жандармский адъютант барон Гейкинг.
За границей Аня приняла фамилию «Кулешевой», под которой вскоре приобрела большую известность—сперва во Франции, затем в Италии. Прекрасное знание иностранных языков, ее ум, образование, дар слова и внешность совсем сводили с ума иностранцев, которые увивались вокруг нее.
В Париже она познакомилась с Тургеневым, на которого тоже произвела сильное впечатление.
(Тургенев вообще вращался исключительно в кругу еврейских интеллектуалов. Прим. Проф. Столешникова).
Но то, чего в России Аня счастливо избегала, стряслось с нею во Франции: за участие в |какой то демонстрации, она была вскоре арестована и затем присуждена к довольно значительному сроку тюремного заключения. Симпатию к Кулешевой Тургенев проявил тем, что, не боясь скомпрометировать себя в глазах русского посланника, хлопотал перед французским правительством об облегчении ее участи, что ему и удалось.
Приговоренная; после выпуска из тюрьмы, к изгнанию из Франции, «Кулешева», под каковой фамилией Анна Розенштейн между прочим попала в историю «Современного Социализма» Лавелэ и в другие иностранные произведения,— отправилась в Италию, где вновь с головой отдалась рабочему движению, тогда носившему бакунинскую, т.-е. анархическую окраску.
(То есть «анархисты» тоже были криптоеврейским течением. Каждое течение, рассчитанное на привлечение определённой части гойского сектора. Прим. Проф. Столешникова).
Спустя короткое время Аню и там постигла та же участь, что и в Париже: ее арестовали за анархическую агитацию и приговорили к довольно продолительному заключению.
Отвратительный режим, которому ее подвергли, в сильной степени подорвал ее здоровье. Это, однако, не удержало ее от дальнейшей деятельности в Италии, за что она вновь и вновь попадала на скамью подсудимых, а затем в исправительные тюрьмы. Но постигавшие ее несчастья не только не отталкивали, а, наоборот, все более сближали ее с этой страной. С течением времени «Signora Kulechoff» приобрела в Италии очень громкую известность.
229
В середине 80-х годов Аня поступила на медицинский факультет в Милане и до того блистательно сдала докторский экзамен, что это было отмечено в свое время во многих газетах .
Еще в качестве студентки, Аня встретилась с молодым итальянцем, тоже студентом—Турати. Талантливая и красивая русская студентка произвела на него сильное впечатление, а затем они сошлись на всю дальнейшую их жизнь.
Ни для кого в Италии не тайна, что под влиянием жены Филиппо Турати не только стал социалистом, но, что она руководила всеми его выступлениями. Одна из первых в Италии она стала марксисткой и затем втечение многих лет вела упорную борьбу с анархизмом: итальянское социалистическое движение ей в сильной степени обязано тем, что оно приняло марксистское направление. Под ее же влиянием, утверждают знающие лица, Турати впоследствии стал ревизионистом. Вместе с ним Аня в течение многих уже лет редактирует социалистический журнал, называющийся «Critica Sociale» и имеющий до сих пор в Италии большое влияние.
* *
Я, конечно, лишен возможности более подробно изложить здесь деятельность нашей единоплеменницы и моей большой приятельницы в Италии. Но и из того немногого, что я сообщил о ней, полагаю, ясно, какой необыкновенно крупной женщиной была и отчасти до сих пор еще остается бывшая бунтарка Анна Розенштейн. Несмотря на свой возраст—ей теперь 70 лет—эта слабая, истощенная болезнями «бабушка», давно имеющая уже внуков, по-прежнему живо откликается на все решительно, что имеет отношение к. интересам угнетенных масс.
Имя Анны Розенштейн-Турати, вероятно, совсем забудется в России, но несомненно займет видное место в истории социалистического движения Италии, ставшей второй ее родиной.
Заканчивая этим первую часть моих записок, касающуюся, главным образом, мирного, бескровного периода нашего революционного движения, я считаю нужным вновь обратить внимание на роль преобладающего большинства описанных мною здесь евреев-революционеров. Каждый полагаю, согласится со мною, что за вычетом двух-трех крупных деятелей, из которых, однако, только Натансон играл в России одну из первых ролей, всё остальные мои соплеменники являлись лишь людьми второго или даже третьего ранга.
231
Алфавитный указатель собственных имен.
(Просто интересно прочесть вслух по порядку. Прим Проф. Столешникова)
Азеф—177, 220.
Аксельрод, Ида—138.
Аксельрод (Каминер), Н. И.—132,137, 151.
Аксельрод, П. В.—4, 5, 12, 13, 17,34, 36, 80, 111, 123—144,1,49, 151—
162, 190, 201, 202, 213.
Александр 1—8, 26. .
Александр II—13—15, 22—28, 38,43, '45, 48, 59, 104, 127, 134, 135,
174, 186, 202, 213, 214.
Александр III—4, 27, 118.
Алексеев, Петр—96.
Андреюшкин—39. Антонов—40.
Аптекман, И. В.—35, 179—19Э, 196, 197, 202.
Аракчеев—26.
Аронзон, Соломон—85.
Аронсон—160.
Арончик—38—41. Ауэр—159.
Бакунин, М. А.—33, 36, 3?, 52—54, 58, 77, 78, 219, 224, 227, 228.
Баранников—39, 171, 172.
Бардина, Софья—32, 51, 95, 96.
Бардовский—115.
Бар-Кохба—181.
Батушанский—178.
Бебель—159.
Бейлис--5.
Бекман—44.
Белинский—9, 127.
Верви (Флеровский)—31, 35, 206.
Берне—127.
Вибергаль, А. А.—117—122.
Бибергаль, А. Н.—41, 113—122.
Бибергаль, В. А.—122.
Вибергаль, Е. А.—119—122.
Бисмарк—5, 81.
Блан Луи—31.
Богданович, Ю— 37, 38.
Боголюбов-Емельянов—40, 171.
Бок ль—31, 180.
Болотина—42.
Болотников —36.
Бохановский—83.
Брешковская, Е.—34, 164.
Бродский—15.
Булавин—36.
Буланов, Леонид—102, 209, 214, 215.
Булыгина см. Шефтель.
Булыгин—ПО.
Бурцев—61.
Быховер, Давид—140.
Вайер—41.
Варзер—35.
Варшавский—15.
Васильчиков кн.—14.
Веккре—41.
Велер—205, 207.
Виташевский—41.
Витенберг—38, 39.
Владимир В. кн.—122.
Властопуло—41.
Войноральский—32, 41, 87, 164.
Волошенко—41.
Волховский—60, 69, 73.
Вольман—207. Вольтер—161.
Врублевский—56.
Вырубов, Сергей—210, 214, 215.
Гаам Ахад—154.
Гаркави—158.
Гартман, Лев—59.
Гассох (Гоц), Вера—42.
Гаусман—105.
Гейкинг барон—145, 225—227.
Геллис—41.
Генералов—39.
Герце ль—154.
Герцен—9, 11, 24, 37.
Гецова, Ида—213.
Гецов—203—215.
Гельман—143.
Гельмгольц—156.
Гельфман, Геся—18, 38, 39, 94.
Гиллель, рабби—180.
Гинзбург—15.
Гинзбург, Лев—34.
Гинзбург, Софья—41, 42.
Гобст (Федоров)—38, 39.
Гоголь—280.
Гоц—42, 105.
Гольденберг, Гр.—38, 39, 135.
Гольденберг, Лазарь—43—62, 68, 70,159, 160.
Гончаров—23, 180.
Грачевский—38.
Гринберг, Христина—38, 39.
Гриневецкий—39.
Гринфест—203, 207—215
Гросман-Прибылёва— 41.
Гроссман, Роза—38, 39.
Гурвич, Евгения—42, 207.
Гурвич, Ицхок-Айзик—207, 208.
Гуревич—99. Гуревич, А.—105.
Гуревич, Григорий—128, 130, 135,
158—163.
Гуревич, Давид—158.
Гуревич, С—105.
Гудков—127, 128.
Дебогорий-Мокриевич—32, 37.
Дейч—41, 83, 84, 135.
Джабодари—41.
Добролюбов—20, 23, 45, 127, 180.
Добрускина, Генриета—39. 41.
Додэ—84.
Донецкий—40.
Достоевский—23.
Драгоманов—68.
Дрей—41.
Дрентельн—39.
Дрепер—31.
Дробязгин, Ив.—37.
Дубровин—39.
Дурнбво, Е. П.—21С.
Дьяков—33, 40.
Дюринг—159.
Екатерина II—8.
Ельговичев—49.
Жарков—202.
Жебуневы—219.
Желябов—38, 39, 69, 129, 164, 204.
Загорский—209, 210.
Зайднер—41.
Зайцев—23.
Засулич, В. И.—4, 38, 39, 81, 135, 136, 137, 164, 190, 201, 203.
Зданович—41.
Зеленский—44.
Златопольский, Лев—38—41.
Золя—84.
Зотов—105.
Зунделевич, Аарон—37—41, 81, 83,
159, 172, 179, 193, 202.
Иванов—52, 128.
Иванчин-Писарев—34, 35, 57.
Ивичевич—40.
Игнатов, В. Н— 4, 136.
Игнатьев—212.
Исаев—38.
Ишутин—9, 28.
Иоселевич (Левин)—207.
Каблиц—37.
Каменская, Бети—54, 89—94, 195.
Каминер, Августина—151, 155.
Каминер, Исаак—130, 149—155, 158.
Каминер, Надежда см. Аксель-род, Н. И.
Каминер, сестры—130, 132.
Каминер, Софья—167.
Кауфман—45.
Кацен—44.
Квятковский, А.—38, 39, 171, 196.
Кенан, Георг—60.
Кибальчич—38.
Клеменц—31, 34, 35, 163.
Ковалик—32, 41, 87, 164.
Коган-Бернштейн—105.
Колодкевич—38.
Кольцов—23.
Кон—41.
Константин—26.
Корниловы, сестры—167.
Кохер—155.
Кравчинский (Степняк), С. М.—4, 5,
31, 35, 38, 39, 60, 61, 164,168, 201.
Краснова, Мария, см. Каменская,
Бети.
Кропоткин—31, 164, 171, 196.
Кропоткин, губернатор—39.
Кугель—206.
Куперник—61. Куприянов—32, 167.
Лавелэ—229.
Лавров, П. Л. (Миртов)»-5, 31, 33,
54—59, 69, 74, 142. 206, 211, 213,
219, 220, 223.
Лазарев - 73
Ланганс—67
Лассаль, Ф. 16, 47, 81, 127,128,
Левенталь братья - 41 130.131,139,151, 155-159.
Левков,-203, 205-215.
Лермонтов—23.
Лефрансэ-201
Либерман—56—58, 68. 153, Ь>9 -161.
Либкнехт—159.
Лизогуб—40, 169.
Лисеагарэ—56.
Лопатин-39.
Лорис-Меликов—40, 207.
Лурье, Герц—140.
Лурье, Семен—41,130, 139—148, 153.
Любатович—94-
Майер—41.
Макаревич—220.
Маликов—167.
Маркс, К.—10, 52, 74, 75, 136, 159, 190.
Мартов—139.
Меринг, проф.—150.
Минаков—39, 41.
Минор-42, 105.
Мирский—39, 41, 209.
Миртов см. Лавров.
Михайлов, Л.—37, 38, 171, 172.
Михайлов, Т.—39.
Михайловский, И.—175.
Млодецкий 38—40.
Морейнис, Фанни—41.
Морозов—38.
Мост, Иоанн—159.
Муравский—41. Муравьев—25—28, 41.
Мышкин—39, 41, 87.
Наполеон I—81.
Натансон, Марк—30, 31, 37, 55,164—
179, 184, 190.
Некрасов—23, 45, 206.
Нечаев—9, 41, 47, 48, 52, 53,
Николай 1—8, 11, 13. 21. Николай II—73.
Новаковская—98— 105.
Новаковский, Хаим—98—105.
Носович, Л. М.—205, 208, 213.
Ноткин—105.
Нотович—74.
Обнорский—134.
Огарев—9, 37.
Оржих—41.
Осинский, Вал.—40, 171, 172
Осипанов—39
Островский—18.
Павловский, Исаак—8?- 85 -МЗ.
Парфянович, Казимир—208
Перли—42.
Перец, Григорий—8.
Перовская, Софья—31
167, 214.
Пестель— 8. Петр 1—81.
Петрашевский—9. Пик—105.
Пирогов—14.
Писарев, Д.-20, 23, 45, 47, 63, 127, 180.
Плеханов, Г. В.—4, 5, 37, 97, 113, 114, 132-139, 164, 172, 177, 190, 191, 201, 203.
Плеханова, Р. М—138.
Поляков—15, 52.
Попко—40.
Попов, Мих.—37, 171.
Португалов—44.
Пресняков-39, 195. Пугачев—36, 184.
Пушкин—23.
Рабинович, Моисей -77—81.
Радищев - 8.
Разин, Степан—36, 184.
Ралли, 3.—53.
Ратнер, Амалия—148.
Рейнштейн—134.
Реклю, Элизе—161, 201.
Ровенский—41.
Рогачев—32—35, 39, 41, 87, 164.
Розен—44.
Розенберг—15.
Розенфельд, Анна—54.
Розенштейн-Макаревич (Кулешова-Турати), Анна—217—230.
Розовский—40.
Романенко, Герасим—210.
Ромм—204, 212, 215.
Рубинчик, Евгения—202.
Рысаков—39.
Савинков—178.
Савонаролла—81.
Сажин—52, 219.
Сапер, Гирш—57.
Свитыч—41.
Семяновский—33.
Сердюков—165, 167.
Синегуб—31, 34, 35. Сиряков—33, 40.
Смирнов—52, 219.
Соколов—219.
Соловьев-39, 134, 186.
Спиноза—81.
Сощин—143.
Станкевич—9.
Стемпковский—53.
Стефанович—37, 83,135,170, 203, 209, 214, 223—225.
Стрельников—40.
Субботин—94, 95.
Суворин—34, 85.
Суханов—39.
Талалов—38.
Тетельман, Юлий—80—82, 95.
Тихомиров—35, 38, 55, 201.
Тищенко—35, 154.
Ткачев-151, 219.
Толстой, Д. А.—207.
Толстой, Лев—60.
Трубович—213.
Трудницкий—220—222.
Турати, Филиппо—230.
Тургенев, И. С—17, 23, 45, 84, 127,
180, 207, 229.
Тютчев—190.
Ульянов—39.
Успенский, Гл.—191.
Утин, Николай—9, 25, 52.
Фелькнер—49, 50.
Фесенко—106.
Фигнер, Вера—38, 39, 51, 164, 210.
Фигнер, Лидия—95.
Фигнер, сестры—94.
Флеровский, см. Верви.
Фомин—207, 208.
Франжоли—67.
Фрей—42, 167.
Фриденсон—39, 41.
Фроленко, М. Ф.—38.
Халтурин—39.
Хлебников, проф.—127.
Хотинский—35, 179, 185, 193—202.
Хургин—207.
Цицианов—41.
Цукерман—39, 41, 153, 158.
Чайковский—60, 165, 167.
Чарушин—31, 167.
Чернов—178.
Чернышев—96.
Чернышевский—20, 23, 25, 45, 81, 108, 113, 127, 180, 206.
Чертов (Левин, «Холомоний»)—209,
212. Чудновский, Соломон—34, 63—77
130, 140.
Шварцман, Дора—144.
Шевырев—39.
Шестов, Лев—144.
Шефтель, Фелиция—99, 105—112,
209. Шехтер, Софья—41.
Ширяев—38.
Шифф, проф.—157.
Шишко—31. Шмулевич—44.
Штильман—83, 84.
Штромберг—39. Шур-105.
Щеголев, И. Е.—24.
Эдельштейн, Моисей—85.
Эдисон—60.
Эмме—222.
Энгельс—56, 74, 75, 136, 159, 190.
Эфрон, Я.-210.
Юрковский—35.
Яковенко—213.
Яковлев, И., см. Павловский.
Янчевский—208.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие стр. 3
Введение: Краткий очерк положения евреев в России и их роли в революционном движении стр. 8
1- В царствование Николая I
2. При «царе-реформаторе» стр.14
3. Отношение еврейской молодёжи
к первым революционным выступлениям - стр. 27
4. Участие евреев в народно- террористическом движении стр. 37 (Весьма интересный термин «народно-террористическое движение».
Глава I. Лазарь Гольденберг стр. 43
Глава П. Соломон Чудновский стр. 63
Глава Ш.
1. Моисей.Рабинович стр. 77
2. Юлий Тетельман стр. 80
3. Исаак Павловский стр. 83
4. Аронзон и Эдельштейн стр. 85
Глава IV.
Женская молодежь стр. 88
1- Бетти Каменская
2- Новаковская стр.98
3. Фелиция Шефтель стр.105
Глава V.
Александр Бибергаль стр.112
Павел Аксельрод стр.123
Семен Лурье стр.140
Д-Р Исаак Каминер и кружок П.Б.. Аксельрода стр. 149
Братья Левентали стр. 155
Григорий Гуревич стр. 158
Глава IX. Марк Натансон стр. 164
X. Землевольцы: стр. 179
1- Иосиф Аптекман
Александр Хотинский стр. 193
Чёрнопередельцы стр. 202
Бунтари: Анна Розенштейн0Макаревич стр. 216
Источник - http://zarubezhom.com/DeuchLev...
Приложение:






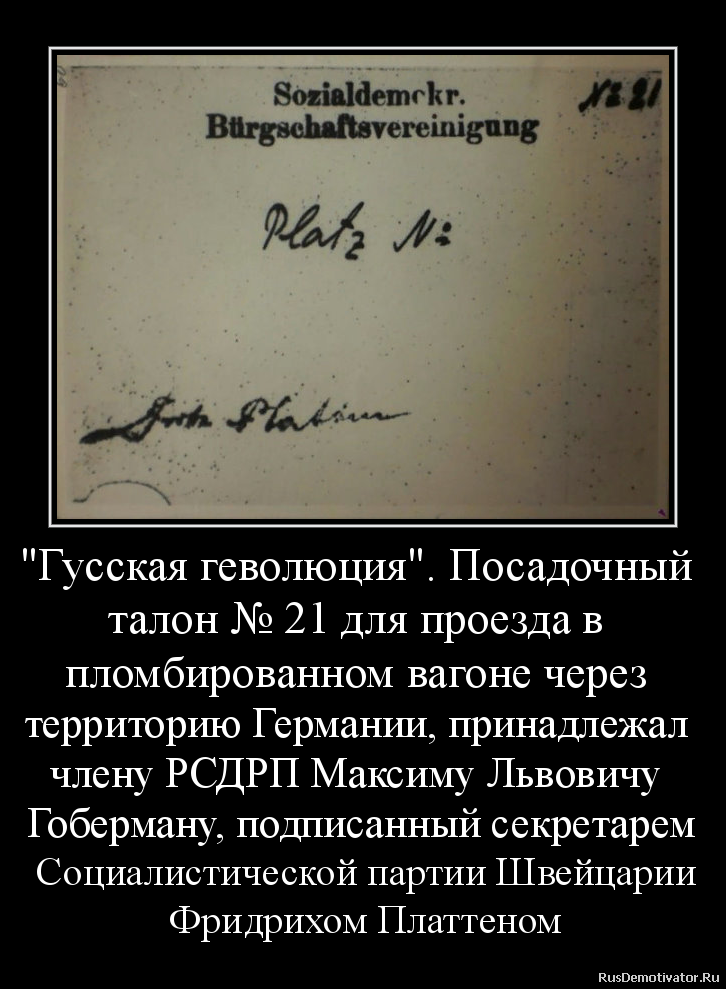
Ссылки по теме:
Хайнц Франке. Немецкие рабочие о "Большевистском надувательстве" - https://cont.ws/@providenie/22... Марк Твен. Мы — англосаксы - https://cont.ws/@providenie/2280246 "Победа" без свободы от ига иудейского, это беда для неевреев всего мира пархатые самозваные инородцы Джугашвили и Зеленский это демонстрируют воочию - https://cont.ws/@providenie/2280229 В.М. Кульчицкий. Советы молодому офицеру - https://cont.ws/@providenie/2279956 На освобождаемой Русской Армией земле Донбасса марксизм ищет русских дураков, которые против исторической России - https://cont.ws/@providenie/2279810 М.В. Назаров. От забесовленности надо освобождать не только украинцев... - https://cont.ws/@providenie/2279677 Мануэль Саркисянц. Английские корни немецкого фашизма - https://cont.ws/@providenie/2279662 В США "Школа в Иллинойсе создала Сатанинский Клуб для учеников младших классов" в ответ на, как они сказали, на "ужасную христианскую индоктринацию"! - https://cont.ws/@providenie/2279649 Проф. И.А. Линниченко. Малорусскій вопросъ и автономія Малороссіи - https://cont.ws/@providenie/2279150 Геноцид гоев в Америке - https://cont.ws/@providenie/2278719 Глухонемые шпионы - https://cont.ws/@providenie/2278696 И.А. Поляков. Краснов-Власов. Воспоминания - https://cont.ws/@providenie/2278678 Месть русским и России от лондонских марксистов за нерусский СССР - https://cont.ws/@providenie/2278649 Кн. А.М. Волконский. Имя Руси в домонгольскую пору - https://cont.ws/@providenie/2278394 Игорь Стрелков «Как и чем нам обустроить украину» - https://cont.ws/@providenie/2278376 Жизнь в СССР колхоз дело добровольное - https://cont.ws/@providenie/2278235 О.И. Грейгъ. Революция полов, или Тайная миссия Клары Цеткин - https://cont.ws/@providenie/2278223 Рисёрч по на тему Свободы в США вынесен в отдельный файл - https://cont.ws/@providenie/2278204 А.Ю. Андреев. Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века - https://cont.ws/@providenie/2277524 А. Орлов. Тайная история сталинских преступлений - https://cont.ws/@providenie/2277512 Джон Раймонд Кристофер. Самолечение травами на дому - https://cont.ws/@providenie/2277133 Д.О. Чураков. Бунтующие пролетарии: рабочий протест в Советской России (1917-1930-е гг.) - https://cont.ws/@providenie/2277117 В РФ даже и намёка нет на то чтобы заставить извиняться советских евреев сталинистов за пархатого самозванца, Сталина который сидел на шее русского народа и оскорблял Россию и русских, вернул жидам Израиль и невернул Россию русским после мая 1945 г. - https://cont.ws/@providenie/2277084 О.С. Смыслов. Богоборцы из НКВД - https://cont.ws/@providenie/2276740 Э. Дрюмон. Еврейская Францiя - https://cont.ws/@providenie/2276513 Н.О. Лосский. Бог и мировое зло - https://cont.ws/@providenie/2276488 Н.И. Анисимов. Психотронная Голгофа - https://cont.ws/@providenie/2276459 Проф. А.П. Столешников. Чем наполнить организм? - https://cont.ws/@providenie/2276445 Евреи в НКВД Украины: палачи и жертвы - https://cont.ws/@providenie/2276096 Приговор России подписали 33 года назад. Раскрыт план уничтожения русских - https://cont.ws/@providenie/2276081 Сэр Роберт Брус Локкарт. Моя Европа. Sir Robert Bruce Lockhart "My Europe" Лондон, 1952 г. - https://cont.ws/@providenie/2276066 Энтони Саттон (перевод: Т. Симонова).Уолл-стрит и приход Гитлера к власти - https://cont.ws/@providenie/2276056 Соскучились по СССР и хотите зигануть (партийное приветствие) под даздраперму советского режима? Тогда вам сюда! Сталин: «Долой (русскую) Царскую монархию! Да здравствует Первое мая!» - https://cont.ws/@providenie/2275990 И. Володский. Истоки зла (Тайна коммунизма) - https://cont.ws/@providenie/2275456 Проф. А.П. Столешников. Как вернуться к жизни - https://cont.ws/@providenie/2275449 Т.Б. Фадеева. Преступления в психиатрии - https://cont.ws/@providenie/2275441 Strik-Strikfeldt Wilfried Karl Gegen Stalin und Hitler Штрик-Штрикфельдт Вильфрид Карлович Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное Движение - https://cont.ws/@providenie/2275431 Пора уже давно отделить "мух от котлет", т.е., сиономарксиста Джугашвили от России который гнобил русских в России и всех гоев - https://cont.ws/@providenie/2275012 Политические репрессии в Рязани. Ряжский Концлагерь. 1920-1921 гг. - https://cont.ws/@providenie/2274734 Ещё одно сталинское детище советского образования. Катехизис еврея в СССР. Не наше дело заботиться о русских национальных кадрах - https://cont.ws/@providenie/2274609 Преп. Максимъ Грекъ († 1556 г.) Сказаніе о рукописаніи грѣховнѣмъ - https://cont.ws/@providenie/2274590 Ю. Иовлев. Памятка гражданам СССР, выезжающим за границу - https://cont.ws/@providenie/2274331 Арон Иосифович Каценелинбойген. Советская политика и экономика - https://cont.ws/@providenie/2274301 "Марксизм и национальный вопрос". Иудин грех тов. Сталина - https://cont.ws/@providenie/2273986 Советский режим и «советская церковь» - https://cont.ws/@providenie/2273978 Б.В. Сенников. Тамбовское восстание 1918−1921 гг. и раскрестьянивание России 1929−1933гг. Тамбовская Вандея - https://cont.ws/@providenie/2273972 Дневник Клары Шеридан. Из Лондона в Москву - https://cont.ws/@providenie/2273957 «Государство пролетариата» и «народная власть». Бунты в СССР, о которых помалкивали - https://cont.ws/@providenie/2273952 Как красные генсеки русские моря раздавали. В 1990 году, идя на уступки Соединённым Штатам, СССР отдал им огромную территорию - https://cont.ws/@providenie/2273165 Л.М. Абраменко. Багреевка. Притихшая Ялта - https://cont.ws/@providenie/2273157 Edna Adean Proctor. A Russia Jorney. Путешествие в Россию в 1867 году" Boston. James R. Osgood and Company. 1872 - https://cont.ws/@providenie/2272641 С.В. Волков. Красный террор глазами очевидцев - https://cont.ws/@providenie/2272612 И.В. Киреевский. Разум на пути к Истине - https://cont.ws/@providenie/2272603 Русский язык при Советах - https://cont.ws/@providenie/2272425 Н.И. Киселев-Громов. "Лагери смерти в С.С.С.Р" - https://cont.ws/@providenie/2272416 В.В. Розанов. Среди обманутых и обманувшихся - https://cont.ws/@providenie/2272397 Центральное статистическое управление СССР. Воспоминания бывшего сотрудника - https://cont.ws/@providenie/2272368 Отчёт профессионального американского разведчика майора Стэнли Вошборна о положении в России на лето 1917 года - https://cont.ws/@providenie/2271950 Захваченная жидами в русском Киеве Рада приняла закон об уголовной ответственности для неевреев за антисемитизм. Ранее подобную дичь в захваченном у неевреев доме мог себе хуцпически позволить только подонок Джугашвили - https://cont.ws/@providenie/2211852 Обращали внимание на то что ни при пархатом оккупационном СССР, ни в РФ нет закона по предотвращению и привлечению к ответственности за ненависть и причинения вреда неевреям? - https://cont.ws/@providenie/2211543 CCCР под Еврейским Игом - https://cont.ws/@providenie/2035109 Новая иудея, или разоряемая Россия - https://cont.ws/@providenie/2034615 Тайна аббревиатуры СССР - https://cont.ws/@providenie/2034253 Русский народ, ходит теперь по своим российским улицам, как по иностранным, и не может прочесть вывески на английском языке, недоумевая, чтобы могли означать вывески: "секонд-хенд", "роуминг", "лизинг", "шейпинг", "паркинг", "холдинг" "бординг", "офф-шор", "биллборд", "рокер", "байкер", "рэпер", "хакер", "брокер", "менеджер", "данс", "минивэн", "таун-хаус", "молл", "брэнд", и тд… см., далее – https://cont.ws/@providenie/1351774


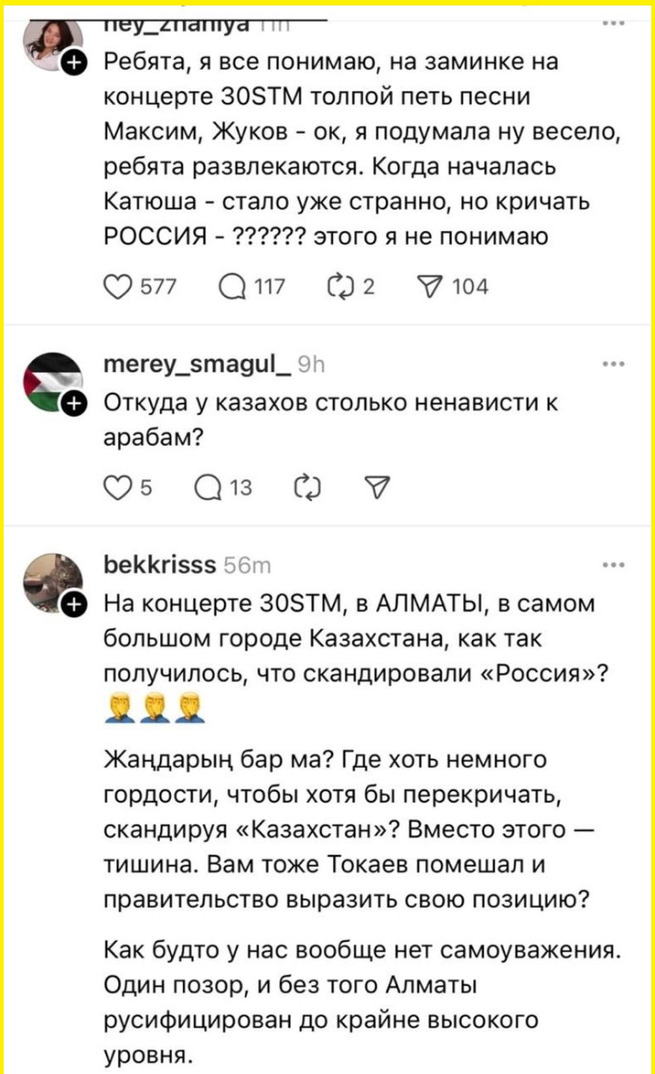


Оценили 2 человека
2 кармы