
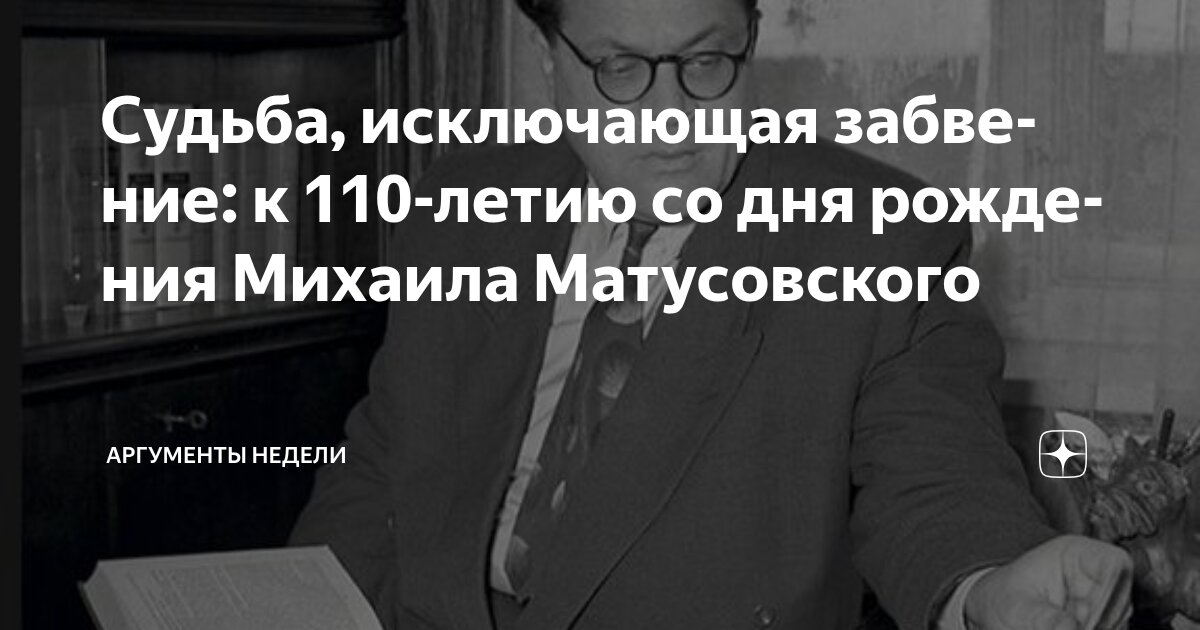
Так уж сложилось, что мысленно перелистывая страницы из внушительного творческого багажа замечательного советского поэта Михаила Матусовского, 110-летний юбилей со дня рождения которого приходится на 23 июля, вспоминается его проникновенная песня «Комиссары». Написанная Михаилом Львовичем и композитором Евгением Жарковским в начале 1970-х годов, она блестяще исполнялась прекрасным украинским баритоном, народным артистом СССР Анатолием Мокренко. Многие советские граждане впервые услышали её в ходе проведения Всесоюзного телевизионного фестиваля эстрадной песни «Песня года — 77».
Хоть седеют давно виски,
Для меня вы ещё не стары,
Замполиты, политруки,
А по-прежнему — комиссары.
Ваше слово на той войне,
К сердцу путь
самый верный выбрав,
Шло с гранатами наравне,
Со снарядами всех калибров.
Обжигая командой рот —
Видно, участь у вас такая,
Всюду первыми шли вперёд,
За собою нас увлекая.
Такие глубокие, ёмкие, вобравшие в себя самую суть строки мог написать, думается, лишь фронтовик, своими глазами видевший войну и не понаслышке знавший о подвигах политработников Красной Армии — скромных, требовательных прежде всего к самим себе, принципиальных, настойчивых, мужественно сражавшихся с врагом, приближавших Победу и во многом в «лихие 90-е» и в более поздние годы оболганных. Но ни Матусовский, ни замечательный композитор Жарковский с этой беспардонной ложью уже не столкнутся… Благодаря песне «Комиссары» добрая память о политработниках Красной Армии — победительницы навсегда останется безупречной, светлой и величественной.
«Крейсер «Аврора», «С чего начинается Родина?», «Баллада о солдате», «Вернулся я на родину», «Московские окна», «Летите, голуби», «Вечер вальса», «Подмосковные вечера», «Школьный вальс», «Хорошие девчата», «Старый клён», «Чёрное море моё», «Руки рабочих», «Песня о дружбе», «Лодочка», «Романс Лапина» («Что так сердце растревожено»), романс «Белой акации гроздья душистые», «Была судьба…», «На безымянной высоте», «Ленинградский метроном», «Комиссары», «Солдат — всегда солдат», «И только потому мы победили», «Ветераны», «Это было недавно, это было давно!», «Шахтёрский характер» («Шахтёрская песня»), «Песня о гудке», «Последний звонок», «Берёзовый сок», «Мне вспомнились снова…», «Девушка из Бреста», «Как вы быстро растёте, мальчики», «В сердце у меня», «Такая короткая долгая жизнь», «Пилот не может не летать», «Вологда», «Ну почему ко мне ты равнодушна?», «Вместе весело шагать», «Минуты тишины» — лучшие песни Михаила Матусовского, о которых можно рассуждать без конца. И каждая из них — небольшой, но точный портрет времени, снимок из недалёкого прошлого, который можно воспринимать в качестве конкретного жизненного эпизода, касавшегося буквально всего советского общества и отдельных его сфер, отраслей, городов, историй, житейских ситуаций.
Песни на стихи Матусовского — явление яркое, содержательное, наполненное сочными красками жизни, настоящей любовью, лучшими помыслами и настроениями, искренними чувствами, патриотизмом, преданностью социалистическому Отечеству, священной памятью о Великой Отечественной войне.
Музыку на слова поэта писали такие замечательные советские композиторы, как Василий Соловьёв-Седой, Исаак Дунаевский, Матвей Блантер, Тихон Хренников, Евгений Жарковский, Вениамин Баснер, Марк Фрадкин, Борис Мокроусов, Ян Френкель, Оскар Фельцман, Александра Пахмутова, Владимир Шаинский, Эдуард Колмановский, Андрей Петров.
Кстати, известный советский композитор, народный артист РСФСР Марк Фрадкин в газете «Советская культура» (в номере от 20 июля 1976 года) в рамках выдвижения Матусовского на соискание Государственной премии СССР, которой он будет удостоен в следующем году, напишет: «Песни писать трудно. Но ещё труднее написать такую, чтобы она стала для человека частью его мыслей и чувств. В таких произведениях музыка и стихи должны сливаться в единый поэтический образ.
Однако далеко не все поэты, даже известные, могут постичь до конца душу настоящей песни, а Михаил Матусовский может. Песня стала его любовью. Это, конечно, не значит, что столь интересный писатель пишет только песни. Мы знаем его стихи, поэмы, рассказы, которые похожи на песни в прозе. Это как бы размышления о детстве, о жизни, о дорогах войны, о фронтовых товарищах…
Но песенному жанру он отдаёт большую часть своего времени, находится в постоянном творческом поиске. И создаётся впечатление, что не Матусовский находит песню, а она находит его. Так и идут они по жизни вместе — Матусовский и его песни».
С этим мнением авторитетного композитора, автора многих известнейших советских песен трудно не согласиться. Марк Григорьевич знал, о чём и о ком говорил. С Матусовским он начал сотрудничать ещё в 1946 году, написав музыку к первой его песне «Вернулся я на родину», открывшей, по всей видимости, для поэта мир звучащего слова и само понимание песенной основы собственной поэзии, её музыкальности и лиричности, буквально требовавшей песенного обрамления, позволявшего достигать звучности и большей доступности для слушателей, по крайней мере в сравнении с поэзией как таковой, ориентированной, как известно, на интимность.
Вспомним и мы слова этой знаменитой песни, которую в разные годы исполняли Леонид Утёсов, Владимир Бунчиков, Леонид Кострица, Юрий Богатиков, Ренат Ибрагимов и другие прекрасные советские певцы.
Вернулся я на родину.
Шумят берёзки встречные.
Я много лет без отпуска
служил в чужом краю.
И вот иду, как в юности,
я улицей Заречною
И нашей тихой улицы
совсем не узнаю.
Здесь вырос сад над берегом
с тенистыми дорожками,
Окраины застроились,
завода не узнать.
В своей домашней кофточке,
в косыночке горошками
Седая, долгожданная меня
встречает мать.
Ну а разве можем мы сегодня позабыть одну из самых проникновенных, любимых и чтимых советскими людьми песен о Родине, ту самую, которая нам напоминает о песнях матери, о букваре, о «заветной скамье у ворот», о русских наших берёзках? Нет, не можем! Песню эту, музыку к которой написал Вениамин Баснер, к счастью, нам — всему многонациональному российскому народу — никогда не забыть.
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых
испытаниях
У нас никому не отнять.
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой берёзки,
что во поле,
Под ветром склоняясь, растёт.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги просёлочной,
Которой не видно конца.
А какие задушевные слова в прекрасной, доброй и светлой песне Александры Пахмутовой «Старый клён»! Впервые прозвучав в 1962 году в легендарном фильме Юрия Чулюкина «Девчата», эта песня вот уже более шести десятилетий не теряет своей популярности. Её по-прежнему любят и поют на больших концертах в Кремлёвском дворце и на небольших сценах сельских клубов, в самодеятельных коллективах, в учебных заведениях, в домашних застольях, да и просто в быту, когда приходит хорошее настроение, но при этом хочется немного взгрустнуть, вспомнить молодые годы, первую влюблённость, прогулки допоздна…
Старый клён, старый клён,
Старый клён стучит в стекло,
Приглашая нас с друзьями
на прогулку.
Отчего, отчего,
Отчего мне так светло?
Оттого, что ты идёшь
по переулку.
Снегопад, снегопад,
Снегопад давно прошёл,
Словно в гости к нам весна
опять вернулась.
Отчего, отчего,
Отчего так хорошо?
Оттого, что ты мне
просто улыбнулась.
Незабываемы, разумеется, и любимые народом «Подмосковные вечера», написанные Матусовским в 1956 году в содружестве с прославленным композитором Василием Соловьёвым-Седым. Первым их исполнителем станет Владимир Трошин, в 1957 году покоривший «Подмосковными вечерами» участников VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, проходившего в Москве. Ну а затем эту песню станут исполнять знаменитые оперные, камерные, эстрадные певцы, хоры и оркестры, причём как в нашей стране, так и за рубежом, на всех континентах планеты Земля. Известны переводы слов песни на немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, шведский, эстонский, финский, венгерский, китайский, вьетнамский, японский, турецкий языки.
На английском и французском языках «Подмосковные вечера» блестяще исполнял выдающийся советский эстонский певец, один из лучших баритонов огромной страны Георг Отс. А вот на итальянском языке эту песню в 1964 году в Италии исполнял уже бесподобный украинский советский тенор Анатолий Соловьяненко. Ныне же на русском языке «Подмосковные вечера» прежде всего поют в России, Белоруссии, других странах СНГ, а также в КНР и КНДР.
Поистине, в песне этой, в словах её и музыке кроются не только глубокий смысл и особая зачаровывающая красота, но и что-то большее, что однозначно объяснить даже и не получится. Похоже, что в «Подмосковных вечерах» заложены наши национальные коды и скрепы, духовно близкие практически каждому русскому по рождению и русскому по миросозерцанию человеку, всем тем, для кого Россия — это не просто страна проживания, а единственная, любимая, прекрасная, животворящая Родина. Родина, родней и желанней которой на всей планете и быть больше не может!
Не слышны в саду даже шорохи,
Всё здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.
Что ж ты, милая,
смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать
и не высказать
Всё, что на сердце у меня.
Представители старшего поколения, вне всякого сомнения, хорошо помнят кинофильм известного режиссёра Михаила Калатозова «Верные друзья», вышедший на экран в 1954 году. Именно в нём впервые прозвучит проникновенный «Романс Лапина» («Что так сердце растревожено…»), музыку к которому написал выдающийся советский композитор Тихон Хренников.
С тех пор прошло более семидесяти лет, а этот романс на стихи Матусовского, в разные годы исполнявшийся Георгом Отсом, Муслимом Магомаевым, Евгением Кибкало, Дмитрием Гнатюком,
Иосифом Кобзоном, Сергеем Захаровым, Сергеем Беликовым, Василием Герелло, Олегом Погудиным, всё так же завораживает, очаровывает и демонстрирует проявление искренней, настоящей, благородной любви. Любви, о которой не следует кричать и говорить громко. Любви, которую не выставляют напоказ. Но при этом именно той любви, что тревожит сердца, завладевает ими полностью, раз в жизни и навсегда…
Что так сердце,
что так сердце растревожено,
Словно ветром тронуло струну?
О любви немало песен сложено,
Я спою тебе, спою ещё одну.
По дорожкам,
где не раз бродили оба мы,
Я пройду, мечтая и любя.
Даже солнце светит по-особому
С той минуты, как увидел я тебя.
Все преграды я смогу
пройти без робости,
В спор вступлю с невзгодою любой.
Укажи мне только
лишь на глобусе
Место скорого свидания с тобой.
Без малого пять десятилетий назад, в 1978 году, в кинофильме Михаила Жарова и Виталия Иванова «И снова Анискин», снятого по сценарию известного писателя Виля Липатова, впервые прозвучала песня на музыку Владимира Шаинского «Вместе весело шагать». В том же году её исполнил Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио под руководством Виктора Попова (солист — Дима Голов). Получив всесоюзную известность, эта добрая, весёлая, заводная детская песенка и ныне радует юных слушателей. Впрочем, её любят и старшие сограждане — все те, кто с ней продолжает идти по жизни.
Спой-ка с нами, перепёлка,
перепёлочка,
Раз иголка, два иголка —
будет ёлочка.
Раз дощечка, два дощечка —
будет лесенка,
Раз словечко, два словечко —
будет песенка.
Вместе весело шагать
по просторам
И, конечно, припевать
лучше хором!
О каждой песне Матусовского есть что рассказать. По большому счёту, у всех у них, талантливо и душевно написанных, судьба сложится счастливо. Они обретут прекрасное музыкальное оформление, их станут исполнять замечательные вокалисты, каждая из них приобретёт определённую популярность. И, что самое главное, большинство песен Михаила Львовича с развалом Советского Союза не канут в Лету. Их не забудут ни профессиональные исполнители, ни организаторы культуры в столице, в регионах и на местах, ни простые люди, знающие многие песни Матусовского наизусть. Потому-то и продолжают они звучать, причём чаще где-то в нашей глубинке, на сельских всенародных праздниках, в домах культуры и клубах, в исполнении народных коллективов и хоров, а также и талантливых солистов, коих в России великое множество.
Уроженец Луганска, учившийся в строительном техникуме и Донецком институте народного образования, Матусовский прекрасно знал о степном раздолье юга, шахтёрских городках, степных ветрах, Млечном Пути, курганах, величественных орлах и вечном дыхании древности, о труде шахтёров, их мужестве и выносливости. По существу, все эти «родовые приметы» в его поэзии сливались воедино.
Могу считать холмов
двугорбые верхи.
Могу бродить без троп,
репейник приминая.
Могу писать гекзаметром
стихи, —
Так медленно влачится
жизнь степная.
Роится Млечный Путь.
Волнуется ковыль.
Здесь сохранился мир таким,
каким он создан:
На много тысяч вёрст
одна и та же пыль,
Один и тот же путь,
одни и те же звёзды.
Там, на юге, в Луганске, переименованном в Ворошиловград, Матусовский, работавший на легендарном заводе имени Октябрьской революции техником, начнёт писать стихи. Вспоминая то время, много лет спустя Михаил Львович скажет: «…если возвращаться к истокам, то они там, где небо не бывает спокойным из-за ночных плавок, где мальчишками нас водили педагоги в просторные, как храмы, уходящие в небо котельные и сборочные цеха, где даже писательская организация называлась по-горняцки — «Забоем».
Потом будет переезд в Москву, где Матусовский поступит в Литературный институт им. А.М. Горького. Обучаясь в нём, он увлечётся древнерусской литературой, а в 1939 году сдаст экзамены в аспирантуру, где его научным руководителем станет крупный учёный, знаток древнерусской литературы, «человек исключительной доброты и порядочности» Н.К. Гудзий. Именно он, глубоко чтимый поэтом Николай Каллиникович, добьётся того, чтобы защита кандидатской диссертации отправившегося на фронт военным корреспондентом Матусовского, проходившая в последних числах июня 1941 года, состоялась без соискателя.
«Уже на Западном фронте получил я телеграмму о присвоении мне степени кандидата филологических наук, — признаётся поэт по прошествии четырёх десятилетий. — Среди потрясений от первых горящих городов, первых бомбёжек, первых беженцев, первых раненых, первых пленных, первых убитых я не успел даже порадоваться сообщению из Москвы. Неожидан и резок был переход от диссертационных дел, стеллажей с летописными сводами, возни с перепечаткой автореферата, знакомства с отзывами оппонентов — к делам и нуждам фронтовой многотиражки. Только иногда повороты дороги, холмистые берега реки, пятиглавья церквей, сводчатые башни скитов, старинные названия деревень в тех краях, куда бросала меня фронтовая судьба, казались мне продолжением того, о чём недавно читал я на страницах летописей. Не было дистанции между веком тринадцатым и двадцатым: так же лежали в чистом поле незахороненные воины, так же стояли насмерть вещие вороны и плакали вдовы, как в дни нашествия Батыя».
Человек, прошедший дорогами Великой Отечественной войны, воевавший, всегда хранил в своём сердце память о той страшной войне. Продолжают её хранить и те участники войны, кто здравствует и сегодня, по прошествии восьмидесяти лет со времени завоевания нашей Великой Победы. Что же касается воевавших художников, то, как правило, они избирали Отечественную войну главной темой своего творчества. Вернее сказать, эта тема избирала их и заставляла служить ей всю жизнь. Потому-то лучшие стихи Матусовского — о войне, о мужестве и человечности, которые неизменно идут рядом. Недаром же, спустя много лет после завершения войны, поэт напишет:
В сырых землянках,
в сумраке траншей —
Нигде я не встречал
плохих людей…
Казалось, здесь Россия собрала
Всё лучшее, что только
лишь могла.
Военные стихи Матусовского нельзя читать без волнения и сердечной боли, живущей в каждом, кто перенёс войну, — в солдате или тогдашнем ребёнке, который, повзрослев, живя спокойно и, может быть, даже счастливо, при виде почтальона не одно десятилетие испытывал (возможно, испытывает и сейчас) мгновенный страх, оставшийся со времени военного лихолетья, — страх ожидания похоронки.
Давно бытует мнение, что нельзя отождествлять личность художника с личностью его лирического героя. Ну а разделить лирического героя поэмы «Голоса Равенсбрюка», цикла стихов, посвящённого Хиросиме, с личностью Матусовского — солдата, поэта, мужественного и доброго человека, так и подавно не представляется возможным. Этот же образ встаёт и со страниц его «Семейного альбома» — повести о жизни, о войне, боевых товарищах, о путешествиях и снова о войне. «И опять — о войне, о войне — о другом пусть напишут другие». Матусовский в действительности много и хорошо писал в стихах и прозе о мирной, повседневной жизни, о любви, о горечи потерь и о человеческом счастье. И его долг перед боевыми друзьями и товарищами для него был превыше всего. Посему и писал Михаил Львович о войне.
А память готова
взорваться опять,
Лишь только её вы затроньте.
Вы знаете, где нам
пришлось воевать?
На Северо-Западном
фронте. <…>
В зажатой на горле
страны пятерне
Торчали мы вместо занозы.
И если поэзия есть на войне,
Мы были страницею прозы.
Мы, встав здесь однажды,
не двигались вспять,
Решив не сдаваться
на милость.
Наверно, поэтому нас убивать
По нескольку раз приходилось.
Эти строки из стихотворения «На Северо-Западном фронте», написанного в 1974 году, звучат как напоминание о службе на Северо-Западном фронте, о мерзостях войны, о всём пережитом. Тогда же, на рубеже 1974—1975 годов, к тридцатилетию Победы, Матусовский сочинит и другие стихи, напрямую связанные с темой Великой Отечественной войны, которую он начал раскрывать сразу с началом войны, в 1941 году. Вспоминая же тот страшный год, Михаил Львович в 1975 году напишет стихотворение «Воспоминание о 41-м годе», в котором прозвучит его признание о первом ранении и о волнении, сопровождавшем его тогда:
Ну а было то, в общем и целом,
Года тридцать четыре назад:
Я был ранен
под городом Белым
И попал в полевой медсанбат.
Вот, в себя приходя понемногу,
Я в брезентовом доме лежу
И свою неподвижную ногу
В подвесном положенье держу.
Я лежу на земле, как на плахе.
Это всё словно бред наяву:
Самолёты немецкой
Люфтваффе
Еженощно летят на Москву.
Зная нутро фашизма не по книгам и рассказам посторонних людей, а изнутри, насмотревшись на него собственными глазами, Матусовский не мог спокойно воспринимать сообщения из-за рубежа, говорившие о том, что фашизм не добит окончательно и его приспешники вновь подымают голову. В 1975 году, возмутившись новостью о недавнем слёте в австрийском местечке Крумпендорфе бывших вояк гитлеровских дивизий СС, поэт напишет гневное стихотворение «Бесы». Оно, увы, чрезвычайно созвучно и нашему времени, когда на «коричневые» слёты и сборы собираются уже внуки и правнуки нацистских головорезов, продолжающие грезить о фашистском реванше.
Протянутых рук
ощетиненный лес,
Сто глоток орущих в восторге…
Торжественный слёт
ветеранов СС
Сегодня открыт
в Крумпендорфе.
Как будто ворвавшись вдруг
в город ничей,
Что сразу замкнулся и замер,
Идут кочегары особых печей,
Конструкторы газовых камер.
Идут, засучив рукава, мастера
Допросов, арестов и ссылок,
Стрелявшие, кажется,
только вчера
Своим заключённым
в затылок. <…>
Седые поклонницы
лезут вперёд,
Тесня представителей прессы.
Идёт косяком
человеческий сброд,
На шабаш слетаются бесы.
Но Матусовский не был бы самим собой, если бы это стихотворение не завершил, что называется, разгромом. Если бы не подвёл закономерный итог, о котором не следует забывать и нам, потомкам воинов-победителей, и сегодняшним защитникам Отечества, борющимся с новыми проявлениями фашизма, нашедшего питательную среду в некогда цветущей и экономически развитой Украине, бывшей второй по значимости советской республикой.
Как в стареньком телике,
сеткой сплошной
Морщины покрыли их лица.
Живут они в мире
надеждой одной —
Кому-то ещё пригодиться.
Я слышу оркестров
воинственный гром,
Сменяемый хриплым
напевом, —
И только жалею,
что в сорок втором
Не всех их добили под Ржевом.
Стихи Матусовского о Великой Отечественной войне — особые, правдивые, в них нет усложнённости, заменяющей суть, а также парадности и ложной патетики. Они звучат весомо, однако не нуждаются в применении фанфар. Мироощущение их лирического героя сродни мироощущению рядового солдата — настоящего патриота, вызвавшегося самоотверженно сражаться за Родину. Читая их сегодня, мы наблюдаем вехи и приметы войны, мы познаём её мерзопакостное существо, но и видим величие советского воина-победителя, воина-освободителя. Коллективного многомиллионного советского воина, о подвигах которого ни мы, ни наши потомки забывать не вправе!
…Настанут иные времена. И вот всем своим гражданским беспокойным существом поэт-фронтовик, член Коммунистической партии с 1945 года, кавалер орденов Октябрьской Революции, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны I степени, двух орденов Трудового Красного Знамени, медалей «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» в стихотворении «Ордена» восстанет против омерзительного явления времён «перестройки» (неизжитого и ныне), когда объектом купли-продажи становились советские ордена и медали:
Не успев дотянуть до получки,
По причине нехватки вина,
В суматохе базарной толкучки
Человек продаёт ордена.
Опечатанный нашею кровью
Старо-русский нетающий лёд,
Пепел Бреста
и прах Приднестровья
Человек без стыда продаёт. <…>
Там, где тесно толкучка зажата
В подворотни, дворы и углы,
Вам достанут,
лишь были б деньжата,
Орден Ленина из-под полы…
Разве ведал солдат из-под Ржева,
Разве знала солдатская мать,
Что когда-то всё это налево
Можно будет купить и продать?
Последние годы большого поэта, повидавшего мир, писавшего на разные темы, сочинявшего стихи в большинстве своём серьёзные, глубокие, с философским подтекстом, были невесёлыми, омрачёнными перестроечной кутерьмой и всей той грязью, словно бы мощным потоком обрушившейся и на него самого, и на сограждан. А Михаилу Львовичу хотелось воспевать прекрасное, любоваться красотами братской Армении, на долю которой выпало много бед (к счастью, он успеет написать о ней и её народе прекрасные, содержательные строки), но в душе поселится горечь. Этим мрачным словом он назовёт и свой последний сборник стихов, работу над которым завершит буквально за несколько дней до своей смерти, случившейся тридцать пять лет назад, 16 июля 1990 года. Ну а последний сборник Матусовского «Горечь» выйдет в издательстве «Советский писатель» в 1992 году, когда великая держава будет уже вероломно разрушена.
Я так понимаю: поэзия — это и есть умение увидеть в случайном камне, совсем никому не нужном обыкновенном камне модель всего мироздания, заметить то, что другие обычно не замечают и даже проходят мимо, ни разу не обернувшись.
Михаил Матусовский умел замечать многое и обо всём увиденном рассказывать языком поэзии. Поэзии всегда живой и в основном духоподъёмной. Давайте же почаще к ней обращаться. В ней мы отыщем ответы на многие волнующие нас вопросы.
https://gazeta-pravda.ru/issue...







Оценили 10 человек
13 кармы