
Российская газета, 8 октября 1993 г.
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» СКОНЧАЛАСЬ И ОСТАВИЛА БЕЗ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ ОБЕ СВЕРХДЕРЖАВЫ
Владимир Кузнечевский
О том, что у нашего внешнеполитического ведомства нет внешнеполитической концепции, писалось в последнее время довольно часто. Надо сказать, что повод к этому дает и сам российский МИД. Хотя бы потому, что концепция эта как таковая официально до сих пор нигде еще не опубликована. По всей видимости, по этой же причине и зарубежные специалисты признают отсутствие таковой (смотри, например, беседу американских политологов в радиостудии «Свобода» 27 июля 1993 года).
Однако мало кто обращает внимание на то, что концептуальной ясности в этой области нет и в США. В некоторой растерянности у разверзшейся перед их ногами пучины мирового беспорядка находится сегодня и эта самая мощная держава западного мира.
А ведь совсем недавно, каких-нибудь 10 лет назад в Вашингтоне считали, что у Америки существует полная ясность в этом вопросе. Как и в том что мир и порядок могут стать стабильными, стоит только устранить с международной арены «империю зла» — Советский Союз. Считалось что управлять таким миром вполне эффективно Америка сможет в единственном числе.
И вот СССР развалился. В мировой истории еще не было случая, чтобы столь гигантское государство, охватывающее 1/6 часть всей суши Земли, распалось столь стремительно. Естественно, и последствия от такого вселенского катаклизма оказались разрушительными для всей системы международных отношений. И дело, может быть, не столько в том, что рухнула одна, пусть и мощная, но все-таки одна держава А в том, что глобальное противостояние СССР и США мощным обручем опоясывало всю систему международных отношений и не давало прорываться наружу межнациональным и межгосударственным конфликтам. Сейчас же, когда Америка осталась единственной сверхдержавой, она оказалась не в состоянии эти конфликты контролировать и сдерживать.
США все еще могут военными и экономическими средствами предотвратить, скажем, захват какой-то одной державой всей Западной Европы (как это было, скажем в 30-е годы со стороны гитлеровской Германии) или противостоять агрессору в Персидском заливе. Но, как выяснилось, Вашингтон бессилен держать под контролем локальные горячие точки. Небольшие независимые государства и политические движения вступают в конфликт с оставшимся в единственном числе мировым полицейским все одновременно и во множестве — и «слон» не выдерживает нападения «мышей». Так в свое время могущественный Рим контролировал конфликты глобального масштаба, а пал под ударами облаченных в шкуры мелких, но многочисленных племен германских варваров.
Можно сказать, что СССР, рухнув как сверхдержава утащил за собой на дно и своего извечного соперника: США тоже перестают быть сверхдержавой и сейчас в буквальном смысле мечутся в поисках места в мире. Это хорошо видно, когда начинаешь сопоставлять слова и действия представителен американских правящих кругов и сугубо негативную оценку этих акций со стороны союзников в Лондоне, Париже и Бонне.
Так, государственный секретарь США Уоррен Кристофер считает, что «необходимость в американском лидерстве на мировой арене сегодня сильнее, чем когда бы то ни было, поскольку США остались единственной в мире сверхдержавой», а его заместитель Питер Тарнофф возражает ему, утверждая, что «Америка не намерена более нести такое же тяжелое бремя международного руководства, как прежде». Билл Клинтон заявляет: Соединенные Штаты остаются ныне единственной сверхдержавой мира и потому «несут на себе уникальную обязанность быть лидером» — и одновременно с этим выступает за сокращение военного бюджета ниже границы, предложенной его предшественником. А бывший государственный секретарь Джеймс Бейкер настаивает на том, что следует «развеять все эти мифы о руководящей роли Америки».
И как итог всем этим спорам звучат выводы одного из старейших американских журналов «Атлантик Мансли», написавшего, что прекращение советско-американского глобального противостояния не уменьшило а увеличило нестабильность на международной арене и привело к «концептуальной нищете американской внешней политики».
В условиях такого разброда мнений и в буквальном смысле смятения в американских верхах несколько преувеличенно оптимистично прозвучали слова министра иностранных дел России после летней встречи «большой семерки» в Токио. Андрей Козырев заявил в Японии, что «Запад вместе с Россией осуществляет совместное реформирование всего мирового ландшафта и первые принципиальные элементы этой стратегии уже налицо...»
К сожалению, так было раньше, когда противоборствующие между собою по идеологическим основам СССР и США почти весь XX век стягивали, как обручами, весь мировой международный порядок и не давали, каждый а своей полусфере влияния, выплеснуться наружу национально-радикальным взрывам масштабного порядка. Сейчас ситуация совсем иная. Идеологические мотивы более не разделяют две мировые державы. Хотя конкурентность в экономической сфере никуда не ушла, более того, в некоторых сферах (скажем, на рынке вооружений) даже обострилась. Все это требует совершенно новых подходов при разработке внешнеполитической концепции России.
По всей видимости, нашему внешнеполитическому ведомству все же не миновать разработки собственной концепции новой роли России в изменившихся международных условиях, исходя прежде всего и преимущественно из собственных национально-государственных интересов. Ведь только при наличии таковой Россия может рассчитывать на то, чтобы к ней относились как к равноправному партнеру на международной арене. А пока такого нет, вполне естественно, что США все более настойчиво предлагают свои рецепты разрешения проблем, возникающих на территории бывшего СССР.



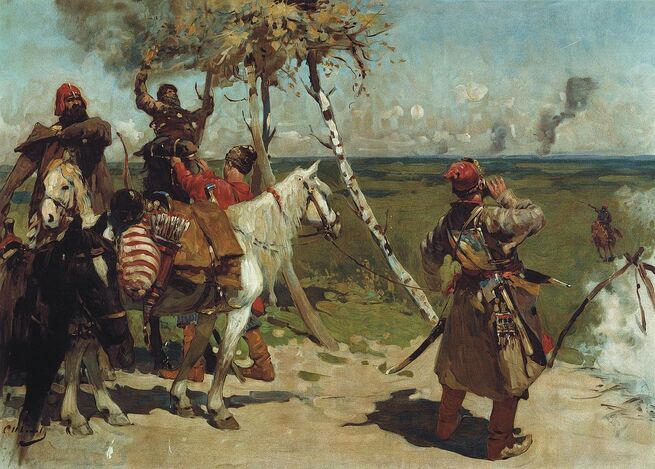
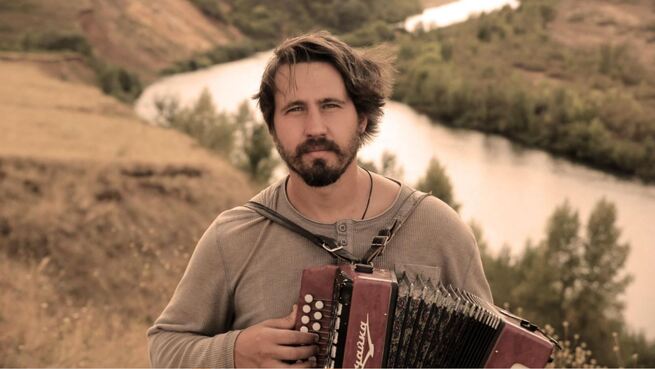


Оценили 4 человека
12 кармы