Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы продолжаем серию постов, посвящённых письменным источникам по истории восточного славянства.
Итак, сегодня мы обращаемся, пожалуй, к самому интересному вопросу…
Вопрос о достоверности летописных данных – действительно, пожалуй, основной для любого историка, пользующегося ими. Не всегда мы можем понять, как и каким образом можно доверять или не доверять тем или иным конкретным текстам. Так, при описании событий в Киеве 1147 г. летописец сообщает, что тогда речь «единого человека», вспомнившего о событиях 1068 г., спровоцировала действия киевлян, бросившихся убивать князя-инока св. Игоря Ольговича, в монашестве Феодора (1). С.М. Соловьёв в данном случае доверял древнему книжнику, И.Я. Фроянов же полагает, что речь этого «единого человек» «в той части, где говорится о зле, содеянном киевлянами в 1068 г.» - скорее «кажется изобретением самого летописца, отражающим его собственный взгляд на события 1068 г.» (2).
Далеко не всегда доверяли даже свидетельствам «Повести временных лет» (ПВЛ), дошедшим до нас в составе наиболее древних летописей. Дневные даты, отражающие начало «фиксации событий по горячим следам», в ПВЛ мы видим только с 1061 г., исключения же связаны с датами смерти князей, что, скорее всего, было почерпнуто летописцами из церковных синодиков Киева и / или Новгорода (3). Иногда тому или иному свидетельству летописи можно дать относительную датировку. Так, после описания первого поражения от половцев, понесённого Всеволодом Ярославичем, древний книжник, «с высоты своих знаний о половцах», пишет, что это было «первое зло» от этих кочевников (4). Что касается более ранних свидетельств данных источников, то Н.И. Костомаров мало доверял им, когда речь шла о событиях ранее смерти Ярослава Владимировича. В определённой степени с ним были согласны также В.Д. Королюк и М.Н. Тихомиров. П. Сойер и А.П. Богданов мало доверяли летописным известиям о событиях ранее середины X в. Особенно интересна, однако, логика именно Н.И. Костомарова, принятая А.П. Богдановым и А.А. Горским. Основным источником данного памятника до середины XI в. Н.И. Костомаров считал устные предания, разумеется, далеко не всегда надёжные (5). И.Я. Фроянов, напротив, писал о том, что при соответствующей осторожности данные ПВЛ могут дать очень многое. Аналогично рассуждали П. Бутов, И.Е. Забелин, А.В. Назаренко, А.Г. Кузьмин и Н.Ф. Котляр. М.К. Каргер отметил, что порой данные ПВЛ можно подтвердить и археологически (6), хотя, добавим мы, степень применимости такого критерия проверки весьма относительна (7).
Но следует отметить, что степень важности того или иного сообщения зависит от степени информированности самого летописца или его источника, от его провиденциалистского восприятия мира, что было хорошо известно в Средневековье, причём не только на Руси (8). Учитывая, что нас, в первую очередь, всё же интересует политогенез, необходимо учитывать и следующее замечание С.Г. Кляшторного о последнем, хотя последний писал не о восточных славянах, балтах или финно-уграх, а о кочевниках древности: «Естественно, мы можем проследить этот процесс только в том виде, в котором он представлен летописцами той эпохи, историографами, чьи ментальные конструкции и подходы к отражению окружающего мира определялись иными, чем у нас, требованиями и параметрами» (9). Однако, можно ли, в таком случае, сказать, что прошлое непознаваемое или, по крайней мере, познаваемо весьма и весьма ограниченной степени, как полагают некоторые исследователи? И в этом ключе весьма ценной является критика «деконструктивизма» со стороны выдающегося современного польского историка К. Мозделевского, в основном, в первой главе его книги «Варварская Европа». Кроме тщательного и многоаспектного изучения литературной традиции, исследователь особо упирает на сравнении тех источников, которые не могут быть связаны друг с другом, но дают близкую картину реальной жизни (10).
Кроме того, нам необходимо учитывать тенденциозность летописца, приверженности тому или иному лицу, общественной группе, земле. Злободневность, неразрывная связь с конкретной политической реальностью, согласно замечанию С.Н. Азбелева, обуславливала и то обстоятельство, что летописи обычно доводились древними книжниками до современных им событий. Современность, таким образом, как бы повторяла / вытекала из прошлого. Порой письменные источники умалчивали о «неудобных» для них событиях, смещали акценты, выгораживая тех или иных лидеров или же вечевые общины, или же преувеличивали их значение в определённых событиях. Знание о прошлом у восточных славян, впрочем, как и в других архаических культурах, порой имел прагматическое значение. Так, А.А. Шахматов писал, что «рукой летописца управляли политические страсти и мирские интересы…». В том же русле рассуждал и Б.А. Рыбаков. Лишь св. Нестор, по его мнению, был больше учёным, чем «политиком». Близок к ним и В.Я. Петрухин. О.М. Огоновский фактически даже писал о сервилизме летописцев по отношению к княжеской власти (11). Необходимо отметить, что в построениях этих исследователей имеется рациональное зерно. Так, сдержанный и доброжелательный тон по отношению к Владимирку Володаревичу мы видим в Лаврентьевской летописи (12), ибо этот галицкий князь, показанный в Ипатьевской летописи (в Киевском своде 1198-1200 г., в той его части, которая явно восходит к летописцу Изяслава Мстиславича), коварным и беспринципным, не во что не ставившим крестное целование (13), был союзником Юрия Владимировича, врага сына Мстислава Великого Изяслава. По дихотомическому принципу плохие галичане – хорошие волыняне, по мнению Д. Домбровского, во многом построена и Галицко-Волынская летопись в той её части, где повествуется о борьбе Даниила за власть в Юго-Западной Руси (14). Интересно, в любом случае, и следующее наблюдение Д. Домбровского, указавшего, что «молчание источника волынского происхождения о выступлении не только галицкой, но и владимиро-волынской элиты в поддержку вокняжения малолетнего Даниила является красноречивым. Акт лояльности галицких бояр (который в последующих частях источника будут совершать простые люди) видимо не подходил летописцу для идеологического обоснования истории начала правления Даниила, и в силу этого, по-видимому, опущенный» (15).

Видимо, сам автор / редактор по крайней мере части сообщений происходил с Волыни (16). Относительно конца его правления ряд авторов, правда, полагает, что волынский летописец имел мало оснований хвалить Даниила. Так они объясняют сухость некролога старшего из Романовичей (17). Но данный вопрос требует дальнейшей разработки. Возможно, действительно не все на Волыни и не во всём поддерживали своего князя. Как будет показано ниже, Даниил не всегда был разборчивым в средствах, приводя ляхов и половцев, а во время ордынского нашествия он бежал из Руси, тогда как традиционная русская политико-правовая традиция в таком случае безусловно требовала от князя как «земного бога» если не победы, то героической гибели.
В.В. Долгов возражает против подобной позиции, подчёркивая относительную независимость древних книжников. Современный исследователь в данном случае частично продолжает мысли И.П. Ерёмина, для которого летописец, так или иначе, христианин, моралист, а не политик, стремящийся к идеалам правды, пусть это и утопично для его эпохи (18). Истина, видимо, находится где-то посередине (19). Так, Галицко-Волынская летопись явно стремится выгородить Даниила Романовича, накануне ордынского нашествия бросившего Русь, подчёркивая, что ему необходимо было заключить союз с Белой IV, женив Льва на дочери короля (20). Необходимо, однако, отметить, что, с другой стороны, понять «логику неполноты» летописи далеко не всегда возможно. Интересно, что Новгородская I летопись (НПЛ) – и старшего, и младшего изводов – достаточно подробно рассказывает о событиях, связанных с третьим взятием Киева самими русскими в 1235 г. (21), тогда как о взятии Киева ордынцами речи нет, что знаменует собой ограниченность интересов новгородского летописца на событиях Северной Руси (22). Упомянем ещё один интересный факт. «Так, новгородец Пётр Михалкович, - отмечает Т.В. Гимон, - известный по новгородским летописям и берестяным грамотам деятель середины XII в., заказчик знаменитого «кратира Косты» и княжеский тесть, в НПЛ не упоминается ни разу!» (23)
Не следует всё же забывать, что «частного» летописания в Древней Руси, по всей видимости, не было, хотя «частные» (но «порабощённые» традицией!) лица могли быть авторами тех или иных заметок. «История составления летописец показывает нам, - писал в данной связи, в частности, М.Н. Тихомиров, - что летописание в древней Руси было тесно связано с епископскими кафедрами и крупными монастырями, а в некоторых случаях – с деятельностью отдельных князей. Создание больших летописных сводов являлось непосильной задачей для «частных» лиц, хотя они могли принимать участие в переписке и даже составлении летописных заметок. Так, нам известен пономарь Тимофей и священник Герман Воята, принимавшие участие в составлении новгородских летописей XII-XIII веков» (24). Отметим также, что «владычный характер новгородского летописания обычно приводил к смене летописца при переменах на кафедре» (25). Видимо, летописи имели официальный характер, потому, по всей видимости, летописцы далеко не всегда могли писать, по крайней мере, прямо, то, что они считали истиной, - хотя бы из чувства самосохранения. Имеющиеся исключения, - сделаем предварительный вывод, - скорее подтверждают данное правило. «Ѿтоу же нача болми скорбѣти душею, видѧ бо ωбладаемы дьѧволомъ: сквѣрнаѧ ихъ коудѣшьскаѧ блѧденьѧ, и Чигизаконова мечтаньѧ, сквѣрнаѧ его кровопитьѧ, многы его волъжбы, - читаем в Галицко-Волынской летописи при описании поездки Даниила Романовича к Батыю. - Приходѧщаѧ цесари, и кнѧзи, и велможѣ – Солнцю, и Лоунѣ, и Земли, дьѧволоу, и оумершимъ въ адѣ ωтьцемь ихъ, и дѣдомъ, и матеремъ водѧше ωколо коста, покланѧтисѧ имъ» (26). «Можно только поразиться мужеству летописца, написавшего эти горькие, но правдивые строки: найдись какой-нибудь грамотный предатель, типа монаха Изосима, перешедшего на службу к татарам, принявшего ислам и за это растерзанного доведенным до отчаяния народом в Суздале в 1262 г., который довел бы до сведения татар о подобном оскорблении Ясы Чингисхана, веры монголов и самого основателя монгольской империи, и участь его была бы решена. Для летописца князя Даниила монгольская вера - дьяволопоклонство, а сами они обладаемы дьяволом, подобно тому, как это будет во времена Антихриста», - резонно пишет в данной связи В.В. Василик (27). Отметим так, что св. Феодосий Печерский явно осуждал обоих враждовавших порой Ярославичей – и Святослава, изгнавшего с киевского стола своего старшего брата – Изяслава, и самого Изяслава, искавшего помощи у Болеслава II и латинского Запада (28).
Обратимся теперь к тенденциозности летописцев и иных русских средневековых книжников и её особенностях и «границах». Начнём с того, что «тенденциозность начального летописания, ориентированного на библейскую традицию, принципиально иная, чем тенденциозность более поздних средневековых сочинителей. Для первых русских летописцев недопустимым было творение неизвестных Библии потомков Ноя вроде Леха, Чеха и Руса и т.п.» (29). Интересно, что тенденциозность летописей, с другой стороны, не противоречит точке зрения И.Е. Забелина, который писал о том, что прямой и сознательной лжи летописцы, видимо, всё же не допускали, ибо это считалось грехом. Даже «благочестивого обмана», о котором писал А.Я. Гуревич, на Руси, по всей видимости, не было (30), хотя было, к примеру, явное преувеличение роли «своего» князя, в частности, Всеволода Юрьевича Большое Гнездо (31). Летописца Даниила Романовича, на что указывал Н.П. Дашкевич, также нельзя назвать лжецом: «Летописец желает выставить с самой лучшей стороны своего героя, но для этого прибегает к одной истине… Враги Даниила награждаются иногда не совсем лестными эпитетами, но это не мешает летописи соблюдать правдивость при рассказе об их деяниях». Похвалы не мешают осуждать старшего Романовича за то, что древний книжник считал предосудительным. Так, как истый христианин, он осуждает Даниила на похвальбу: «Видѣвшоу же сѧ Данилоу ω рѣкоу Велью с королевичемь, и нѣкое слово похвално рекшоу, егоже Богъ не любить» (32). По всей видимости, летописец осуждает Даниила и за слишком мягкое отношение к своим политическим противникам. Под 1230 г. в Галицко-Волынской летописи читаем, что Даниил Романович, после попыток его убить, «Ивана же посла сѣдѣлничего своего по невѣрных Молибоговичихъ и по Волъдрисѣ, и изимано бысть ихъ 20 и 8 Иваномъ Михалковичемь, и ти смерти не прияша, но милость полоучиша. И некогда емоу в пироу веселѧщоуся, ωдинъ от тѣхъ безбожныхъ боѧръ лице зали емоу чашею, и то емоу стерпѣвшоу иногда же, да Богъ имъ возомьздить…» (33). В летописи данный текст оказался потому, что книжник осуждал своего князя за чрезмерную мягкость по отношению к политическим врагам (34). Наконец, ещё один пример подобного рода отметил Л.Н. Гумилёв. «Ѡ злѣе зла честь Татарьская! Данилови Романовичю, кнѧзю бывшоу великоу ωбладавшоу Роускою землею - Кыевомъ, и Володимеромъ, и Галичемь, со братомь, си инѣми странами, ньнѣ сѣдить на колѣноу, и холопомъ называетьсѧ, и дани хотѧть, живота не чаеть, и грозы приходѧть! Ѡ злаѧ честь Татарьская! Его же ωтець бѣ цесарь в Роускои земли, иже покори Половецькоую землю, и воева на иные страны всѣ! Сынъ того не приѧ, чести то, иныи кто можеть прияти? Злобѣ бо ихъ и льсти нѣсть конца!» - разряжается древний книжник гневом и горечью, описывая поездку своего князя к Батыю, и он выражал здесь народные чаяния. Впрочем, князь, что отмечает и Л.Н. Гумилёв, был заодно со своим народом, и вскоре начал войну с ордынцами (35).

Потому, в частности, оборот «идеже ныне» - не стилизация, а фактически - подлог летописца XV в., не его «маскировка» под мнимого современника того или иного события XII в., а действительное указание на небольшой срок, прошедший между событием и временем записи (36).
То же самое необходимо сказать и относительно житийной литературы, в частности, относительно «Жития» Александра Невского. Последнее в своей недавней статье постарался оспорить А.Н. Нестеренко. Этот исследователь считает, что «Житие» св. благоверного князя было написано в конце XIV в., выдвигая следующие аргументы: 1) житие нельзя было писать до прославления святого, а в качестве местночтимого святого Александр Ярославич был прославлен только после 1380 г., ибо только тогда были открыты его чудотворные мощи; 2) при описании Ледового побоища автор «Жития» опирался на текст НПЛ старшего извода, а текст Синодального списка после 1234 г. написан почерком первой половины XIV в.; следовательно, «Житие» не могло появиться ранее середины того же XIV в.; 3) автор «Жития» жил гораздо позже времени жизни св. князя, ибо его текст изобилует неточностями и, мягко говоря, преувеличениями. Таким образом, древний книжник откровенно лжёт, заявляя, что он – «самовидец возраста» Александра Ярославича, тем более, что он же проговаривается, что слышал о тех или иных интересующих событиях «от отцов». Однако, и здесь, как нам кажется, нельзя упрекать древнего книжника во лжи – разумеется, во лжи сознательной. Канон жития диктовал ему соответствующие преувеличения, и стремиться уличить его в этом хотя бы после классической работы В.О. Ключевского представляется нам довольно странным, учитывая, что последняя была опубликована ещё в 1871 г. Автор – не новгородец и не пскович, ибо он нигде не стремится прославить Новгород и называет псковичей «невегласами» и сравнивает их с «жидами», а житель Северо-Восточной Руси, испытавший влияние древнего киевского стиля и / или стиля Галицко-Волынской Руси. Несмотря на свою оригинальность, так что, по словам В.О. Ключевского, в XVI в. редакторы сказали бы, что он «не умеет писать жития», автор первоначальной – как мы знаем теперь, после исследований Ю.К. Бегунова, не сохранившейся до нашего времени редакции – разумеется, не ставил себе целью написать «историю Александра Невского» в нашем понимании. По словам того же В.О. Ключевского, «в его записке соединены именно такие черты, которые рисуют не историческую деятельность знаменитого князя со всех сторон, а его личность и глубокое впечатление, произведённое им на современников, и эти черты переданы в том свежем, не потёртом поздним преданием виде, в каком ходили они между современниками». Логично, в частности, что Александр, в числе всего прочего, и должен был превосходить всех других земных властелинов, когда бы и где бы они не жили (37). По словам В.В. Долгова, «это не «словесный портрет», а «словесная икона», призванная показать князя личностью библейского масштаба» (38). Так вполне естественно было бы написать человеку, который мог оценить все исторические деяния князя уже после окончания его земной жизни. А.Н. Нестеренко специально отмечает, что «Житие» указывает на тот факт, что вражеский предводитель ведёт себя неадекватно – «шатаясь безумием». Но и это достаточно логично, если, конечно, посмотреть на ситуацию глазами человека того времени, стремившегося узреть высший, далеко не всегда видимый на первый взгляд смысл вещей. Пытаясь пленить землю святого, чужеземный завоеватель, по понятиям христианина, разумеется, подпал под власть Дьявола, и, таким образом, действительно должен быть охарактеризован как безумец («шатаяся безумиемъ своимъ») (39).
Отметим и следующее. Если жёстко связывать текст «Жития» Ярославича именно с сохранившимся до нашего времени Синодальным списком НПЛ старшего извода, как фактически получается у А.Н. Нестеренко, естественным будет вывод о том, что таким же лжецом, опиравшемся непонятно на какие источники, оказывается и новгородский летописец, автор летописной статьи 1242 г. Гораздо логичнее предположить, что последний опирался на более древний список, а не пытался «сочинить» всю описываемую им историю Новгорода и Руси в целом с нуля. Прославление же святого, что называется, ex officio, вполне могло быть уже результатом очень долгого процесса, в начале которого могло быть, разумеется, и написание «Жития» человека, который уже вскоре после смерти - скорее всего, «нужной», от медленного яда в ставке Берке, к чему склоняется, в частности, В.В. Долгов (40), т.е. смерти страстотерпца, - мог восприниматься как святой. НПЛ и даже Никоновская летопись, шедшая в данном случае за более древними, едва ли не современными жизни князя списками, пишут только о болезни Александра в Орде (41). Но могли ли современники, учитывая, хотя бы частично, официальный характер летописания, писать о «лютом зелье»? Прямо же лгать о том, что являешься современником святого, тогда как сам живёшь через 120 лет после его смерти – это тяжкий грех, на который, разумеется, не мог бы решиться автор «Жития» Александра Ярославича.
Однако, всё вышесказанное, как минимум, требует серьёзного пересмотра в связи с отмеченным иером. Петром (Гайденко) возрастанием количества списков Церковного устава Владимира в XV-XVI вв., причём мы видим явное увеличение прав и привилегий Церкви, разрастание самого текста, опору на авторитет Крестителя Руси в решении чисто материальных проблем, что подкрепляется угрозами страшных проклятий и «прещений». «Если текст создавался в церковной среде, и его авторы осознавали, что они фальсифицируют документ, то как объяснить их почти кощунственную с позиции нашего времени смелость?» - задаёт прямой итоговый вопрос современный церковный историк, и отмечает, что понять нюансы данной проблематики едва ли возможно (42). Формально говоря, данный комплекс проблем относится уже к более позднему, чем интересующее нас время, так что мы как бы «имеем право» оставить этот и иные аналогичные вопросы без ответа. Однако, как нам представляется, мы всё же можем постараться решить данную проблему, тем более, что практически все интересующие нас источники дошли до нас в относительно поздних списках. По всей видимости, к XV-XVI вв. формируются уже основные черты образа св. Владимира в исторической памяти, в том числе и в церковной среде. Крестителю Руси и Святому Равноапостольному князю, как полагали представители последней, если так можно выразиться, «полагалось» вести себя именно так – предоставляя Церкви и её властям щедрейшие пожалования и права, и «обеспечивая» их выполнение здесь, на Земле, своими «клятвами» из мира горнего. С точки зрения, по крайней мере, ряда «фальсификаторов» и переписчиков подобного рода «фальсификаций», то, что они делали с древними текстами, - это не подлог, ложь или даже «благочестивый обман», а «восстановление» исконного, подлинного текста устава великого святого властителя седой старины.
Однако, во всех предыдущих постах мы рассматривали наиболее ранние летописи, что, разумеется, далеко не исчерпывает данную проблематику.
Но об этом – в следующем посте.






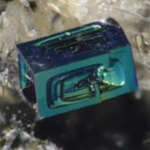
Оценили 17 человек
27 кармы