
В четверг 17 апреля Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры о приостановке запрета на деятельность в России афганского движения «Талибан». Теперь «запрещено в РФ» можно напротив названия движения не ставить.
Контуры и подводные камни талибской дипломатии
Решение это о приостановке запрета было давно ожидаемым, потому что вообще не взаимодействовать с Афганистаном невозможно, а другой полноценной политической силы в этом государстве кроме талибов нет.
Сколько бы лидеры «Фронта народного сопротивления Афганистана» (ФНСА) и «Фронта свободы Афганистана» (ФСА) ни совершали вояжей в поисках поддержки в России, но контроля над афганским узлом, даже в некоторой его части, у ФНСА Ахмада Масуда и ФСА Ясина Зии нет. Впрочем, это не означает, что у них нет поддержки в мире в целом. ФНСА и ФСА — это линия ОАЭ-Великобритания, нынешний сетевой «Талибан» — это прежде всего Катар-США. Это что касается военно-политических векторов.
В плане экономики «Талибану» намного сложнее, чем оппозиционерам, поскольку движению надо выстраивать реалистичную модель, которая учитывает интересы Китая, Пакистана в части его работы с Китаем, стран Центральной Азии и России как одного из гипотетических участников программы по восстановлению инфраструктуры.
В движении прекрасно понимают, что аравийские инвестиции придут в ожидаемом масштабе только в том случае, если они смогут пройти между интересами и бизнес-практикой в регионе Китая, одновременно договорившись с США через посредничество Катара о своей полной международной легитимизации.
«Талибан» выстроил к весне прошлого года вертикаль власти, основанную на довольно зыбком балансе между группировками, распределились регионы и «кормовые маршруты», однако руководству движения требуется зримое подтверждение того, что оно способно регулярно и полноценно собирать коммерческие и спонсорские денежные средства. В противном случае вертикаль снова начнёт расползаться в привычную горизонтальную сеть из разных ячеек со своими интересами.
Задача нетривиальная не то что для талибов, но и для иных государств с куда как большим опытом дипломатической школы и ресурсами бизнес-корпуса. Афганская оппозиция по понятным причинам ждёт, когда «Талибан» решение этой задачи провалит, но иной позиции у них и быть не может.
В этом плане идея талибов о всеобщей «нормализации» отношений со всеми соседями выглядит разумно и здраво, и она постепенно реализуется, даже несмотря на откровенно средневековые практики и «перегибы» в плане внутренней политики, которые вызывают международный резонанс.
Талибы, собственно, никогда не скрывали того, что китайская экономическая экспансия должна иметь некие пределы. Однако ещё со времени проамериканской администрации дело обстояло так, что кроме Китая в серьёзные проекты в Афганистане никто не вкладывался.
В «Талибане» очень рассчитывали на то, что аравийские фонды после 2021 г. перейдут от точечных проектов в застройке к полноценному развитию городской инфраструктуры, но всё ставил на паузу «американский вопрос».
Чем дольше в Дохе велись бесконечные переговоры, тем больше Великобритания поддерживала на плаву оппозицию. И ещё предстоит ответить на вопрос о том, какова роль Лондона и косвенно Анкары в том, что в Афганистане с завидной регулярностью появляются группы из Сирии (в основном этнические представители стран Центральной Азии).
Талибы в Дохе добивались от США хотя бы минимальных разблокировок финансирования с огромным трудом, однако ирония судьбы в том, что собственно движение «Талибан» на ресурсах, связанных уже с Великобританией, оценивается ни много ни мало, а как «американский проект». Отсюда и специфические тезисы о том, что, дескать, «Талибан» спит и видит, как бы вторгнуться в Центральную Азию. Только ещё большой вопрос, кто должен туда вторгаться — собственно талибы или северные группировки, которые регулярно подпитываются кадровым составом из Сирии и даже Северной Африки.
И вот на фоне всех этих игр и игрищ вокруг Афганистана и его руководства, которое вынуждено осваивать дипломатию «на коленке», единственной полноценной силой в плане проектирования оставался Китай. Так, только китайские нефтяные предприятия в Афганистане приносят этой стране свыше 1 млрд долл. в год. США же по разным каналам дают «от щедрот» только 90-110 млн долл. — тоже в год, хотя у США заморожено афганских денег минимум на 8,5 млрд долл. Талибы же в ответ подровняли отношения с Ираном и вошли в доли иранских логистических СЭЗ — «Арас» на севере и «Чабахар» на юге.
Китай и «дорогая» газовая труба через Казахстан
Для Китая своего рода звонком стал запуск проекта ТАП-500 (Крупные проекты между Туркменистаном и Афганистаном вышли на стадию реализации. О чём надо подумать нам?). ТАП-500 — это сеть ЛЭП плюс оптоволоконные линии — проект, который реализует Турция на катарские (прежде всего) деньги. В России хорошо известен проект газовой магистрали ТАПИ («Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия»), но ТАП-500 и ТАПИ — это части одного большого замысла, где одновременно работает газовая магистраль, идёт прокачка электроэнергии и подключён широкополосный интернет, работают электрифицированная железная дорога и автомобильный маршрут с десятью логистическими терминалами.
Если ТАП-500 — это катарско-турецкие инвестиции, то в проекте ТАПИ засвечены компании из Саудовской Аравии. Для Китая, который изначально был ориентирован на железнодорожный маршрут через Узбекистан, а в плане природного газа на четвёртую ветку из Туркмении, которая стыкуется через Казахстан, все эти инициативы — далеко не самый перспективный вариант. Получается, что Пекин в Афганистане мягко поджимают с севера и с запада, что китайскому государству как инвестору сильно не нравится.
В этом контексте становится понятен посыл, который на днях дал посол Китая в России Ч. Ханьхуэй, говоря о том, что, дескать, поставки российского природного газа в КНР через казахстанскую ГТС «дороговаты», не выгодны и вообще России стоит в плане роста поставок в Китай сосредоточиться на «Силе Сибири – 2» с маршрутом через Монголию.
На профильных форумах и в СМИ развернулась немалая дискуссия о том, как этот посыл надо понимать. Недоумение понятно, ведь как раз казахстанский маршрут с резервами реверса мощной линии САЦ («Средняя Азия – Центр») и дефицитом собственного казахстанского газа для китайских контрактов дают, наоборот, фору и по времени, и по затратам, если Китай хочет покупать конкретные объёмы. Проблема в том, что помимо объёмов четвёртой туркменской газовой ветки ещё больше трубопроводных поставок Китаю не требуется. С «Силой Сибири – 2» тянуть ещё время можно, но вот полноценный запуск российского газа в ГТС Центральной Азии будет означать рост возможностей по реализации афгано-туркменского ТАПИ, который для Китая проект внешний и поджимающий его афганские интересы.
Китайский посол опытен, он хорошо понимает, какую дискуссию запустило его интервью. Дескать, пора строить «Силу Сибири – 2» через Монголию. Но Ч. Ханьхуэй одновременно направляет эту дискуссию по занятному пути: либо через Центральную Азию, либо через Монголию поставлять в Китай. Но ведь Центральная Азия и ТАПИ — это отдельный рынок и отдельные проекты, и поставки в Китай — тоже отдельный проект. Это не «либо-либо».
Уплотнённая география
Интересы Китая в Афганистане, конечно, надо учитывать при планировании, но учитывать их, держа первым номером интересы собственные. Китайский рынок на самом деле не сильно нуждается в мега-проектах, которые любят в России. Торговая война США с Китаем и ЕС ещё только разворачивается, но даже не в самых её терминальных сценариях понятно, что роста рынков, которые в свою очередь требуют роста потребления энергии, не будет.
Конечно, в этом случае Китаю проще опереться на СПГ, гибко реагируя на спрос, даже по рыночной цене, а не со скидками по длинным контрактам по наземной трубе. С той же Австралией Китай одно время вёл тоже торговую войну, но сейчас Австралия в антитрамповском лагере и с удовольствием выполнит срочные запросы Китая как по углю, так и по СПГ. Если же в итоге США договорятся с Ираном, то в Китай поплывут морем ещё и иранские объёмы.
В нынешних условиях совсем не факт, что нам требуется дальше упираться в проект «Сила Сибири – 2», а не поставить его на паузу, причём даже демонстративно. Ресурсы по ГТС в Центральной Азии при определённом подходе вполне могут дать не «мега», а вполне конкретный и приземлённый эффект. Плюс участие прямое или косвенное в реализации ТАПИ. Может, это не очень понравится Китаю, но тут уже у каждого игрока должны быть в приоритете свои интересы.
В целом же афганский «кейс» и китайский посыл по вопросу «газовой трубы» ещё раз показывают, насколько уплотнилась карта политической и экономической географии, насколько высока взаимосвязь между, казалось бы, разными проектами и регионами.
Михаил Николаевский




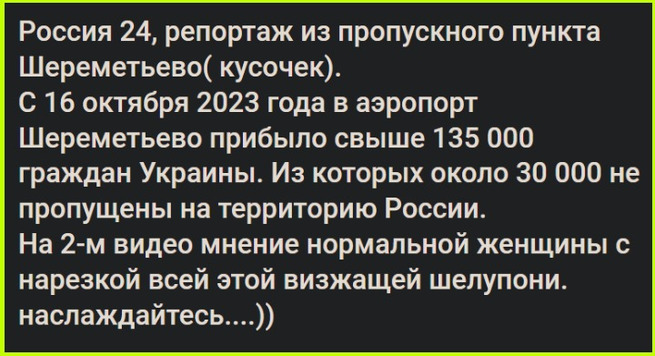
Оценили 3 человека
3 кармы