
Если внимательно читать «Капитал» Маркса, то мы вычленим малопонятные парадоксы. Во-первых, всякую стоимость производит только труд. Во вторых, как там же оказывается, между делом, стоимость производит не только труд. В третьих, что тоже следует из текста 1-го тома, труд производит не только стоимость.
О чём речь? О том, что в случае, если обработка будет признана негодной – труд вместо стоимости создаст прямой убыток. Маркс об этом упоминает вскользь, и не делая никаких выводов:
«Наконец, вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребления. Если она бесполезна, то и затраченный на неё труд бесполезен, не считается за труд и потому не образует никакой стоимости».
Казалось бы, замечание «капитана Очевидности». Ну, как бы да, если ты заготовку испортил, «запорол», то какая добавочная стоимость, одни убытки! Но фокус в том, что признание обработки негодной, признание продукта браком – ДЕЛО СУБЪЕКТИВНОЕ.
Оценка зависит от вкусов приобретателей, что делает очень зыбкой грань между мусором, браком – и товаром, товарным продуктом.
Между тем, вопрос напрашивается: а кто решает, бесполезна вещь, или не бесполезна? Кто этот арбитр, и где гарантии его добросовестности.
Очень полезная людям вещь не даёт никакой стоимости, если те, для кого она полезна – неплатежеспособны. Наоборот, вещь совершенно нелепая – может дать большую стоимость в силу стечения ряда субъективных обстоятельств. Наконец, как бывают вещи без производства стоимости, так бывает и производство стоимости… без вещей!
Таковы явления вымогательства, шантажа, при которых вещи либо вовсе нет, либо она играет символическую роль (т. е. нужна не сама по себе, а только чтобы отстал шантажист и вымогатель).
Мы видим, что беглый абзац, в котором Маркс небрежно говорит о способности «вещи не быть стоимостью» - требует огромной и глубокой расшифровки. Способность вещи не быть стоимостью и стоимости не быть вещью в корне меняет всю картину политэкономического анализа!
Ведь получается, что товарами товары делают не сами товары, а… люди! В своей первичной форме товары существуют только в голове у людей, которые за одно согласны платить, а за другое нет.
Материалист говорит: "мы производим то, что нужно людям". Идеалист так не скажет. Он скажет: "мы производим то, что нужно НАМ". В том смысле, что если другим людям этого не нужно, то они не будут это ни производить, ни покупать. И хранить секреты производства ненужного им - не будут. Это касается даже таких простых продуктов, как... молоко!
Древний Китай не знал молока. Если бы туда пришёл молочник, то едва ли его продукция покупалась бы охотнее, чем ослиная моча. Это какие-то биологические животные выделения, мы их не едим, мы ими брезгуем - как православные кониной, как мусульмане свининой, и т.д., и т.п. И речь идёт о простейших, пищевых продуктах! Когда саранча в одном случае еда, а в другом - нет. Если же говорить о более сложных продуктах цивилизации, то вдвойне и сугубо!
Далее, за одно могут платить, а за другое не могут, одно считают для себя остро необходимым (далеко не всегда объективно! ), а другое считают ненужным и даже вредным (и тоже безо всякой объективности, личным субъективным мнением).
Существуют вещи, которые не товары, вещи, которые товары, и товары, которые не вещи. Понимая это, мы существенным образом вынуждены подорвать «объективизм» Маркса, его материалистическую (и натужную в своём материализме) трактовку товарооборота.
Ведь что говорит Маркс о «вещи без стоимости», «не предмете потребления»? Он говорит: «она бесполезна, затраченный на неё труд бесполезен, не считается за труд и потому не образует никакой стоимости».
Если мы говорим о производстве, скажем, гаек или болтов, стандартные параметры которых проверяет робот, то сработает формула Маркса. Робот вычислит бракованную гайку ОБЪЕКТИВНО: у неё не тот диаметр, не та резьба, не тот материал, который предусмотрен стандартом. И В ЭТОМ СЛУЧАЕ не придётся задавать Марксу вопрос – «кто решил, что вещь бесполезна? ». Но ведь только в этом случае!
Существует огромная «серая зона», в которой полезность и бесполезность вещи (или услуги) СОМНИТЕЛЬНА. Какая гайка годная, а какая негодная – решит робот. Но как может решать вопросы нужности и ненужности робот, если речь идёт о торте или пирожном, о фасоне обуви или одежды, о книге или фильме, о дизайне мебели, об архитектуре или планировке жилища, о цвете ткани, о спортивном инвентаре или музыкальных инструментах? !
Если один человек вскопал огород, а другой не хочет ему платить условленного, ссылаясь, что земля «не так вскопана» - как быть? Может, она действительно некачественно вскопана, а может, заказчик платить не хочет, цену сбивает? Тем более, учтите, что заказчик прямо и грубо – материально-заинтересованное лицо. Каждый его комплимент мастеру – это потерянная им копейка, а каждый его упрёк мастеру – сэкономленная!
Грубее говоря, чем решительнее и нахрапистее он будет браковать труд «за бесполезность» - тем дешевле сможет в итоге этот труд заполучить. В то же время абсолютно немыслимо заставить платить работодателя за ЛЮБОЙ труд (в смысле, физическую работу) – потому что тогда любой, кто толок воду в ступе 8 часов – потребует платы за 8 часов трудового дня!
+++
С одной стороны, брак должен разоблачаться и отсеиваться. С другой стороны, это, в подавляющем большинстве случаев – очень субъективная оценка «власть имеющих». Жизнь из этого парадокса выходит способом, материалистам принципиально непонятным – через идеологию. Через символы общественной веры определяется и форма, и оплата труда (или его неоплата – как например, неоплата великого труда материнства).
Идеология синхронизирует представление о нужных и ненужных трудах, и если оценщик зарвался в своей «экономности» - его «припекают рогатками» морального и юридического осуждения. Но важно понимать, что, учитывая идеологическую составляющую, ОПЛАЧИВАЕТСЯ НЕ ТРУД, А СТАТУС!
Это очень просто понять: если вы наняли дворника, заключили с ним договор, а потом отказываетесь платить ему, то с вас взыщут оговоренную сумму вознаграждения его труда. Но если кто-то без вашего согласия и ведома станет мести ваш двор, а потом придёт к вам требовать денег (я ж, мол, целый месяц мёл, старался, ни соринки! ) – вы вправе отказать, и, скорее всего, откажете. Предположим, что труд в течении месяца был абсолютно одинаковым и по количеству, и по качеству. Но статусного дворника обязаны оплачивать (у него есть статус), а добровольного волонтёра – нет. Его не просили мести, с ним договор не заключали, он делал что-то сам, вас не спрашивая, вот пусть и награждает себя тоже сам!
Теперь возьмём более распространённую ситуацию. У людей с разными общественными статусами абсолютно одинаковый труд. Оплата же его идёт согласно статусу, и потому очень и очень (порой на порядки) разная. Часто в жизни бывает и так, что человек, трудившийся много меньше – получает много больше другого. И всё это следствие одного, не раскрытого Марксом абзаца, в котором мельком упомянута возможность забраковать продукт труда, сказать, как пишет Маркс:
- Твоя вещь бесполезна, затраченный на неё труд бесполезен, я не считаю его за труд, и потому ничего тебе не дам, ибо ты мне (как работодателю) никакой стоимости не произвёл!
Ведь именно злоумышленная недооценка является первопричиной забастовок и иных форм рабочей борьбы, в ходе которых рабочие пытаются доказать, что их труд стоит дороже, чем хозяин согласен им платить!
И это борьба за повышение статуса (оплаты, причитающейся за статус), к которой количество и качество труда, в данном случае, не имеют никакого отношения.
+++
Нельзя примитивно толковать Маркса так, как это делают невежественные люди, утверждая, что время труда и есть источник стоимости. Это не так и Маркс пишет именно об этом[1].
Но, уйдя от самых примитивных связок времени труда и производимой стоимости, он же потом утверждает всё же, что «величина стоимости данной потребительной стоимости определяется лишь количеством труда, или количеством рабочего времени, ОБЩЕСТВЕННО необходимого для её изготовления». Добавка слово «общественно» тут очень важна, но не исчерпывает всех критических вопросов к марксовой теории.
Маркс, понимая, что его могут неправильно понять, подчёркивает не раз ту мысль, что стоимость определяется не тем временем, которое потратят самые неумелые, а о том, которое потратят самые умелые из наличных на данный момент рабочих.
«Поэтому товары, в которых содержатся равные количества труда, или которые могут быть изготовлены в течение одного и того же рабочего времени, имеют одинаковую величину стоимости» - пишет Маркс.
И далее: «…величина стоимости товара оставалась бы постоянной, если бы было постоянным необходимое для его производства рабочее время. Но рабочее время изменяется с каждым изменением производительной силы труда»[2].
У Маркса общественный, обобщённый труд – как «условное топливо» у физиков, принят за величину, которая создаёт стоимость и определяет её величины. То, на что потрачено больше труда стоит дороже, чем то, на что потрачено меньше труда, при той оговорке, что труд в обоих случаях был правильно организованным, соблюдал все существующие требования к производительности. Так выводится за скобки толчея воды в ступе и бег кругами, которые, физически, работа – но, экономически, не труд.
Можем ли мы с этими оговорками признать правоту Маркса? Решительным образом – нет.
Предположим, что труд в двух случаях организован абсолютно производительно, то есть по качеству равен самому себе (это и есть «общественный труд»). С использованием такого правильного, согласного со всеми инструкциями и правилами труда в одном случае за час сделали товар «Х», а в другом – за пять часов сделали товар «Y».
И по Марксу стоимость товара «Y» должна быть ровно в 5 раз выше, чем товара «Х». Ну, считаем сами: труд мы приняли абсолютно производительным в обоих случаях, в одном его потрачен час, в другом пять – значит…
Ровным счётом ничего это не значит. Чтобы так соотнести время общественного труда и стоимость товара, им произведённого – нужно быть очень далеко от реальной жизни и реального товарообмена, не видеть (или не желать видеть) как они НА САМОМ ДЕЛЕ функционируют.
+++
В либерально-рыночной теории есть очень тупая, но при этом очень простая, и потому легко усваиваемая (хоть и неверная) формула образования стоимости продукта труда или любой находки (и вообще чего угодно) :
- Сколько за это готов заплатить человек, имеющий деньги, столько это и стоит.
У этой формулы, при всей её тупости, есть очевидное преимущество: однозначность. Вообще не нужно задаваться вопросом, какова «правильная стоимость», потому что она дана нам сразу, непосредственно в ощущениях. Она нам дана вместе с теми деньгами, которые нам дают. Сколько дали – столько и стоит, и нечего турусы на колёсах громоздить.
+++
При попытке уйти от либеральной тупости (благодаря которой доллар США на бирже стоит в четыре раза дороже, чем по паритету покупательной способности, с незапамятных времён использовавшегося менялами всех народов) – мы попадаем в пространство неоднозначности. Попал в него и Маркс, когда пишет: «Джейкоб сомневается, чтобы золото оплачивалось когда-нибудь по его полной стоимости. С ещё бо́льшим правом это можно сказать об алмазах».
То есть некий Джейкоб полагает, что за золото не доплачивают. Маркс с ним соглашается, и говорит, что, с его точки зрения, за алмазы не доплачивают ещё больше. При этом покупатели золота и алмазов не согласны с Джейкобом и Марксом, они дают столько, сколько сами считают нужным, а не по расчётам Джейкоба и Маркса.
Маркс пишет о случаях, когда «вещь может быть потребительной стоимостью и не быть стоимостью. Так бывает, когда её полезность для человека не опосредствована трудом. Таковы: воздух, девственные земли, естественные луга, дикорастущий лес и т. д. Вещь может быть полезной и быть продуктом человеческого труда, но не быть товаром». И тут трудно поспорить (и не нужно). Действительно, дикорастущий лес то платный, то бесплатный. Вот только что стоял для всех, но какой-то упырь его огородил забором, и стал брать плату за вход… Такое из перечисленного только с воздухом редко случается, но и с ним вполне возможно.
Основная ошибка Маркса в том, что мир трудовых товаров и мир нетрудовых товаров (когда полезность вещества не опосредована трудом) у него существует в каких-то параллельных Вселенных. Но мы-то понимаем, что трудовые и нетрудовые товары сосуществуют, пересекаются, влияют друг на друга, вносят колоссальные возмущения в образование стоимостей, которые так велики, что вообще обрушивают марксову теорию товара и товарности!
Маркс пишет: «Тот, кто продуктом своего труда удовлетворяет свою собственную потребность, создаёт потребительную стоимость, но не товар. Чтобы произвести товар, он должен произвести не просто потребительную стоимость, но потребительную стоимость для других, общественную потребительную стоимость.
И не только для других вообще. Часть хлеба, произведённого средневековым крестьянином, отдавалась в виде оброка феодалу, часть — в виде десятины попам.
Но ни хлеб, отчуждавшийся в виде оброка, ни хлеб, отчуждавшийся в виде десятины, не становился товаром вследствие того только, что он произведён для других. Для того чтобы стать товаром, продукт должен быть передан в руки того, кому он служит в качестве потребительной стоимости, посредством обмена».
То есть марксисты говорят (прямым текстом) : дайте нам «правильное» обращение товаров, а то мы не играем! Наша формула будет работать только в нашем мире, построенном целиком по нашим правилам, а в другом мире (например, в объективной реальности) она работать не будет.
Это как гольф, который возможен на идеально-ровном поле, но на болоте невозможен. И главный вопрос – кто будет марксистам «поле выравнивать»? Кто и каким образом будет им создавать «правильные» условия, чтобы их схема, наконец, заработала, избавившись от «посторонних примесей»?
«Если шарик положить в наклонный гладкий желоб, то шарик покатится под уклон». Окей, мы приняли, услышали! Ну, а что делать, если вместо шарика булыжник неправильной формы, и желоб – не желоб, и не гладкий он, а какой-то асимметричный? !
+++
Теоретическая модель может позволить себе роскошь рассматривать изменение фона при неизменности объекта. Или наоборот, переменчивость объекта при условии неизменности окружающей его среды.
Ну, грубо говоря, если не случится ни засухи, ни наводнения, в климате-константе приспособленное под него зерно даст всходы и выйдет в колос. Почему? По заложенной в зерне программы.
Наоборот, если будут и засухи и наводнения, то что-то в их круговерти всё равно выживет, найдёт способ приспособиться к их буйству, не это зерно, так какое-нибудь другое семя. Если всё зальёт водой, то пшеница не вырастет, но водоросли – вполне.
Реальная жизнь предполагает одновременное изменение как среды, так и объекта исследования, потому что лабораторно-чистые условия бывают только в лаборатории (где о них позаботился экспериментатор).
Марксизм – это определённая динамика экономических перемен при неизменности человека, его представлений о благе и справедливости, базовых основ его логики и мыслительной деятельности.
То есть: при условии, что вы работаете с определённым (и строго) типом человека, то вы сможете объяснить ему справедливость одних отношений и несправедливость других. Но не сразу, а постепенно, по мере раскрытия заложенного в данном типе мышления представлений об истине, добре и зле, справедливости, смысле жизни и т. п.
Человек определённого типа из неподходящих для него условий перейдёт в более подходящие. Что, собственно, не вызывает особых сомнений. Вопрос в другом: что будет, если типаж человека сменится, если он мутирует в нечто иное, с иными базовыми представлениями?
Маркс и Энгельс поверили Фейербаху, весьма легкомысленно и бездоказательно выдумавшему, что базовые нравственные основы общества – не продукт вероисповедания, а «родовая сущность» человека. Если бы это было так, то тогда ацтеки, майя и инки, с некоторым опозданием по времени (пусть и на много веков) прошли бы тот же путь, что и христианская цивилизация. Следуя своей «родовой сущности» они бы постепенно, по мере экономического и интеллектуального развития, формировали бы всё более и более соответствующий «родовой сущности» уклад. И если бы испанцы не прервали бы их развития на стадии рабовладения, то они сами по себе пришли бы к феодализму, капитализму, социализму и коммунизму. Но веков на десять позже… Наверное, но это неточно…
Таков взгляд материалиста на производительные силы общества, и взгляд этот не выдерживает столкновения с реальностью, с исторической практикой. Потому что, как ни крути, образ жизни вторичен от общественного морального идеала, а сам идеал вторичен от вероисповедания.
И если бы «непрерванные» ацтеки куда-то и пришли, то совсем не туда, куда Европа. Что и доказали майя, разбежавшиеся по джунглям, и перешедшие к первобытному образу жизни (что грозит и современным людям под влиянием либерального разложения).
Уже в IX веке н. э., когда Колумб ещё не родился, в южных районах проживания майя произошло быстрое сокращение населения, которое распространилось впоследствии на весь центральный Юкатан. Жители покидали города, приходили в упадок системы водоснабжения. С середины X века н. э. майя больше не воздвигали каменных сооружений.
Исчезновение цивилизации майя, которая отказалась развиваться и рассыпалась на первичные слагаемые, материалисты объясняют через две гипотезы.
Экологическая гипотеза полагает, что со временем баланс человека и природы был нарушен: постоянно растущее население сталкивается с проблемой нехватки качественных почв, пригодных для земледелия, а также с нехваткой питьевой воды[3]. Неэкологические гипотезы охватывает теории различного вида, начиная завоеванием и эпидемией и заканчивая изменением климата и прочими катастрофами. В феврале 2012 года ученые из Юкатана и Университета Саутгемптона опубликовали результаты сложного моделирования, согласно которым цивилизация майя могла погибнуть даже в результате небольшой засухи.
Факт налицо: безо всякой внешней угрозы города майя подверглись нарушению привычных устоев жизни и массовому опустошению. Города не разрушены завоевателями, а именно оставлены! Учёные считают, что крах цивилизации майя произошёл примерно в одно время с гибелью города Теотиуакан в Центральной Мексике.
Обе гипотезы требуют от нас признать, что наша цивилизация не знала ни экологических проблем, ни засух (даже небольших), ни эпидемий, ни каких-то ещё кризисных явлений! Потому как случилась бы засуха (хоть бы небольшая) – и люди немедля покинули бы города, и ушли обратно в леса, молится колесу…
Но нам повезло (видимо), и пять тысяч лет наши предки не знали ни засухи, ни эпидемий. Ни истощения почв. В отличие от несчастных майя, которым засуха (? ) помешала перейти к капитализму и выдвинуть собственного Маркса…
+++
Гораздо более правдоподобной кажется гипотеза (подтверждаемая и всеми доступными историческими источниками), что майя (как и многие другие тупиковые ветви цивилизации) – УСТАЛИ САМИ ОТ СЕБЯ. И – разошлись. Этого, разумеется, не произошло бы, если бы «средства производства» сами бы себя модернизировали всё выше, и выше, и выше, создавая вослед своему техническому прогрессу и более качественную духовную «надстройку».
Ведь с точки зрения материализма общественный идеал не нужно формировать, и тем более внедрять, навязывать! Он возникает сам по себе, вторично, он не создаёт средств производства, а наоборот, сам ими создан (да ещё, обычно, и в искажённом виде! ).
Смысл истмата в том, что человек, перебирая самые разные инструменты и практики, найдёт в итоге самые пригодные, самые удобные, самые эффективные, что само по себе – вполне логично. Ну, вот представьте, что вы никогда в жизни не закручивали шурупов. И перед вами лежат молоток, монетка, ломик и отвёртка. И вы «методом тыка» ищете, чем удобнее закручивать шуруп. Попробовали молотком – совсем не получается. Попробовали ломиком – не лезет в паз. Попробовали монеткой – почти получается, но неудобно. И, наконец, сделали правильный вывод: отвёртка подходит для этой работы лучше всего!
А в чём подвох?
В этой модели вы не знали, какой инструмент удобнее, но дело, которое собираетесь делать, знали точно. Вы «откуда-то» знали, что вам нужно именно шуруп и именно закручивать. И весь ваш поиск сводится к поискам удобного инструмента для ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОГО вам дела. Что вполне объясняет эволюцию инструментов, поиск наиболее оптимальных форм. Понятно, что и отвёртка и шуруп (а тем более их стандартизация) появились не сразу, а по итогам очень многих «отборочных туров», связанных с исходным, оно же конечное, целеполаганием.
И, таким образом, эволюцию производительных сил можно считать доказано-объективной, и все люди рано или поздно (кто раньше, кто позже) придут к отвёртке, как наиболее удобному инструменту закручивания шурупов. И сделают это независимо друг от друга, приспосабливаясь к удобству делания дела.
Но всё это при условии, что дело вам заранее известно. Оно существует изначально, ещё до выбора инструментов: надо именно закрутить шуруп, а не забить его (что молотком удобнее). Оно существует и по итогам, в виде закрученного, куда вам нужно было, шурупа. Эволюция производительных сил (инструментов) происходила между строго определённым условием (идеей) задачи и строго определённым образом (идеей) её завершения.
Как вы будете отбирать инструменты, если у вас нет цели? Подо что их подгонять, оптимизировать? Как вы их будете подбирать, если цель постоянно меняется? Или если она не меняется, но один раз поменялась? И тогда прежняя логика отбора инструментов отпадает, а появляется новая логика отбора. Которая в итоге приведёт к выбору совсем других инструментов (сообразных не старой, а новой цели).
Если изменится человек - то изменится и вектор преобразования им окружающей среды под себя. Потому что "под себя" будет означать уже совсем другое...
+++
Марксизм плотно «сидит» на цивилизации, базовые основы которой не он создавал. А вся беда в том, что он решил: эти базовые основы, смыслы и истины, представления о добре и зле – естественны, как воздух и врождённые, как копчик!
Если бы марксизм рассматривал себя в своей эпохе, как инструмент на определённом этапе христианской цивилизации, у которой часть целей уже достигнута, а для другой части целей ещё предстоит найти наилучшие инструменты, то он был бы гораздо конструктивнее. Но тогда, наверное, он бы и не был марксизмом, претендующим на необъятность и всеохватность…
Для того, чтобы сыграть матч по партитуре Маркса, нужно специально подготовленное поле, специально разработанные правила игры и специально обученные арбитры, которые будут строго следить за соблюдением правил. А поскольку в жизни нужно на ходу разворачивать и то, и другое, и третье (не ДО игры, а ВО ВРЕМЯ игры) – марксизм и не сработал.
Марксизм берёт общество, в котором УЖЕ преодолены не только людоедство и шаманское беснование, содомия и наркотический сюрреализм «пожирателей мухоморов», но даже и прямое убийство, прямое, беззаконное грубое насилие. Лишённые всех этих инструментов угнетатели стиснуты в «игру по правилам», то есть пытаются действовать хитрыми обходными методами, которые только потому им и нужны, что прямое насилие запрещено. И угнетатель вынужден превращаться в ловкого «карманника», который должен чего-то изъять у рабочего, так, чтобы сам рабочий и бдительное общество этого не замечали! А Маркс вознамерился разоблачить фокусы «карманников» и раскрыть глаза обществу на их хитрости!
Маркс принимает человека как изначально-морального, изначально-рационального, врождённо-добродетельного. То есть этот человек, как моральное существо, хочет справедливости, как рациональное – связно думает о ней, накапливает опыт её введения, как добродетельное – желает победы Света над Тьмой. И ему нужно помочь только консультациями технического характера – как технически соорудить то, что он и так уже всем сердцем хочет соорудить! Если ты придёшь с учебником по кораблестроению к тем, которые изнывают в мечтах о построении корабля – то там тебя с руками оторвут.
Точно так же общество XIX века воспринимало человека, предлагающего технические проекты сооружения коммунизма. То, что общество «типа такого» нужно позарез – человек христианской цивилизации знал уже не первое тысячелетие. Ему инженерии не хватало, чертежей, а уж желания было – хоть отбавляй!
+++
Но если вы чего-то изначально не хотите строить или расхотели строить – то вы теряете интерес и к технической проектной документации этого строительства. Столкнувшись с марксизмом, капитал отыграл просто на клетку назад (исторически это выразилось в становлении фашистских режимов от Лиссабона до Токио и Бангкока). Этот шаг на клетку назад обесточил и обнулил марксизм, потому что фашизм – царство грубого прямого насилия, и там хитрые схемы обирания рабочих не нужны. Распахните ворота широко – и узкий секретный лаз в заборе никому из расхитителей не будет интересен.
Ну, правда, зачем вам ходить крюками в обход – когда вам отрыт прямой и простой путь? Фашизм аннулировал марксизм (что продолжается и по сей день), заменив грубым прямым насилием лицемерное доброжелательство христианизированного общества XIX века. Разоблачения боится тот, кто чего-то скрывает: так угнетатели XIX века боялись доказательств, что они, на самом деле, не слишком стремятся воплотить социальную доктрину христианства. А если фашизм ничего не скрывает – то он и никаких разоблачений не боится. Ему просто пофиг. Потому что вы его на аргументах из Евангелия не подловите.
Марксизму нужна определённая власть, которая своей правовой средой как бы подыгрывает его «борьбе», обеспечивает для его игры поле и арбитров. При смене такой «мягкотелой» власти на фашистскую диктатуру марксизм проигрывает, что случилось десятки раз: в Испании или Польше, в Германии или Италии, в Японии или Финляндии, и т. п.
Потому что раскрыть христианам скрытый сатанизм – одно. А раскрыть его открытым сатанистам – совсем другое. Им и раскрывать ничего не нужно! Они скажут тебе: ну да, это так, и что? Ну да, мы охренели – и дальше чего?
В условиях прямого и грубого насилия стоимость не вычисляется ни по формулам Маркса, ни по формулам Смита, ни даже по формулам Хаммурапи. Если общество «сняло» цель предотвращать прямое и грубое насилие, то никто не станет вычислять, сколько времени какой рабочий потратил на изготовление какого товара, и т. п. Стоимость вводится директивно – как сегодня стоимость доллара, которая не имеет никакого отношения ни к товарам, ни к деньгам, и отражает только гегемонию США- Рейха, страх перед ним.
В условиях прямого бандитского насилия никто не рискует вычислять «паритет покупательной способности» доллара к национальной валюте, а если и вычисляет – то только для забавы ума. Потому что когда тебе продают доллар под дулом пистолета – насрать, какое количество благ можно за него приобрести. Да хоть бы и никакое! Жизнь – главный эквивалент всех товаров – дороже!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Николай Выхин, команда ЭиМ
-----------------------------------------
[1] Из «Капитала»: «Если стоимость товара определяется количеством труда, затраченного в продолжение его производства, то могло бы показаться, что стоимость товара тем больше, чем ленивее или неискуснее производящий его человек, так как тем больше времени требуется ему для изготовления товара. Но тот труд, который образует субстанцию стоимостей, есть одинаковый человеческий труд, затрата одной и той же человеческой рабочей силы. Вся рабочая сила общества, выражающаяся в стоимостях товарного мира, выступает здесь как одна и та же человеческая рабочая сила…
…английский ручной ткач «48» и после того [введения механического ткацкого станка- Эим] употреблял на это превращение столько же рабочего времени, как прежде, но теперь в продукте его индивидуального рабочего часа была представлена лишь половина общественного рабочего часа, и потому стоимость этого продукта уменьшилась вдвое».
[2] «Производительная сила труда определяется разнообразными обстоятельствами, между прочим средней степенью искусства рабочего, уровнем развития науки и степенью её технологического применения, общественной комбинацией производственного процесса, размерами и эффективностью средств производства, природными условиями».
[3] Гипотеза экологического исчезновения майя была сформулирована в 1921 году Оратором Куком




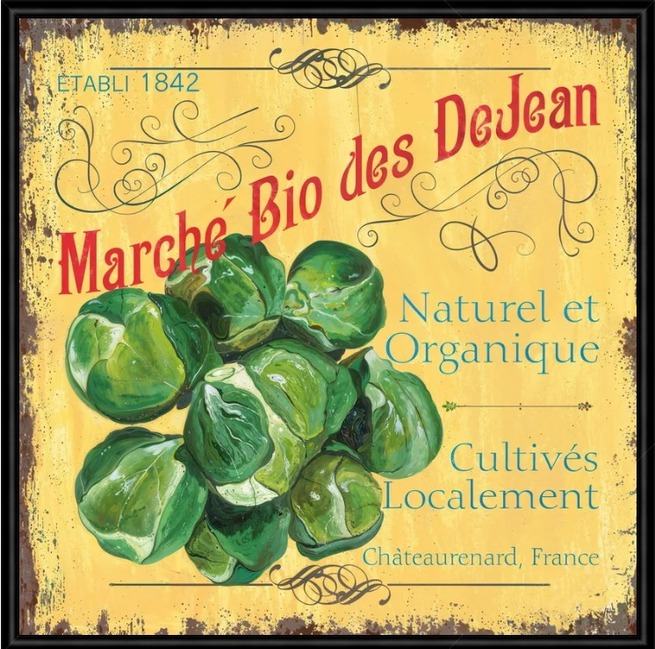


Оценили 4 человека
5 кармы