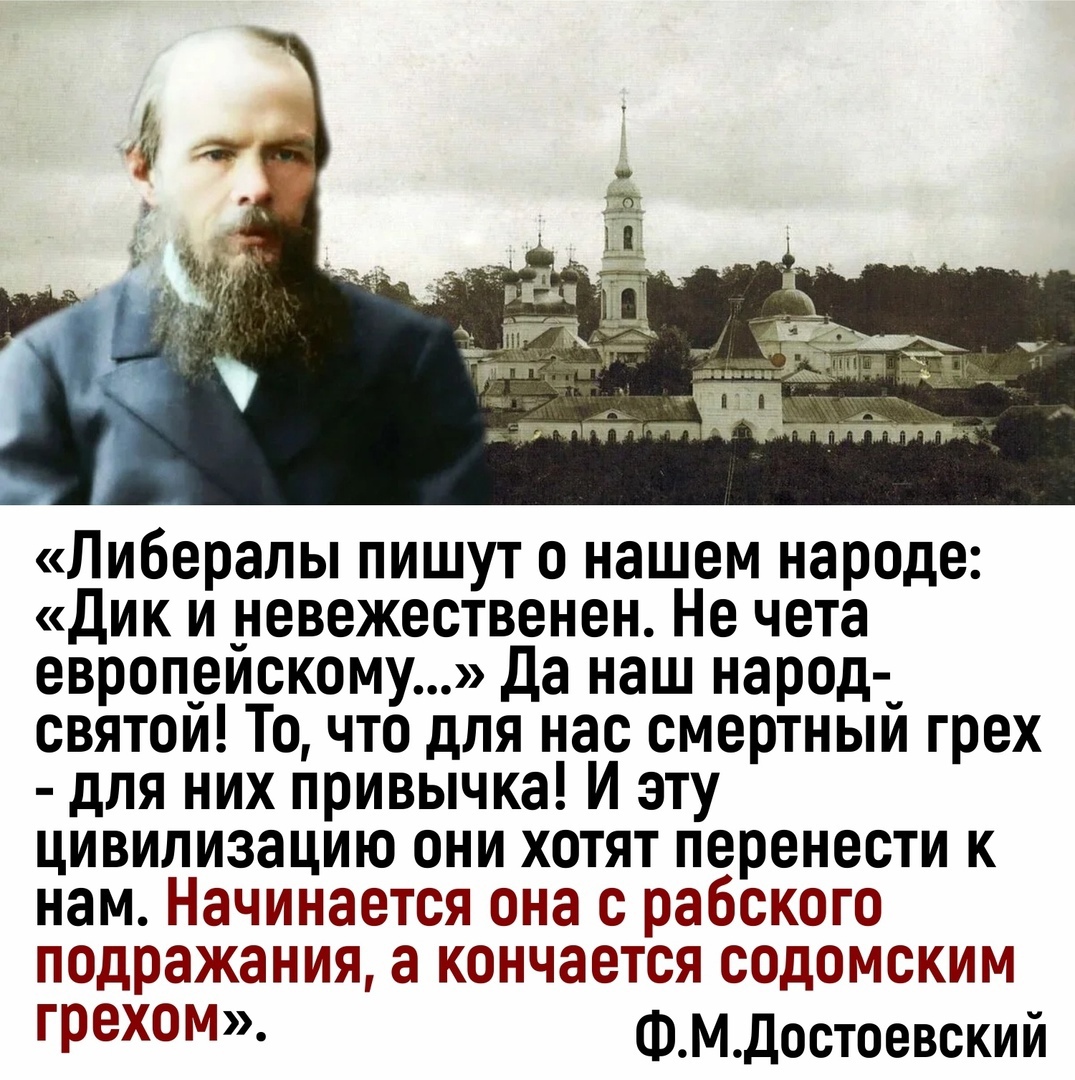
Январь 1869 года. Скоро два года, как, вынужденно скрываясь от кредиторов, Фёдор Михайлович выехал (лучше сказать бежал – так стремительно ему пришлось удалиться из Санкт-Петербурга) в Европу. Здесь он напишет роман «Идиот» для журнала «Русский вестник» и повесть «Вечный муж» для журнала «Заря». Но работа тяготит писателя не только тем, что традиционно не укладывается в обговорённые с редакциями сроки, а деньги за произведения получены наперёд, да и те почти полностью вышли.
Бытовая сторона жизни, безусловно, давит неустроенностью. Но тяжелее всего не это. В письме С.А. Ивановой из Флоренции от 25 января 1869 года Ф.М. Достоевский признаётся: «Но теперь, по крайней мере, я отделался и свободен, и до того меня измучила эта годичная работа, что я даже с мыслями не успел сообразиться. Будущее лежит загадкой: на что решусь – не знаю. Решиться же надо. Через три месяца – два года как мы за границей. По-моему, это хуже, чем ссылка в Сибирь. Я говорю серьёзно и без преувеличений».
Что же так томит душу писателя, что пребывание в Германии, Швейцарии, Италии им воспринимается тяжелей, чем каторга в Сибири?
«Я не понимаю русских за границей, – объясняет адресату свою категоричность Фёдор Михайлович. – Если здесь есть такое солнце и небо и такие – действительно уж чудеса искусства, неслыханного и невообразимого, буквально говоря, как здесь во Флоренции, то в Сибири, когда я вышел из каторги, были другие преимущества, которых здесь нет, а главное – русские и родина, без чего я жить не могу. Когда-нибудь, может быть, испытаете сами и узнаете, что я не преувеличиваю для красного словца».
Отсюда, может быть, и такое категоричное недовольство завершённой работой: «…романом я не доволен; он не выразил и 10-й доли того, что я хотел выразить, хотя всё-таки я от него не отрицаюсь и люблю мою неудавшуюся мысль до сих пор».
Отчего же не свершилось в полной мере задуманное писателем? Что тут виной? Невольно в продолжении письма приходишь всё к тому же, уже обозначенному выводу – на чужбине невозможно в полном объёме воплотить задуманное. И не из-за каприза или неких бытовых неудобств.
«Мне непременно надобно воротиться в Россию; здесь же я потеряю даже возможность писать, не имея под руками всегдашнего и необходимого материала для письма – то есть русской действительности (дающей мысли) и русских людей».
В другом письме С.А. Ивановой (8 марта 1869 г.) Фёдор Михайлович подтверждает высказанную ранее мысль примером: «Вы пишите о Тургеневе и о немцах. Тургенев за границей выдохся и талант потерял весь, об этом даже газета «Голос» заметила». И вновь: «Я не боюсь онемечиться потому, что ненавижу всех немцев, но мне Россия нужна; без России последние силёнки и талантишко потеряю. Я это чувствую, живьём чувствую».
В это же время Достоевский ведёт переписку с Н.Н. Страховым. В своём послании от 26 февраля 1869 года он упоминает труд критика «Бедность нашей литературы»:
«Вы в эти два-три года почти молчания Вашего сильно выиграли, Николай Николаевич. Это мое мнение, судя по Вашим "Бедность" и статье в "Заре". Я всегда любовался на ясность Вашего изложения и на последовательность; но теперь, по-моему, Вы стоите несравненно крепче. Жаль, что не "Бедностью" Вы начали в "Заре", то есть жалею, что "Бедность" была напечатана раньше. Как брошюра, вероятно, она была замечена очень немногими, и, вероятно, множество из тех, которые очевидно прочли бы её с симпатией при её появлении, даже, может быть, и не знают до сих пор о её существовании, то есть просто не заметили её».
Действительно, Страхов в этой большой своей работе, вышедшей в Санкт-Петербурге в 1868 году отдельным изданием, сформулировал ряд основополагающих для себя принципов.
Приводя в самом начале книги, в первой главе «Различные стороны нашей бедности» цитату из статьи, помещённой в газете «Москва» № 86, 1867 года о лестных для русских словах, что, мол, они всё-таки по сравнению с азиатами народ цивилизованный, о русском языке и русской литературе, Николай Николаевич делает такой вывод по нашему национальному характеру:
«Итак, и радость нам не в радость, а в стыд, лестное, по-видимому, событие не подымает нашей народной гордости, не прибавляет нам самоуверенности, а, напротив, наводит уныние... Явление, над которым стоит остановиться. (…) Нет сомнения, важную роль играет здесь та постоянная потребность самоосуждения, самообличения и даже самооплевания, которая составляет одну из черт русского характера. Самодовольство и самовосхваление для нас нестерпимы; напротив, для нас составляет приятное препровождение времени всячески казнить самих себя, не давать себе ни в чем пощады, прилагать к себе самые высокие требования».
И это так точно, особенно глядя на этот вопрос из нашего времени. Российским журналистам и власти до сих пор, несмотря на всю ложь, обманы, вражду, поддержание войны против России, очень важно любое, даже вскользь брошенное лестное слово в адрес Москвы. Сами собой, своими достижениями мы никак не можем научиться гордиться. Да что гордиться – просто воспринимать как собственную данность, которая важна нам самим, а не тем она ценна, как её видят в Европе или США зачастую люди циничные и дико необразованные, пошло развращённые физически и духовно.
А ведь, по словам Страхова (глава вторая «О произведениях «недостойных» хорошей литературы»), если говорить о русских, писателях, то:
«Русские художники признают для себя требования непомерно высокие; они работают, исполненные какой-то религиозной боязни отступить от правды; они не смеют прибегнуть ни к единому рутинному приему, ни к малейшему облегчению своего труда посредством готовых, привычных форм. В этом смысле мы можем выставить некоторые произведения нашей литературы на образец всему миру. Можно поравняться с ними в правдивости, но превзойти их невозможно. Если же так, то из этого мы можем понять, что значит для нашего художника выбор предметов, которые он возводит в перл создания. Не по произволу совершается такой выбор; он совершается честно. Поэтому нужно поставлять за славу писателю, если он строго держится границ своего таланта; напротив, горе тому, кто их покидает!».
В третьей главе, озаглавленной «Современная бедность», Николай Николаевич продолжает ставить диагноз трудам русского человека-интеллектуала. Вспоминая, как он любит увлекаться вбрасываемыми ему теориями и версиями, Страхов замечает:
«Шум, обыкновенно, возбуждался скандалами, которые совершала в это время русская литература на поприще наук, критики, художества, общественной жизни. Скандалы возбуждали противодействие; но вся эта странная борьба и деятельность, как будто в самом корне лишенная живых соков, ни к чему не приводила и ничего не порождала. Какие вопросы мы решили? Какие прочные основы положили? Никаких. А между тем прожито много, и много потрачено сил. Несерьезное дело мы принимали всурьез и тратили на него свою душу. Такая уж увлекающаяся у нас натура, что мы ничего не умеем делать вполовину, с осмотрительностию и хладнокровием».
И далее уже убеждённо, ставя диагноз трудам отечественных литераторов по их достоинству:
«Русская литература есть весьма серьезная литература; это видно в самых её безобразиях, явных следствиях слишком серьезного отношения к делу. Нынешнее суровое затишье, полное раздумья и недоверия к себе, есть также состояние серьезное, есть действительный шаг вперед».
О нашей болезненной влюблённости во всё европейское критик размышляет и анализирует общественное состояние в части просвещённого общества России в следующей, четвёртой главе «Общий ход нашей литературы».
«Мы начали, как мы уже заметили, с восторгов. Наше вступление в среду европейских народов, наше присоединение к потоку всемирной истории было блистательно и торжественно».
Имеется в виду победа Петра Первого над шведами, его реформы и «прорубленное окно в Европу». Но во что это переросло столетие спустя?
«Прошло сто лет, и полтораста лет, и более; все время мы учились усердно, перенимали у европейцев все, начиная с их костюма и кончая их философией. И до чего же дошли мы? Кто скажет в настоящую минуту, что мы поравнялись с своими учителями? Кто с радостным сердцем предложит тост за них, как за себе равных? После стольких усилий, больше чем когда-нибудь мы сознаем, как мы далеки от Европы; более чем когда-нибудь мы чувствуем свое бессилие сравнительно с нею, бессилие и материальное, и нравственное, и умственное. Севастопольский погром открыл нам глаза в отношении к нашей внешней силе; но еще более грустные открытия сделаны нами потом в нашем умственном и нравственном настроении. Где между нами европейцы? Где та масса русских людей, которая, издавна находясь в обучении у Европы, представила бы нам деятелей, равных своим учителям и готовых потягаться с ними? Оказалось, что подобных людей у нас вовсе не успело образоваться. Европейское просвещение приносит на нашей почве скудные или уродливые плоды, и если мы храним в себе запас какой-то таинственной силы, то вовсе не потому, что успели стать европейцами. Что же за причина? Одно из двух: или мы народ неспособный, скудно одаренный природою и потому навсегда обреченный на роль учеников; или же есть некоторое препятствие к нашему обращению в европейцев, есть внутренняя, глубокая причина, мешающая нам идти по этой дороге, сбивающая нас с этого, по-видимому, гладкого и проторенного пути».
И Николай Николаевич определяет эту вторую причину, это «препятствие» и «внутреннюю, глубокую причину», не позволяющие русскому человеку становиться европеиподобным:
«Обнаруживается реакция против европейского просвещения не в смысле его отрицания, а в том смысле, что мы не хотим подчиниться ему бездеятельно, слепо, а во что бы то ни стало желаем усвоить его себе, претворить в свою действительную духовную собственность. Мы не хотим, да и не в том дело, что не хотим – мы не можем просто следовать по известным путям и указаниям; это невозможно для народа, который действительно составляет существо нравственное. И по чужим путям мы хотим идти как по своим собственным, и чужим указаниям следовать как своим собственным мыслям».
Иными словами: мы можем восхищаться вашей литературой, искусством, многим прочим, но по жизни можем (и будем!) идти только своим собственным путём.
«Наша литература – новая, разумеется, – начинается самым странным образом: она начинается торжественною песнью – одою, да какою! – ломоносовскою одою. Всем нам известен удивительный литературный тип этих произведений. Тут напрасно говорить о подражании. Тон ломоносовской оды, её величавый и могучий стих, её величавый и в то же время ясный, спокойный восторг – всё это типично в высшей степени, ибо всё это искренно, задушевно. Эта ода звучит как торжественный колокол, и, послушавши этого звона, никто его не забудет. (…) За Ломоносовым следует Державин. И что же? В новом поэте восторг не только не умаляется, а делается живее, определеннее, ярче. По-прежнему по Руси несется звук оды, звук торжественной песни, но в этой песне проступают уже краски и образы; перед нами уже обозначаются в ней живые лица: Екатерина, Потемкин. Это уже не простой хвалебный гул, это уже живая, теплая поэзия».
И всё-таки избавиться от европейского влияния русская литература не хотела и не могла.
«Мы писали свою историю точно так, как её пишут европейские народы; мы искренно отзывались на все звуки европейской поэзии, сочувствовали Шиллеру, Байрону и облекали нашу собственную действительность в формы сочувственных нам явлений».
Но отрезвление не могло не прийти.
«И вот наступил наконец выход из этого обмана, выход, который, рано или поздно, должен же был наступить. Выход получился мудреный и многозначительный, так как это была развязка глубокого жизненного развития, а не простой логической ошибки. В одно и то же время выпало двоякое решение, положительное и отрицательное – в одно и то же время явились Пушкин и Чаадаев. (…) В сравнении с Европой Чаадаев признал ничтожною всю русскую жизнь, все задатки и плоды нашего развития и нашел, что для нас единственное спасение – перевоспитать себя, принять все от Европы, до глубочайших основ духовной жизни. Это был первый последовательный западник.
Чаадаев был то же в отношении к Пушкину, что Радищев в отношении к Державину. Как Радищев отнесся с величайшим отрицанием и унынием к действительности, вызвавшей столь громкий восторг Державина, так Чаадаев отнесся с сомнением и неверием к той духовной жизни, которая уже породила поэзию Пушкина».
Характеристику нигилизму в русской жизни вообще и в литературном творчестве в частности Страхов продолжает расширять в следующей главе «Нигилизм. Причины его происхождения и силы». Критик обращает внимание публики главным образом вот на что:
«Прежде всего, нигилизм есть некоторое западничество. Он возник под влиянием Запада, следовательно, под тем влиянием, которое так давно и так сильно на нас действовало и постоянно действует. (…) Совершенно ясно, что умственные явления Запада дали точки опоры для развития нашего нигилизма, явления, давно там зародившиеся, имеющие силу и будущность и потому составляющие постоянный источник, постоянную поддержку для нашего нигилистического движения. Нигилизм, какого бы оттенка он ни был, всегда характеризуется великим уважением к Западу, всегда имеет там каких-нибудь божков и оракулов, может быть, превратно понимаемых, но от всего сердца поклоняемых и славимых. Это та сторона нигилизма, в которой обнаруживается недостаток у нас самостоятельного развития – наше подчинение Западу».
И что в итоге это подчинение несёт? Какие жертвы? К какому результату приводит? Что мы, нынешние патриоты России, должны для себя уяснить, оценивая возможность переубедить предавших родину либералов в самый судьбоносный для неё исторический период?
«Глядя на Запад, мы если преклонялись перед его духовною жизнью, то должны были последовательно отрицать всю русскую жизнь, весь её смысл. Так поступил Чаадаев, и не нужно забывать, что это естественная необходимая точка зрения. Полное признание с одной стороны требовало полного отрицания с другой. Отсюда уже можно было предвидеть, что это признание, покупаемое такою дорогою ценою, не может долго держаться и что если оно перейдет в сомнение, то не остановится на половине, а должно дойти до такого же полного отрицания».
И уже как предупреждение русским людям: «…каждое безобразие, творимое ныне на русской земле, имеет своим непосредственным следствием, между прочим, и усиление нигилизма, отражается в его пропорциональном наращении».
Сейчас нам даже страшно представить, если бы русское общество, действительно, направилось по этому пути и пришло к тому, к чему в итоге пришёл Запад в своей духовной жизни – к полному разложению её. Но, как Н.Н. Страхов уже замечал выше, этого не могло произойти ни при каких обстоятельствах в силу совершенно отличного от европейского русского характера, сущности русского менталитета, жизненных устремлений.
Русский народ противопоставил нигилизму Чаадаева – Пушкина, гения, рождённого из недр собственного духовного начала.
«С этого времени у нас постепенно развивались две партии, западническая и славянофильская; одна – требовавшая всецелого подчинения Европе, другая – стоявшая за нашу духовную самостоятельность. Вот фундамент, на котором развивается наша литература, та почва, на которой она растет. Пушкин составляет звено, заключающее эту золотую цель, венец этого основного развития; в его стихах, как справедливо заметил К.Аксаков, повторились "Буки ломоносовских стихов, а в элементах его поэзии заключаются все зачатки, которые с тех пор развиваются нашими художественными талантами. (…) Западники имели у нас большой перевес; они весьма настойчиво подводили наше развитие под свою точку зрения и проповедовали, что наши художники служат их идее и потолику и хороши, поколику ей служат. (…) Идея западничества не могла вполне завладеть художественною сферою, но она свободно развивалась в других сферах литературы, в критике, публицистике, и наконец выродилась в интереснейшее явление – в нигилизм. Если хотите, нигилизм имеет и свои художественные отражения, но по сущности дела в них мы находим одну чистую видимость, скрывающую отсутствие всякого художества; ибо где нет жизни, там не может быть художества. (…) Можно, впрочем, сказать иначе, и в известном отношении правильнее: они довели свой взгляд на русскую жизнь до такого непонимания, до такой тупости, что потом естественно перестали понимать и европейскую жизнь».
Трудно и теперь, в наше время, не согласиться с оценками критика, высказанными сто пятьдесят лет назад. Мы их полностью можем подтвердить на примерах нынешнего века.
Однако вернёмся к письму Ф.М. Достоевского, в котором он так высоко оценил книгу Страхова.
Фёдор Михайлович осторожно подсказывает критику, стараясь не задеть самолюбия того:
«Кстати, заметили Вы один факт в нашей русской критике? Каждый замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил на поприще, непременно как бы опираясь на передового писателя, то есть как бы посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя и в продолжение жизни успевал высказать все свои мысли не иначе, как в форме растолкования этого писателя. Делалось же это наивно и как бы необходимо. Я хочу сказать, что у нас критик не иначе растолкует себя, как являясь рука об руку с писателем, приводящим его в восторг. Белинский заявил себя ведь не пересмотром литературы и имен, даже не статьею о Пушкине, а именно опираясь на Гоголя, которому он поклонился еще в юношестве. Григорьев вышел, разъясняя Островского и сражаясь за него. У Вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву Толстому, с тех самых пор как я Вас знаю».
Впрочем, писатель мог тут упомянуть и своё имя. Ведь незадолго до этого письма в «Отечественных записках» в номерах 3 и 4 за 1867 год появилась большая статья Николая Николаевича о романе «Преступление и наказание». В ней критик приводит такие размышления Раскольникова (по изданию1867 года):
«Я все себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы, и коли я знаю уж наверно, что они глупы, то сам не хочу быть умнее? Потом я узнал, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет... Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди и не переделать их никому, и труд не стоит терять! Да, это так! Это их закон!.. И теперь я знаю, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин. Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось, и так всегда будет! Только слепой не разглядит!».
«– Я догадался тогда, – продолжал он восторженно, – что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять её. Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто запросто все за хвост и стряхнуть к черту! Я... я захотел осмелиться» (т. II, стр. 225).
После такого цитирования Николай Николаевич продолжает давать подобной теории уже свою актуальную оценку. Как мы понимаем – для второй половины девятнадцатого века:
«Читатели, конечно, хорошо знают эти отрицания правды и смысла в истории, тот взгляд на исторические явления, по которому все они происходили от насилия, опиравшегося на заблуждения. Этот взгляд, взгляд просвещенного деспотизма, породил на западе Европы огромные революции и до сих пор порождает там людей, которые разрешают себе все средства, чтобы изменить ход всемирной истории, которые считают себя вправе домогаться места законодателей и учредителей нового, разумного порядка вещей. Эти люди уже не живут под каким-нибудь авторитетом, потому что сами поставляют себя авторитетом для человечества. Они, подобно Раскольникову, желали бы, если бы могли, "взять все за хвост и стряхнуть к черту". Но эти люди действуют, считая своею целью благо человечества, и они имеют дело с историею народов. Поэтому, с одной стороны, их усилия получают характер бескорыстия, самоотвержения, с другой стороны, их деятельность никогда не бывает удачною. История их не слушается и идет своим порядком. Глупые народы не понимают того блага, которое им предлагают умные люди».
И кто теперь может утверждать, что в мировоззрении «на западе Европы» что-то изменилось, поменялось в более умеренную сторону от ощущения своего величия и вседозволенности, уверенности, что все иные народы обязаны выполнять их «хотелки». Такое впечатление (и не безосновательное), что история человечества, во всяком случае, пока, имеет многовековую и неразрешимую проблему под названием взаимоотношение Запада и всего остального человечества.
Именно это является камнем преткновения на несчастной земле пока Украины. Увы, ей, оказалось, суждено быть той территорией, где сейчас решается глобальный вопрос дальнейшего существования мира – в каком качестве, и в каком виде человечество будет продолжать свою историю. Либо в том, который уже не первое десятилетие, деградируя изживает себя, или в новом, более справедливом по отношению ко всем нациям и народностям.
Фёдор Михайлович в своих письмах множество раз даёт оценки гуманитарной составляющей Европы и отечественным либералам той поры, ставящим (впрочем, что с того времени изменилось?) её в пример, слепо поклоняющимся всему тому, что декларирует Запад, но сам чему в своей жизни далеко не следует. Вот Достоевский и наставляет Страхова в письме от 24 марта 1870 года: «Вы слишком, слишком мягки. Для них надо писать с плетью в руке. Во многих случаях Вы для них слишком умны. Если б Вы на них поазартнее и погрубее нападали – было бы лучше. Нигилисты и западники требуют окончательной плети».
А в письме А.Н. Майкову 30 декабря 1870 года уж и сам написал «с плетью в руке»: «Если б Вы знали, как это отсюда видно! Но если б Вы знали, какое кровное отвращение, до ненависти, возбудила во мне к себе Европа в эти четыре года. Господи, какие у нас предрассудки насчет Европы! Ну разве не младенец тот русский (а ведь почти все), который верит, что прусак победил школой? Это похабно даже. Хороша школа, которая грабит и мучает, как Атиллова орда? (Да и не больше ли?). (…) Пусть они ученые, но они ужасные глупцы! Еще наблюдение: весь здешний народ грамотен, но до невероятности необразован, глуп, туп, с самыми низменными интересами».
Всё тому же А.Н. Майкову 25 февраля1871 года: «Что же касается до перемены политического воззрения в французских головах (на что так наивно надеется Данилевский в своей статье), то никогда этого не будет, или очень долго не будет. Не такие головы, чтобы отказаться могли от ненавистного взгляда на Россию. И сами себя погубят. Таких даже и не жалко».
Повторю: всё это пишет Ф.М. Достоевский находясь в Европе, непосредственно наблюдая за её повседневной (в том числе и политической) жизнью. И цитирую так щедро письма Фёдора Михайловича только за тем, чтобы показать всю современность его оценок Запада для теперешнего времени. Ведь и в конце века двадцатого, и в двадцать первом сколько было иллюзий (да и остаётся ещё не мало), что Россия сможет с ним, коллективным, договориться, выстроить взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения.
Возможно ли это? Достоевский подобное отвергает. Но не отвергает возможности мыслящего обманувшегося человека вернуться в лоно Родины. И в переписке есть тому доказательство.
Вот каким наблюдением Фёдор Михайлович делится с Николаем Николаевичем 23 апреля 1871 года, посылая ему письмо из Дрездена.
«У Вас была, в одной из Ваших брошюр, одна великолепная мысль, и главное, первый раз в литературе высказанная, – это что всякий чуть-чуть значительный и действительный талант – всегда кончал тем, что обращался к национальному чувству, становился народным, славянофильским. Так свистун Пушкин вдруг, раньше всех Киреевских и Хомяковых, создает летописца в Чудовом монастыре, то есть раньше всех славянофилов высказывает всю их сущность и, мало того, – высказывает это несравненно глубже, чем все они до сих пор. Посмотрите опять на Герцена: сколько тоски и потребности поворотить на этот же путь и невозможность из-за скверных свойств личности. Но этого мало: этот закон поворота к национальности можно проследить не в одних поэтах и литературных деятелях, но и во всех других деятельностях. Так что, наконец, можно бы вывесть даже другой закон: если человек талантлив действительно, то он из выветрившегося слоя будет стараться воротиться к народу, если же действительного таланта нет, то не только останется в выветрившемся слое, но еще экспатри<и>руется, перейдет в католичество и проч. и проч. (…) Но дело в том, что эта мысль Ваша до того сильна, что непременно должна быть развита особо, специально».
…В окончании этих заметок вновь предоставлю слово Н.Н. Страхову. Для этого приведу выдержки из завершающей (шестой) части книги Николая Николаевича «Заметки о Пушкине и других поэтах» – «Пушкинский праздник» – где критик даёт, на мой взгляд, наиболее точную «общественно-политическую характеристику» деятельности Ф.М. Достоевского как литератора и провидца в вопросе противостояния Запада и России.
«К какой партии принадлежит Достоевский? Как известно, он любил примыкать к славянофилам; но для меня, как для давнишнего сотрудника журналов, было несомненно, что он не есть прямой славянофил, или, по крайней мере, что не из славянофильства он почерпнул то восторженное поклонение Пушкину, которое так блистательно выразил и которое дало ему победу. И я вспомнил с большою живостию ту партию, к которой он принадлежал. Её можно назвать чисто литературною, или, пожалуй, пушкинскою, наконец, просто русскою. Она всегда сильно тяготела к славянофильству, но не выставляла резких положений и законченных общественных теорий, и потому никогда не успевала добиться такого внимания публики, каким пользовались западничество и славянофильство. Она постоянно проповедовала величайшую любовь к художественной литературе, придавала ей почти первенствующее значение в духовной жизни народа, а потому, можно сказать, благоговела перед Пушкиным, как перед главным явлением нашей литературы. Она, эта партия, уклонялась от подражательности западничества и всегда видела в современной русской жизни больше внутреннего содержания, чем его находило исключительное славянофильство, а также всегда менее славянофильства чуждалась жизни иных народов».
И далее уже непосредственно о речи Фёдора Михайловича:
«Но на речь Достоевского и можно, и следует взглянуть еще с другой стороны. Зажигающее действие этой речи много зависело от того, что на ней лежит печать особенного настроения, свойственного Достоевскому. Именно тут сказалась его широкая способность всему симпатизировать, его уменье примирять в себе по-видимому несогласимые настроения, его стремление ничего не отвергать, ничего не исключать безусловно и оставаться верным в любви к тому, что раз он полюбил.
Можно вообще сказать, что с него можно брать пример в двух отношениях: он не только может быть образцом истинного консерватора, но и образцом того, как следует нам держать себя в отношении к тому, с чем мы враждуем, что считаем ложным и гибельным. По направлению, по духу, он самый широкий из современных писателей, и потому естественна его любовь к самому широкому из наших гениев, к Пушкину. (…)
Достоевский был консерватором по натуре. В нем сильно, но быстро совершился тот процесс, которым почти неизменно характеризуется развитие всех значительных русских писателей: сперва они увлекаются отвлеченными мыслями, идеалами, заимствованными с Запада, потом возникает внутренняя борьба и разочарование и, наконец, – пробуждаются лишь на время подавленные чувства, любовь к родной святыне, к тому, чем жива и крепка русская земля».
Валерий СДОБНЯКОВ, День Литературы







Оценили 13 человек
20 кармы