
Обложила обская вода остяцкий поселок Пыжино, обступила со всех сторон - лишь зеленый бугор, пуповина земли, торчит из мутного розливища.
А на этом бугре, с перепугу будто бы, сбились в кучу дома, которые остяки еще по старинке зовут здесь юртами. Дома прокопчённые, серые, скучно глядят они на воду, хмуро надвинув на окна покоробленные козырьки крыш.
От дома к дому, по осиновым жердям и кольям, набросаны сети: с крупными ячеями, по пять перстов - язевки, муксунные, для вылова нельмы сплавом, и частушки - с ячейками в два перста. В частушки издавна на Оби ловят мелкую жировую рыбу.
Вода уже заняла огороды, перекинулась через изгороди, разлилась по сорам-лугам, затопила кусты по сограм. И только одни высоченные осокори выступают над неоглядными хлябями, как великаны, вздумавшие переходить море вброд.
От воды в небо ползет редкий туман, от тумана небо белесое, блеклое, и скучно вдали проступают на ветлах черные точки вороньих гнезд.
Не понять, не найти, где сейчас Обь с глинистыми ярами, где пестрая речка Пыжинка, ленивая, почти не живая: вечно липнет к её берегам ржавая пена и всякий сор.
* * *
Этот рассказ озвучен мной в видео, текст ниже:
Ссылка на видео: https://youtu.be/dRWK-4l7mRM
* * *
Страсть сколько воды кругом! И не пристало вроде бы удивляться нарымским людям, остякам да чалдонам разным (для них большая вода не в диковину), да и те нынче чешут затылки, вяжут узлы по избам.
За крайней избой, на брёвнышке, сидят, сугорбившись, хромой остяк Анфим да крепкий мужик из русских - Андрон, пыжинский бондарь с сельповской засольной. Поди, уже час прошёл, как воткнули они в бережок таловую палку с зарубками - ждут, какую она им прибыль воды покажет.
Покуривают, поплевывают да все про то же толкуют: про великое, небывалое наводнение.
- Эва прет, сатана, язви ее! - плюется бондарь Андрон. - Прямо удержу нету: ведь от нее, скажи, печной заслонкой не отгородишься. Придется, паря, гачи закручивать да в кедрачи бечь.
Остяк Анфим Мыльжин, вольный промысловик, звонко хлещет себя пальцами по голяшкам бродней.
- Врысь побегишь, и то, холера, настигнет... Нисяво-о, большой вода - рыбы много! Промышлять пойдем.
- Оно так, - соглашается с ним Андрон и поводит по сторонам головой. - Озерья обрежутся - рыбка с соров покатится, не промешать. А больше рыбы еще комарья будет. Из годов нонче будет комар: с весны жучить начнет.
- Без полога не уснешь - зачикочут. - Анфим помолчал, глянул на бондаря краешком глаза; Андрон тискал ладонями уши, мотал головой, морщился. - Чо, паря, опился вчерася, корежит?
- Да, брат... дело не в порядке: баба щи пролила, облила все пятки... Чёрт поднес - выпили.
- Али правда?
- Ну вот ещё! Поди, сродственник твой же, Костя Щепеткин. Я за дровами собрался, лодку столкнул, и он тут подлез. А с Костей связки, как с чертом пляски. Пристал: пошли да пошли. Одна у него песня... Пятый стакан на коленки Щепеткина бросил. Отволок его спать, а он не лежит. Маялся с ним: ночь, как порох, сгорела... Не люблю я его! Уж как пристанет...
Мыльжин Анфим языком пощелкал - как бы выразил этим согласие с суждением Андрона.
- Мал-мал маракуем, - сказал он после, выждав изрядно. - Правда твоя: дурной Костя мужик, лешак, а чо поделаешь? Бабе своей он глянется, якорь его!
- Сестра твоя, Катерина, ему потакает...
О Косте Щепеткине больше не говорили, замолчали надолго. Слышалось, как в затопленной согре кричит соксун - широконосая утка, дерутся дрозды.
"Тюр-ли-ли! Тюр-ли-ли!" - качались тонкие кулички на кочках. Издалека, наверное с острова, где высятся осокори, долетает сюда мягкий голос кукушки. Анфим ловит знакомый звук молодой весны, ловит, подставив ухо, приоткрыв рот и сощурившись. Лицо его сплошь рябое от оспы, даже на плоских больших ушах видны рытвинки. Оно кажется сонным, ленивым. Из широких и круглых ноздрей продирается сквозь густой волос двумя быстрыми струями дым. Костистое грубое лицо Анфима вдруг сморщивается: выскалив зубы, он громко чихает.
- Спичку в нос! - говорит бондарь Андрон.
- Спасибо за мягку затычку, - отвечает привычно Анфим, дико выкатывая глаза, собираясь, наверно, ещё раз чихнуть. Но больше не чихает, только всё ещё морщится и трет нос кулаком.
- Андрон, - переходит на шёпот остяк. - Али я из ума выживаю? Опять мне Лукерья привиделась.
- И опять, поди, потом облился с испугу?
У остяка Анфима скончалась недавно родственница, мозглявая старушонка Лукерья. Было этой Лукерье не сосчитать сколько годов. И вот она как-то ночью Анфиму пригрезилась, голая, "чистый шкилет". Будто бы говорит ему:
"Ты, Анфимушка, в баню собрался, так меня не забудь: я тебе спину потру".
Сама страшная старушонка, загробная, а голос вроде бы девичий, ласковый, нежный. Анфим от такого дива криком со сна зашелся, всех своих ребятишек перебулгачил и бабу. Баба у него русская, тёмная, набожная, да и Анфим крещён, но в бога верит серёдка на половинку. Тут же он рассказал своей бабе про дивный и страшный сон.
"Худо будет: кто-то помрет у нас", - оробела Анна, Анфимова баба.
"Да подь ты к бесу!" - выругался Анфим.
А баба ему опять:
"Ну, не у нас в родове погинет, так кто-нибудь в Пыжино... Скажи потом, вру".
Утром Анфим Мыльжин не утерпел рассказать про свой сон на сельповской засольной. Бондарь Андрон, партиец, обсмеял его, и остяк обиделся. А теперь вот сам вспомнил об этом, смеется и фыркает.
- Знаешь, об чём я всё думаю? - сказал погодя Андрон. - Егорша Сараев из ума не выходит. Семь дён минуло, другая неделя пошла... В такую воду - кака там рыба ему?
- Однако, правда. Долго сидит на озере Егорша Сараев, давно возвернуться пора. Баба его совсем плохой: скоро рожать ей, паря... Поди-ка, хлеб у Егорши кончался, и рыба не ловится, не иматся.
- Так и есть. Погодить да проведать надо. - Бондарь свел и развел колени, поставил бродни ступня к ступне.
Остяк Анфим долго слюнил новую самокрутку, мелко покусывая желтыми большими зубами мокрый край газетки.
- Хотел я нонче Максимшу Сараева, варнака, отмутузить, да убёг от меня, от хромого, - сказал Анфим.
- Это за што ж ты его? - оборотился бондарь.
- А порох стащили - Максим да Пантиска мой. И за баней стреляли из самопалов... Беда каки озорны растут! Своему я ладом нажег, будет помнить.
- Егорша Сараев не бьет детей, - упрекнул Анфима Андрон.
- У Егорши покуда один, а я наплодил семерых. Пускай путем привыкают жить... Однако, в юртах кто нас с Егоршей добрее? Мы с ним похожи. Егорша мне сам лонись говорил.
Андрон усмехнулся с грустью.
- Похожа свинья на быка, только шерсть не така... Падера в ночь не ударила бы, холера. Как ты думаешь, Анфим?
Остяк оглядел небо, втянул ноздрями сыреющий воздух.
- Будет падера, паря...
Из тумана проглянуло солнце, облило желтым рябое лицо Анфима, он по-кошачьи зажмурился и, кажется, задремал.
Бондарь сполз с бревна на траву, навалился сутулой спиной на шершавую стволину. Курит, глотает дым большими затяжками, стирает с губ рукавом табачные крошки.
Так прошло у них сколько-то молчаливых, тихих минут.
В стороне заплескалась вода: кто-то брёл к ним по отмели. Анфим очнулся, оторвал от хилой груди подбородок, скосился, глянул темным зрачком в узкую щелку.
По отмели шел к ним мальчонок лет так восьми, в подвернутых до колен штанишках: то высоко ноги поднимет, то бороздит ими воду, бурлит - брызги в стороны. Кудлатая, нестриженая головенка, красная, медная, склонилась через плечо к воде и что-то высматривает: жучков каких или рыбок. Серая рубашонка от подола до ворота в нашлепах грязи, и весь мальчонка до ушей мокрый, забрызганный.
- Максим, якорь тебя, поди-ка сюды! - позвал Анфим.
Максим, сын лесника Егорши Сараева, о котором они только что тут вспоминали, доверчиво поворачивает к мужикам. Он уже позабыл, что остяк Анфим хотел его отодрать утром за шкоду. Он подходит к Анфиму вплоть и вблизи кажется еще более огненным, похожим на золотого карасика.
Затолкав красные, в цыпках, руки за ошкур штанишек, Максим с вопросительным любопытством уставился карими глазами на остяка: чего такого Анфиму понадобилось? Круглая мордашка усыпана веснушками - курице негде клюнуть, а нос-пипка уже успел облупиться.
- Цыпки паришь, мурлатый? - хитро и добренько спрашивает Анфим.
- Мамка выведет. Весной как же без цыпок? Весной у меня завсегда цыпки, - бойко залопотал Максим. - Дядя Анфим, а ты меня на кротов возьмешь? У меня пика есть, я тоже буду кротов колоть.
Максим протиснулся между колен Анфиму - ластится, теребит сыромятные ремешки, которыми подвязаны остяцкие бродни.
Анфим обнял мальчонку за плечи и вдруг больно поймал шершавыми пальцами за мягкое ухо.
- "Москву" покажу...
- Ай-га! Пусти! Пусти! - заверещал Максим и, вырвавшись, стриганул, как вспугнутый бурундук.
- А-аа, - облизался остяк Анфим. - Пантиске было больней, однако, и то он не плакал, не обзывался.
- Хромой, хромой! - издали дразнится мальчик. - Дай только папка приедет - всё расскажу.
- Я т-тебе! - Анфим привскочил понарошку с бревна, и Максим припустил от него по отмели к согре.
Остяк проковылял к таловой палке с зарубками: ноги его увязали в топкой, разжиженной глине. Он потоптался подле тонкого колышка, зачем-то выдернул его и воткнул снова. Забрел подальше, зачерпнул воды в горсть и вылил себе в рот. Потом он стоял, отставив кривую ногу, изломавшись в спине, и глядел на подернутое хмарью розливище.
- Больше не прибывает, на мерку стала! - крикнул остяк бондарю. - Не надо в кедрач уходить, дома жить будем!
Бондарь скоро пошел к нему, разминая бахилами прошлогоднюю травку-муравку. Чавкала сырость.
- А Сараева надо искать, Егоршу. На Окуневое озеро ты третиводни еще собирался. Поедешь? - спросил Андрон.
Остяк заломил кепку-кожанку, толстые губы сомкнул, глазами раскосо стал глядеть себе под ноги.
- Погожу мал-мал и поеду проведать. Худо дело. Н-ня...
Он покачал головой и стал выбредать из воды на сухое. Андрон подождал его, и они пошли вместе к избам.
2
Максим как забежал за излучину, так почувствовал, что ему жалко стало Анфима. Хромым обозвал, язык показывал... Разве так хорошо? Вот бы отец услыхал - поставил бы живо в угол. Анфим хоть и строгий мужик, но к ребятам приветливый. И Максима он брал на рыбалку частушки ставить, даже давал ему покальбо - палку втыкать, за которую сетку вяжут, чтобы ветром не унесло. И чебаков Максим выбирал из частушек, жирных, икряных. И дуб-корье они драли в прошлом году с остяками на острове.
Тогда такой страшной воды и придумать было нельзя - все берега было видно. Пригонишь к берегу лодку в четыре греби, живчиком выскочишь на песок - белый, твердущий, что даже следов на нём от босых ног не остается. Сначала песок тянется, а потом ил: ссохся весь, потрескался, корочкой взялся. Наступишь, а он хрустит, крошится... А дальше густой-прегустой тальник: тонкий, высокий, кора на нем сочная, мягкая и сластит изнутри, когда языком полижешь.
Дуб-корье драть куда как просто: проведешь около корня талины ножиком, подберешься ногтями под кожицу, дернешь - и потянется лента до самой макушки. За день сотню талин обшкуришь, кору в пучки свяжешь. Высохнут пучки на солнце да на свежем ветру побуреют, и понесут их в сельпо сдавать. Это и есть дуб-корье, потому что идет оно на дубление кожи, сетей.
И балберу он драл: это кора от осокоря. Балбера годится на поплавки к неводам, на спасательные круги, что калачами висят на больших пароходах.
Стругал он балберу острым ножом через колено, нажег мозоли, но отец не ругал, а хвалил: "Полезному в жизни учись, пригодится. На дядю Андрона смотри, он все умеет".
Дядя Андрон и Максимов отец сдружились, и всё выходит у них по уму.
Сдружились после того, как с бондарем горе случилось. Был он с Егоршей Сараевым в прошлом году на рыбалке. Тащили где-то они обласок по осоке.
Дядя Андрон босый был, ну и цапнула его гадюка за ногу. Сделалось дяде Андрону плохо, замутило, голова закружилась. Отец привез его домой чуть тёпленького. Потом бабка Варвара, мать остяка Анфима, долго лечила бондаря травами.
Бондаря все кругом почитают за руки, за мастерство - с других, дальних поселков едут к нему и идут. Ух, какие чаны, бочки делает он из клепок! Как начнет подгонять клепку к клепке да обручи наколачивать, и стук же стоит. А клепок у дяди Андрона! А стружек в бондарной! На стружках валяться мягко, только потом вся голова в крошках. Мать за это ругается.
Рядом с бондарной - засольня. Там просоленный, крепкий, шибающий в нос запах. Вороха чешуи, рыбьих кишок, сверкают ножи, штабелями лежат рогожные кули с солью. В чанах налит тузлук, в него потрошеную рыбу бросают: в какой чан язей, в какой окуня, в какой валят чебака с ельцом...
В пустые чаны хорошо гукать. Как гукнешь, так звон в ушах. Потом пальцами долго в ушах ковыряешь, зуд не можешь унять. А когда в черном пустом чане на дне чуть-чуть воды, то видишь себя, как в зеркале: и конопушки, и облупленный нос, и рыжий вихор. А дунешь - и все исчезает.
Вот ещё Максиму сходить бы хоть раз на кротов. Остяки привозят кротов мешками, а он помогает им обдирать шкурки и набивать их гвоздями на стенки. У остяков дома стены брусчатые, нештукатуренные, поизбиты гвоздями и жирные от кротовых шкур...
К Максиму прямо из согры летела парочка уток. Он присел, затаился зверьком. Утки плюхнулись в тихую воду: от них красиво пошли расходиться круги. Засмотрелся Максим: голова у селезня с зеленым отливом, перья в хвосте стружками завились. Максим поднялся в рост, утки его заметили и заплыли в кусты.
Впереди мальчика залитые водой кочки у согры. На кочках трава прошлогодняя стоймя поднялась, расправилась и шевелится. И от этого кочки сейчас похожи на головы утопленников, а трава - на волосы. Максиму ничуть не страшно. Отец учит его ничего не бояться, и он хоть днем, хоть ночью может пойти на остяцкое кладбище, потрогать кресты и разноцветные лоскутки на сучках деревьев. Говорят, остяки этими лоскутками духов задабривают, чтобы они покойникам спать не мешали.
Так и шёл мальчик по отмели вброд и всё думал. В одном месте он увидел пестрых рыжих щурят: они стояли у поверхности воды и еле двигали плавниками. Максим достал из-под ног грязи и кинул грязью в щурят. Вода замутилась, брызнули дождиком серебряные мальки.
И в тот же миг откуда-то налетел злой ветер, охладил Максиму лицо, зашумел в ушах. Запузырилась на лопатках тонкая рубашонка.
- Максим, варнак, ступай домой, мать, однако, зовет!
Где-то близко кричал Анфим. Максим пошел на голос не сразу. Анфим показался из-за куста крушины. В руках он держал весло, сумку с едой, через плечо висели у него сети-частушки. Шел остяк кособоко, как всегда ходил: кривая нога кидалась вперед, а голова отскакивала назад. Он весь шатался, когда шагал, изламывался. Трудно ходить Анфиму, Пантискиному отцу.
Кибасья-грузила, сделанные из обожженной глины, завернутые в бересту, звякали где-то за спиной у него. Он прохромал молча к своему обласку.
- Дядь, я поеду с тобой? - жалобно попросился мальчик.
Остяк склонился над обласком, укладывал сети; зад его был изуродованно отставлен.
- Дядь...
Но Анфим так и не подал голоса.
3
Сараевы поселились в Пыжино с прошлой весны. Своего дома у них здесь не было, и остяк Анфим Мыльжин уступил им пристройку возле своей "юрты". В ней было тесно, в пристройке, пахло сетями, рыбой, собаками, потому что собаки лезли зимой в тепло, просились, скуля и поджимая хвосты. Отец Максима, Егорша Сараев, никогда не прогонял собак, он их жалел, что ли, зато Анфим ворчал, глядя на это, и - случалось - пинками вышибал псов на улицу. Он не любил, как все остяки, чтобы собак наваживали к теплу.
Дверь пристройки сейчас была распахнута настежь, проход закрывала лишь марлевая занавеска. Максим, подбегая сюда, услышал какие-то бойкие плескучие голоса - тревожные, торопливые, и сквозь эти голоса особенно прорывались болезненные, стонущие вскрики матери.
В душе мальчика что-то замерло, притаилось, и он подумал, что матери хуже, чем было раньше. Он быстро перешагнул порог и выпученными глазами стал глядеть вокруг, как будто всё сразу хотел охватить и понять.
- Кричи, Арина, тошней, скорее облегчишься.
Это проговорила Анна, Анфимова баба. "Что же это, мать, выходит, рожает? - взросло подумал Максим. - Вот бы глазком взглянуть, как это братик или сестренка на свет появятся".
Максим подсунулся ближе и увидел, что мать лежит на кровати горячая, волосы у нее растрепанны, мокры.
- Ты тут? Беги-ка, милок, с ведерком по воду, - быстро сказала ему Анфимова баба. - Да не пужайся, пострел. Ишь вон - щеки пошли мадежами.
Мальчик стоял, озирался: он словно прирос к полу.
- Да живее, о господи! - Анна пихнула его в спину, притопнула маленькой толстой ногой.
Одним махом слетал он по воду, полведра расплескал дорогой. Анна выхватила у него ведерко, вылила воду в большой черный чугун и погнала ещё. Второй раз Максиму идти совсем не хотелось, он замешкался у порога, но вошла бабка Варвара, старая мать хромого Анфима, и первым делом турнула его взашей:
- Поди-ка, чо выставился, бесстыдник!
В другое бы время мальчик обиделся, передразнил бы бабку Варвару как мог, а тут смолчал. Подумал, как матери больно и страшно сейчас, и почувствовал, что кожу его покрывают пупырыши. Но далеко от хибары он не ушел: остался ждать, прислушиваться.
"Был бы хоть папка дома, а то уехал на свое Окуневое..."
Внутри пристройки всё так же плескались голоса баб, и всё сильнее стонала и охала мать. Потом она вдруг закричала без роздыху длинным отчаянным криком, захлебнулась и смолкла. Максим не слышал, чтобы люди кричали когда-нибудь таким криком, и он подумал, что мать его умерла.
- Эх, мать ты наша, голубушка, - узнал он тут же голос Анфимовой бабы. - Сын, и длинный, как журавель!
И вслед за этим радостным, молодым и дрожащим голосом Анны прорезался хриплый младенческий плач. "Вот и братик родился", - подумал Максим без радости и тихо пошел от хибарки к воде.
За огородами набухала цветом рябина, выметывала белые кисти черемуха. На прясле сидел скворец и чистил желтым клювом под крылышком. За амбар пробежала серая длинномордая крыса. Максим хотел пойти посмотреть, куда она скрылась, но передумал...
К полудню сыновья остяка Анфима пригнали полную лодку рубленого сухостоя. Лодка была перегружена и не могла подойти к берегу. Носом она зацепила мель, и Максим бросился помогать заводить лодку к причалу. Низко над головой просвистела стайка чирков.
- Соли на хвост! Эх, паря, - сказал старший Пантискин брат Лёвка, перешагивая за борт в бахилах.
Лёвка сильно тянул лодку с кормы, средний из братьев, Порфилка, пихался шестом, Пантиска - гребью. Кое-как лодку развернули бортом, стали перебрасывать дрова на сухое. Максим от старанья ободрал руки, поцарапал кожу на животе, но азарт помогать старшим был так у него велик, что он даже не обращал внимания на ссадины.
Старшие сыновья Анфима остались на берегу курить и перематывать портянки, а Пантиску Максим утащил с собой.
Пантиска был черноволосый, как головешка, а глаза у него были "простокишные", как говорила бабка Варвара. Цвет глаз достался ему, наверно, от матери: Анна у Анфима голубоглазая, светловолосая. От матери, русской бабы, и веснушки ему перешли. Но конопатки-веснушки у Пантиски лишь к носу налипли, а у Максима всё лицо как семенем конопляным усеяно.
- Слышь-ка, у нас братик родился, - гордо сказал Максим, заскакивая вперед Пантиски.
- Ишь ты, ладом твой отец постарался! - Пантиска сунул кулаком в Максимов живот. - В нашей избе тоже все мужики. Отец девок не любит.
- Пошто? - недоумевает Максим.
- Толку с них! - Пантиска машет рукой и кругло, как бурундук, надувает щеки. - Мужик - охотник, рыбак. И на покос его, куда хошь. А баба...
- Небось, вон сказывали, бабка Варвара ваша всю жизнь зверей промышляла. Не худьше, сказывали, всякого мужика, - возразил Максим.
Они были погодки, но остячонок чем-то казался старше Максима.
Особенно это чувствовалось, когда Пантиска начинал спорить. Но шибко спорить он не любил.
- А твой отец куда-то уехал на обласке, - сказал Максим.
- Не куда-то, а вовсе на Окунёвое - отца твоего проведать, Егоршу Сараева. Мы лодку гнали с дровами, тятька нам встрелся, - ответил Пантиска.
- А мой папка там рыбу ловит, - важно заметил Максим. - Он нам окуней привезет, жирных!
На обласке мальчишки перебрались на остров. На островах гнездились утки, устраивались по дуплам старых осокорей и ветел. Вода не оставляла весной места для гнездовий, и утки, особенно из породы нырковых, захватывали дупла и старые вороньи гнезда в драку. Дупла с утиными гнёздами мальчишки привычно, легко отыскивали.
Пантиска карабкается по корявой стволине старой ветлы, упирается, перехватывает руками ловко. Глядь - уже на самой верхушке, постукивает, похлопывает, ухо к дуплине прикладывает: не слыхать, не шипит ли змея?
Бывает, что в дуплах прячутся змеи... У Пантиски привязана к поясу поварешка с длинной ручкой: такую в ведре утопи - ручка наружи будет.
Остячонок, послушав, сует в дупло поварешку, рука у него по плечо тонет в отверстии. Приловчился, пристроился и подцепил яичко - зеленое, крупное.
Пантиска свешивает черную голову, светлый свой глаз щурит.
- Лови-ка!
Максим внизу оттопыривает рубаху, яйцо падает прямо в подол. Он берет его и укладывает в куженьку - берестяной коробок. Так набрали они много яиц.
Яичницу жарила Анна, Пантискина мать. Хватило и взрослым, и ребятишки налопались. И матери притащил Максим, её накормил досыта. Весна - время в Нарыме голодное.
Бедует весной народ...
Зашел к Сараевым дядя Андрон, поздравить зашел с новорожденным да прихватил заодно пол-ведёрка подъязков. Говорить много при матери сдерживался, а все улыбался больше. Арина тихим измученным голосом спрашивала:
- Что, не видать там моего Сараева?
Бондарь снял с головы картуз, погладил колючие волосы.
- Теперь их разве что вместе с Анфимом ждать... Не седня-завтра заявятся.
Грубое лицо у дяди Андрона, а как улыбнётся, как поглядит горячими, ласковыми глазами, так сразу другим становится.
- Максимша, едрёна вошь, потроши рыбу: мать, поди, жареной хочет.
- Ничегошеньки я не хочу, - тоскливо и слабо отозвалась Арина. - А за рыбку тебе благодарствую, Андрон Михайлович.
- Чего там, - вроде бы застеснялся бондарь, - ешьте себе на здоровье.
Как только дядя Андрон сказал Максиму чистить подъязков, так тот и полез сразу на полку нож доставать: он слушался дядю Андрона, уважал изо всех.
- А хвосты отрубать подъязкам? - услужливо спрашивал мальчик.
- Это как хошь, - отвечал бондарь. - Только желчь не дави, а то горько будет.
Арина вздохнула, остановила на сыне исстрадавшиеся глаза.
- Не обрежься смотри. По сторонам не заглядывайся.
И повернула лицо к дяде Андрону.
- Хворал Егор-то Иваныч в том месяцу, все дни, как есть, ногами маялся.
- Так контуженый он, знамо дело, - поугрюмел бондарь. - Ведь и я его отговаривал, и я не хотел, чтобы он забирался на Окунёвое. Да нешто с ним совладаешь? Охочий он до тайги, до разных промыслов. Сама небось знаешь...
- Когда здоровее-то был, я за него не боялась... Надорвался он там. Год продержали, а ровно бы десять.
- Оклемается, мужицкая сила свое возьмет. Егорша - крепкой замески... Ты погоди, Арина, больно-то не печалься.
- Сила, здоровье... Вернутся ли?
Андрон подъехал по длинной лавке поближе к Арине, надел кожаный свой картуз на колено.
- Ишь как сбесилась нонче вода. Не чаяли. Но ты за Егоршу не бойся.
- Кабы добро - вернулся бы уж. Знает, в каком я тут положенье осталась.
- Ну, скажи, родила ты не в срок - поспешила...
Заплакал младенец, сморщился и заорал громко, требовательно. Арина вывалила из кофты тяжелую грудь, на соске вспухла капелька молока.
Младенец, названный по отцу Егоркой, поймал сосок орущим ртом и зачмокал.
- Базластый, - проговорил смутливо дядя Андрон и отвернулся. - В отца пойдет - што надо мужик будет.
- В отца я пойду, - ревниво буркнул Максим.
Мать с улыбкой потерлась щекой о подушку.
- Ну и ты-ы, об чем разговор, - развел руками дядя Андрон и надел восьмиклинный картуз с пуговкой. - Ты, Максимша, в первую голову, а Егорка уж во вторую... Если, конечно, порох у остяка Анфима не будешь больше таскать.
Дядя Андрон подморгнул, мальчик боязливо скосился на мать, но Арина, занятая дитём, кажется, ничего не услышала.
- Папка меня нынче в школу пошлет, а потом в город. Я буду лесничий.
- Дело толкуешь, Максимша! - Бондарь встал с лавки, сильно сжал мальчику плечи. - Толстенький ты, справный, хошь и голодно по весне. Не горюй - перебьемся!.. Ну, Арина, бывай здорова! Посидели с тобой, поглагольствовали.
Мать подняла с подушки лицо.
- Спасибо тебе, захаживай...
Дядя Андрон поднырнул под занавеску, и будто его не было. В выбитое окно напахивало свежим весенним воздухом. Окно в хибарке высадил пьяный засольщик Костя Щепеткин: черт его дернул в потемках шарашиться. Прийти застеклить обещал...
Максим всё ещё старательно соскабливал с подъязков крупную серебристую чешую, вспарывал жирные брюшки. Чешуя летела ему на лицо, на рубаху.
Опять запищал Егорка, оторванный от груди, но сразу затих: насосался.
"Красный, как морковка, совсем не красивый, и я его не люблю", - подумал о нём Максим.
На дворе кричала Анфимова баба:
- Пантиска, дров притащи, у меня руки в тесте!
"Стряпают, - сообразил Максим, - пышки пекут... поджаристые... на рыбьем жиру". Во рту у мальчика стала скапливаться слюна, под языком закололо маленькими иголками. Он проглотил... Как давно он не ел поджаристых пышек! Пирожков, шанежек, настоящего мягкого хлеба! В доме мука у них давно кончилась, мать послала как-то его в сельпо, но там муки не было. Сказали, что старый завоз кончился, новый не начинался. Вот скоро притащится с паузком катер, который все называют "болиндером". Болиндер смешно хрюкает, из трубы у него вылетают в небо синие кольца.
Максима позвала Пантискина мать. Она стояла у русской печи, опиралась на сковородник, кофта у нее на спине была мокрая, лицо красное, тоже мокрое, распаренное, в муке. Жар печи обдавал ее с головы до ног. Со всех сторон обступали её чумазые остячата.
- Пришел... Ну, держи вот. Много-то нету, тоже в сусеке последнюю замели.
Она шлепнула ему на протянутые ладони круглую пышку, ноздреватую, всю в жиру. Пышка обжигала пальцы. Максим прижал её к животу, к рубахе, и побежал за порог.
- С матерью раздели, один не лопай! - прокричала вдогонку Анна.
"Думает, что я жадный такой... Я не такой, не думай".
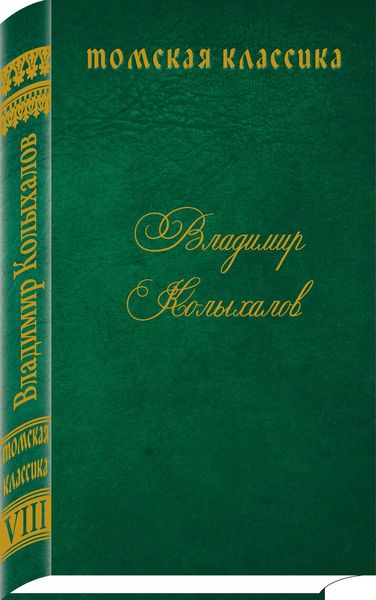
Это были отрывки из книги - ДИКИЕ ПОБЕГИ.
Автор Владимир Анисимович КОЛЫХАЛОВ.

Владимир Анисимович КОЛЫХАЛОВ (1933—2009)
Роман «ВЕШНИЕ ПОБЕГИ» (впоследствии – «ДИКИЕ ПОБЕГИ»), впервые опубликованный в январе-феврале 1967 года в журнале «Сибирские огни» (№№1-2, 1967), принёс его автору, томскому писателю ВЛАДИМИРУ АНИСИМОВИЧУ КОЛЫХАЛОВУ широкую известность у всесоюзного читателя и признание литературной общественности.

Роман Владимира Колыхалова – одно из первых художественных произведений о Нарымском крае.
Роман о Сибири, её природе и людях, об их жизни - суровой и трудной, о дружбе остяков и русских. Герои произведений Владимира Колыхалова - охотники, рыбаки, лесорубы, смолокуры - люди тяжёлого, но романтического труда.
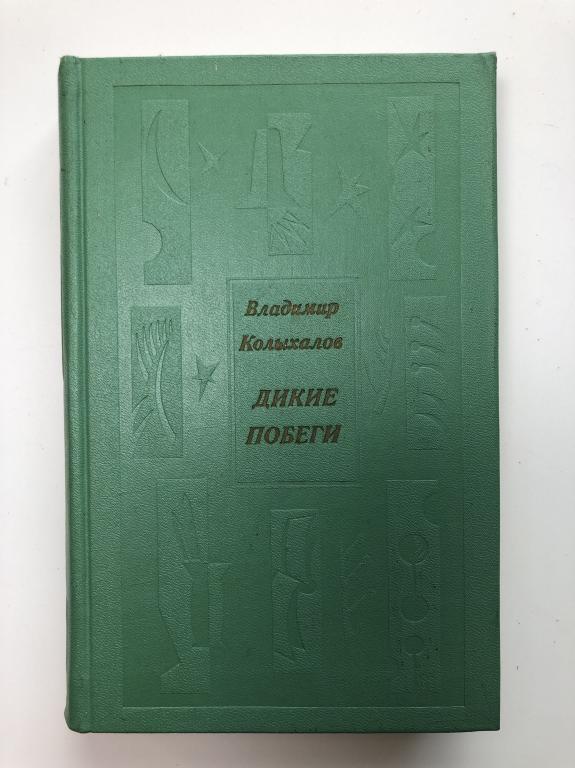
«Один критик вполне резонно заметил, что имя моё принадлежит Сибири. Я этим горжусь, ибо родом из Нарыма. Ему, в основном, и отдал своё творчество. Любовь к людям родной земли, к Природе с годами ещё больше окрепла»
Владимир Колыхалов.
«Война сирот на земле много оставила, обездолила, искалечила – таким детям разве жалко душу отдать? Добру и любви к жизни, разуму надо их научить!»
Владимир Колыхалов.
Роман «Дикие побеги» доступен во всех муниципальных библиотеках Томска.
* * *
А дальше вы прочитаете сами, если захотите.
На этом всё, всего хорошего, читайте книги - с ними интересней жить!
Юрий Шатохин, канал Веб Рассказ, Новосибирск.
До новый встреч!







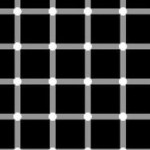
Оценили 4 человека
4 кармы