
«Встал бы из могилы, ну хоть Даль, и услышал бы в трамвае такое: «- Наш домкомбедчик спекульнул на косых». Даль не понял бы ни слова и подумал бы, что это воровской жаргон. Но велико было бы его изумление, когда оказалось бы, что этот воровской жаргон – всеобщий, что все только на этом жаргоне и говорят, что прежнего русского языка уже нет. Все говорят о каких-то мешочниках, танцульках… Вместо простите, говорят извиняюсь, вместо до свиданья - пока».
«В три-четыре года словарь Даля устарел на тысячу лет. Сколько ни перелистывай его, в нём не найдешь ни Антанты, ни саботажа, ни буржуйки, ни совдепа. А те немногие древние слова, которые ещё уцелели, перекрашены в новую краску».
1922 год.
Корней Чуковский.
Это отрывки из начала его статьи - «Новый русский язык», опубликованной в петроградской газете «Жизнь искусства» в 1922 году.
* * *
Эта тема озвучена мной в видео, текст ниже:
Ссылка на видео: https://youtu.be/Fr7ekuuhJnQ
Здесь можно слушать без тормозов и замедления:
https://boosty.to/webrasskaz - Веб Рассказ на Boosty
https://rutube.ru/channel/5471... Веб Рассказ на RuTube
https://bastyon.com/webrasskaz - WebRasskaz на Бастионе
https://plvideo.ru/channel/@we... - Веб Рассказ на Платформе
https://zen.yandex.ru/id/60c62... Веб Рассказ Дзен
http://vk.com/youriyshatohin - на моей страничке в Вконтакте
* * *
ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ
В нем [в русском языке] все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твёрдых до самых нежных и мягких, он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно.
Гоголь
Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье ещё драгоценнее самой вещи.
Гоголь
* * *
Анатолий Федорович Кони, почетный академик, знаменитый юрист, был, как известно, человеком большой доброты. Он охотно прощал окружающим всякие ошибки и слабости.
Но горе было тому, кто, беседуя с ним, искажал или уродовал русский язык. Кони набрасывался на него со страстною ненавистью.
Его страсть восхищала меня. И все же в своей борьбе за чистоту языка он часто хватал через край.
Он, например, требовал, чтобы слово обязательно значило только любезно, услужливо.
Но это значение слова уже умерло. Теперь в живой речи и в литературе слово обязательно стало означать непременно. Это-то и возмущало академика Кони.
– Представьте себе,– говорил он, хватаясь за сердце,– иду я сегодня по Спасской и слышу: «Он обязательно набьет тебе морду!» Как вам это нравится? Человек сообщает другому, что кто-то любезно поколотит его!
– Но ведь слово обязательно уже не значит любезно, – пробовал я возразить, но Анатолий Федорович стоял на своем.
Между тем нынче во всем Советском Союзе не найдешь человека, для которого обязательно значило бы любезно. Нынче не всякий поймет, что разумел Аксаков, говоря об одном провинциальном враче:
«В отношении к нам он поступал обязательно».
Зато уже никому не кажется странным такое, например, двустишие Исаковского:
И куда тебе желается,
Обязательно дойдёшь.
Многое объясняется тем, что Кони в ту пору был стар. Он поступал, как и большинство стариков: отстаивал те нормы русской речи, какие существовали во времена его детства и юности. Старики почти всегда воображали (и воображают сейчас), будто их дети и внуки (особенно внуки) уродуют правильную русскую речь.
Я легко могу представить себе того седоволосого старца, который в 1803 или в 1805 году гневно застучал кулаком по столу, когда его внуки стали толковать между собой о развитии ума и характера.
– Откуда вы взяли это несносное развитие ума? Нужно говорить прозябение.
Стоило, например, молодому человеку сказать в разговоре, что сейчас ему надо пойти, ну, хотя бы к сапожнику, и старики сердито кричали ему:
– Не надо, а надобно! Зачем ты коверкаешь русский язык?
А когда Карамзин в «Письмах русского путешественника» выразился, что при таких-то условиях мы становимся человечнее, адмирал Шишков набросился на него с издевательствами.
«Свойственно ли нам,– писал он,– из имени человек делать уравнительную степень человечнее? Поэтому могу [ли] я говорить: моя лошадь лошадинее твоей, моя корова коровее твоей?»
Но никакими насмешками нельзя было изгнать из нашей речи такие драгоценные слова, как человечнее, человечность (в смысле гуманнее, гуманность).
Наступила новая эпоха. Прежние юноши стали отцами и дедами. И пришла их очередь возмущаться такими словами, которые ввела в обиход молодежь:
даровитый,
отчётливый,
голосование,
общественность,
хлыщ.
Теперь нам кажется, что эти слова существуют на Руси спокон веку и что без них мы никогда не могли обойтись, а между тем в 30–40-х годах минувшего столетия то были слова-новички, с которыми тогдашние ревнители чистоты языка долго не могли примириться.
Теперь даже трудно поверить, какие слова показались в ту пору, например, князю Вяземскому низкопробными, уличными.
Слова эти: бездарность и талантливый.
«Бездарность, талантливый, – возмущался князь Вяземский, – новые площадные выражения в нашем литературном языке. Дмитриев правду говорил, что „наши новые писатели учатся языку у лабазников“».
Если тогдашней молодежи случалось употребить в разговоре такие неведомые былым поколениям слова, как:
факт,
результат,
ерунда,
солидарность,
представители этих былых поколений заявляли, что русская речь терпит немалый урон от такого наплыва вульгарнейших слов.
«Откуда взялся этот факт?– возмущался, например, Фаддей Булгарин в 1847 году.– Что это за слово? Исковерканное».
Яков Грот уже в конце 60-х годов объявил безобразным новоявленное слово вдохновлять.
* * *
Даже такое слово, как научный, и то должно было преодолеть большое сопротивление старозаветных пуристов, прежде чем войти в нашу речь в качестве полноправного слова. Вспомним, как поразило это слово Гоголя в 1851 году. До той поры он и не слышал о нём. Старики требовали, чтобы вместо научный говорили только учёный: учёная книга, учёный трактат. Слово научный казалось им недопустимой вульгарностью.
Впрочем, было время, когда даже слово вульгарный они готовы были считать незаконным. Пушкин, не предвидя, что оно обрусеет, сохранил в «Онегине» его чужеземную форму. Вспомним знаменитые стихи о Татьяне:
Никто б не мог её прекрасной
Назвать: но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовётся vulgar. (Не могу…
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме…)
(VIII глава)
Переводить это слово на русский язык не пришлось, потому что оно само стало русским.
Конечно, старики были не правы. Теперь и слово надо, и слово ерунда, и слово факт, и слово голосование, и слово научный, и слово творчество, и слово обязательно (в смысле непременно) ощущаются всеми, и молодыми и старыми, как законнейшие, коренные слова русской речи, и кто же может обойтись без этих слов!
Теперь уже всякому кажется странным, что Некрасов, написав в одной из своих повестей ерунда, должен был пояснить в примечании: «Лакейское слово, равно-значительное слову дрянь», а «Литературная газета» тех лет, заговорив о чьей-то виртуозной душе, сочла себя вынужденной тут же прибавить, что виртуозный - «новомодное словцо».
По свидетельству академика В. В. Виноградова, лишь к половине девятнадцатого века у нас получили права гражданства такие слова: агитировать, максимальный, общедоступный, непререкаемый, мероприятие, индивидуальный, отождествлять и т. д.
Можно не сомневаться, что и они в свое время коробили старых людей, родившихся в восемнадцатом веке.
В детстве я ещё застал стариков (правда, довольно дряхлых), которые говорили: на бале, Александрынский театр, генварь (январь), румяны, белилы, мебели (во множественном числе) и гневались на тех, кто говорит иначе.
Вообще старики в этом отношении чрезвычайно придирчивый и нетерпимый народ. Даже Пушкина по поводу одной строки в «Онегине» некий старик донимал в печати вот такими упреками:
«Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старинным грамматикам? Можно ли так коверкать русский язык?»
* * *
Но вот миновали годы, и я, в свою очередь, стал стариком. Теперь по моему возрасту и мне полагается ненавидеть слова, которые введены в нашу речь молодежью, и вопить о порче языка.
Тем более что на меня, как на всякого моего современника, сразу в два-три года нахлынуло больше новых понятий и слов, чем на моих дедов и прадедов за последние два с половиной столетия.
Среди них было немало чудесных, а были и такие, которые казались мне на первых порах незаконными, вредными, портящими русскую речь, подлежащими искоренению и забвению.
* * *
Помню, как страшно я был возмущен, когда молодые люди, словно сговорившись друг с другом, стали вместо до свиданья говорить почему-то пока.
Или эта форма: я пошёл вместо я ухожу. Человек ещё сидит за столом, он только собирается уйти, но изображает свой будущий поступок уже совершённым.
С этим я долго не мог примириться.
* * *
В то же самое время молодежью стал по-новому ощущаться глагол переживать. Мы говорили: «я переживаю горе», или: «я переживаю радость», а теперь говорят: «я так переживаю» (без дополнения), и это слово означает теперь: «я волнуюсь», а ещё чаще: «я страдаю», «я мучаюсь».
У Василия Ажаева в «Предисловии к жизни» в авторской речи:
«И напрасно Борис переживал».
Такой формы не знали ни Толстой, ни Тургенев, ни Чехов.
Для них переживать всегда было переходным глаголом. А теперь я слышал своими ушами следующий смешной пересказ одного модного фильма о какой-то старинной эпохе:
– Я так переживаю! – сказала графиня.
– Брось переживать! – сказал маркиз.
* * *
По-новому осмыслился глагол воображать. Прежде он означал фантазировать. Теперь он чаще всего означает: чваниться, важничать.
«Он так воображает», – говорят теперь о человеке, который зазнался.
Правда, и прежде было: воображать о себе («много о себе воображает»). Но теперь уже не требуется никаких дополнительных слов.
* * *
Очень коробило меня нескромное, заносчивое выражение я кушаю. В мое время то была учтивая форма, с которой человек обращался не к себе, а к другим:
– Пожалуйте кушать!
Если же он говорил о себе: «я кушаю» – это ощущалось как забавное важничанье.
* * *
Вот уже лет тридцать в просторечии утвердилось словечко обратно - с безумным значением опять.
Помню, когда я впервые услышал из уст молодой домработницы, что вчера вечером пес Бармалей «обратно лаял на Марину и Тату», я подумал, будто Марина и Тата первые залаяли на пса.
Но мало-помалу я привык к этой форме и уже ничуть не удивился, когда услыхал, как одна достопочтенная женщина сообщает другой:
– А Маша-то обратно родила.
* * *
Вскоре после войны появилось ещё одно новое слово – киоскёр, столь чуждое русской фонетике, что я счел его вначале экзотическим именем какого-нибудь воинственного вождя африканцев: Кио-Скёр.
Оказалось, это мирный «работник прилавка», торгующий в газетном или хлебном ларьке.
Слово киоск существовало и прежде, но до киоскёра в ту пору ещё никто не додумывался.
* * *
Такое же недоумение вызывала во мне новоявленная форма: выбора (вместо выборы), договора (вместо договоры), лектора (вместо лекторы).
В ней слышалось мне что-то залихватское, бесшабашное, забубенное, ухарское.
Напрасно я утешал себя тем, что эту форму уже давно узаконил русский литературный язык.
– Ведь, – говорил я себе, – ещё Ломоносов двести лет тому назад утверждал, что русские люди предпочитают окончание «а» «скучной букве» «и» в окончаниях слов:
облака, острова, леса вместо облаки, островы, лесы.
Кроме того, прошло лет сто, а пожалуй, и больше, с тех пор, как русские люди перестали говорить и писать: домы, докторы, учители, профессоры, слесари, юнкеры, пекари, писари, флигели и охотно заменили их формами: дома, учителя, профессора, слесаря, флигеля, юнкера, пекаря и т.д.
Мало того: следующее поколение придало ту же залихватскую форму новым десяткам слов, таким как: бухгалтеры, томы, катеры, тополи, лагери, дизели. Стали говорить и писать: бухгалтера, тома, катера, тополя, лагеря, дизеля и т. д.
Если бы Чехов, например, услышал слово тома, он подумал бы, что речь идет о французском композиторе Амбруазе Тома.
Казалось бы, довольно. Но нет. Пришло новое поколение, и я услыхал от него:
шофера, автора, библиотекаря, сектора, прибыля, отпуска.
И ещё через несколько лет:
выхода, супа, матеря, дочеря, секретаря, плоскостя, скоростя, ведомостя, возраста, площадя.
Всякий раз я приходил к убеждению, что протестовать против этих для меня уродливых слов бесполезно.
Я мог сколько угодно возмущаться, выходить из себя, но нельзя же было не видеть, что здесь на протяжении столетия происходит какой-то безостановочный стихийный процесс замены безударного окончания ы (и) сильно акцентированным окончанием а (я).
И кто же поручится, что наши правнуки не станут говорить и писать:
крана, актера, медведя, желудя.
Наблюдая за пышным расцветом этой ухарской формы, я не раз утешал себя тем, что эта форма завладевает главным образом такими словами, которые в данном профессиональном (иногда очень узком) кругу упоминаются чаще всего: форма торта существует только в кондитерских, супа - в ресторанных кухнях, площадя - в домовых управлениях, трактора и скоростя - у трактористов.
Пожарные говорят: факела. Электрики - кабеля и штепселя.
Певчие в «Спевке» Слепцова: тенора (1863)
Не станем сейчас заниматься вопросом, желателен ли этот процесс или нет, об этом разговор впереди, а покуда нам важно отметить один многознаменательный факт: все усилия бесчисленных ревнителей чистоты языка остановить этот бурный процесс или хотя бы ослабить его до сих пор остаются бесплодными.
Если бы мне даже и вздумалось сейчас написать «томы Шекспира», я могу быть заранее уверенным, что в моей книге напечатают: «тома Шекспира», так как томы до того устарели, что современный читатель почуял бы в них стилизаторство, жеманность, манерничание.
* * *
Вдруг оказалось, что все дети называют каждого незнакомого взрослого: дяденька, дядька:
– Там какой-то дяденька стоит во дворе…
Мне потребовались долгие годы, чтобы привыкнуть к этому новому термину, вошедшему в нашу речь от мещанства.
Теперь я как будто привык, но не забуду, до чего меня поразила одна молодая студентка из культурной семьи, рассказывавшая мне о своих приключениях:
– Иду я по улице, а за мной этот дядька…
* * *
Очень раздражала меня на первых порах новая роль слова запросто. Прежде оно значило: без церемоний.
– Приходите к нам запросто (то есть по-дружески).
Теперь это слово понимают иначе. Почти вся молодежь говорит:
– Ну это запросто (то есть: не составляет никакого труда).
* * *
Это в высшей степени любопытный процесс – нормализация недавно возникшего слова в сознании тех, кому оно при своем появлении казалось совсем неприемлемым, грубо нарушающим нормы установленной речи.
Русский язык настолько жизнеспособен, здоров и могуч, что тысячу раз на протяжении веков самовластно подчинял своим собственным законам и требованиям любое иноязычное слово, какое ни войдет в его орбиту.
В самом деле. Чуть только он взял у татар такие слова, как тулуп, халат, кушак, амбар, сундук, туман, армяк, арбуз, ничто не помешало ему склонять эти чужие слова по законам русской грамматики: сундук, сундука, сундуком.
Точно так же поступил он со словами, которые добыл у немцев, с такими, как фартук, парикмахер, курорт.
У французов он взял не только пальто, но и такие слова, как бульон, пассажир, спектакль, пьеса, кулиса, билет,– так неужели он до того анемичен и слаб, что не может распоряжаться этими словами по-своему, изменять их по числам, падежам и родам, создавать такие чисто русские формы, как пьеска, закулисный, безбилетный, бульонщик, сундучишко, курортник, гуманность и проч.
Конечно, нет! Эти слова совершенно подвластны ему.
Впрочем, и метро, и бюро, и депо, и кино тоже не слишком-то сохраняют свою неподвижность. Ведь просторечие склоняет их по всем падежам:
– В депе – танцы.
– Завтра на бюре рассмотрим!
– Я лучше метром поеду!
Сравни у Маяковского:
Я,
товарищи,
из военной бюры.
(«Xорошо!»)
И у Шолохова:
«– У нас тут не скучно: если кина нет, дед его заменит».
Возникли эти формы не со вчерашнего дня.
Еще в «Войне и мире» Льва Толстого:
«– Читали немножко, а теперь, – понизив голос, сказал Михаил Иванович, – у бюра, должно, завещанием занялись».
В драме «Поздняя любовь» А. Н. Островского:
«– Эка погодка! В легоньком пальте теперь… Ой-ой!»
У него же в комедии «Лес»: «пальты коротенькие носит».
Русский язык вообще тяготеет к склонению несклоняемых слов. Не потому ли, например, создалось слово кофий, что кофе никак невозможно склонять? Не потому ли кое-где утвердились формы радиво (вместо радио) и какава (вместо какао), что эти формы можно изменять по падежам?
Всякое новое поколение русских детей изобретает эти формы опять и опять.
Четырехлетний сын профессора Гвоздева называл радиомачты – радивы и твердо верил в склоняемость слова пальто, вводя в свою речь такие формы, как в пальте, пальты. Воспитывался он в высококультурной семье, где никто не употреблял этих форм.
1962
Корней Чуковский.
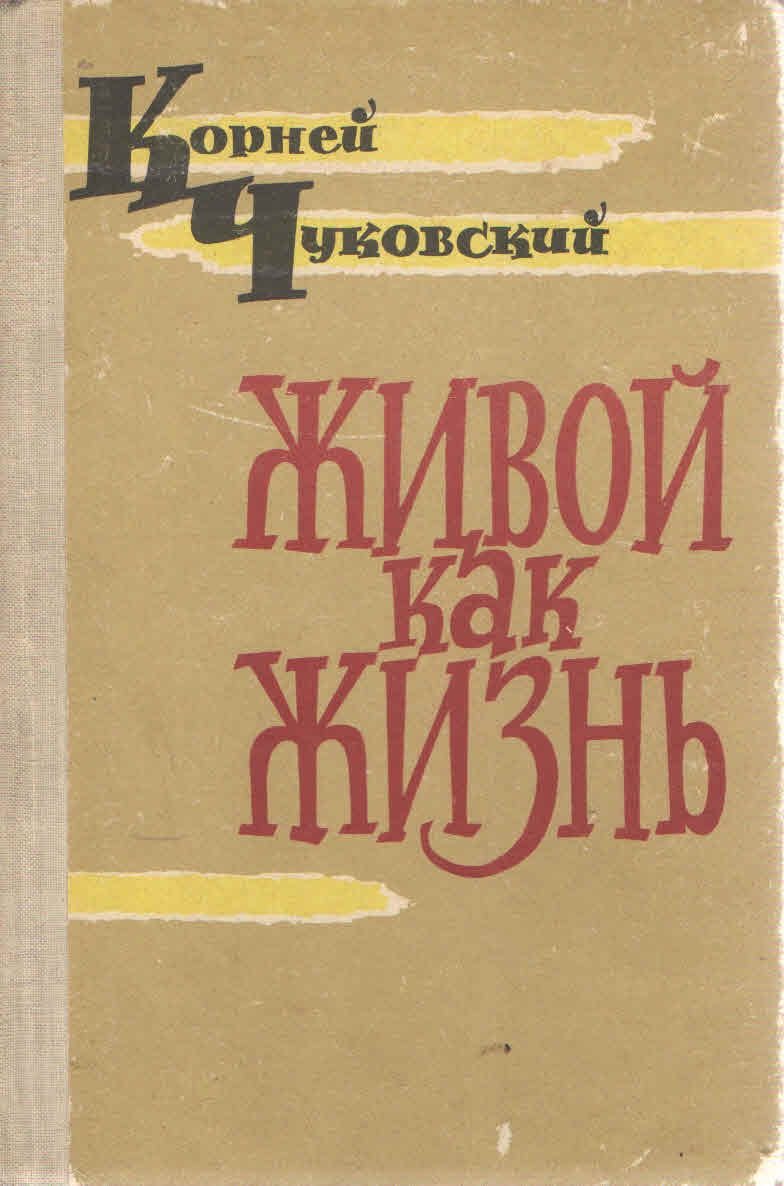
Это были отрывки из книги - Живой как жизнь. О русском языке.

Автор Корней Иванович Чуковский - самый издаваемый в Советском Союзе и России автор детской литературы; тираж книг Чуковского за 2017 год превысил 2 миллиона экземпляров.
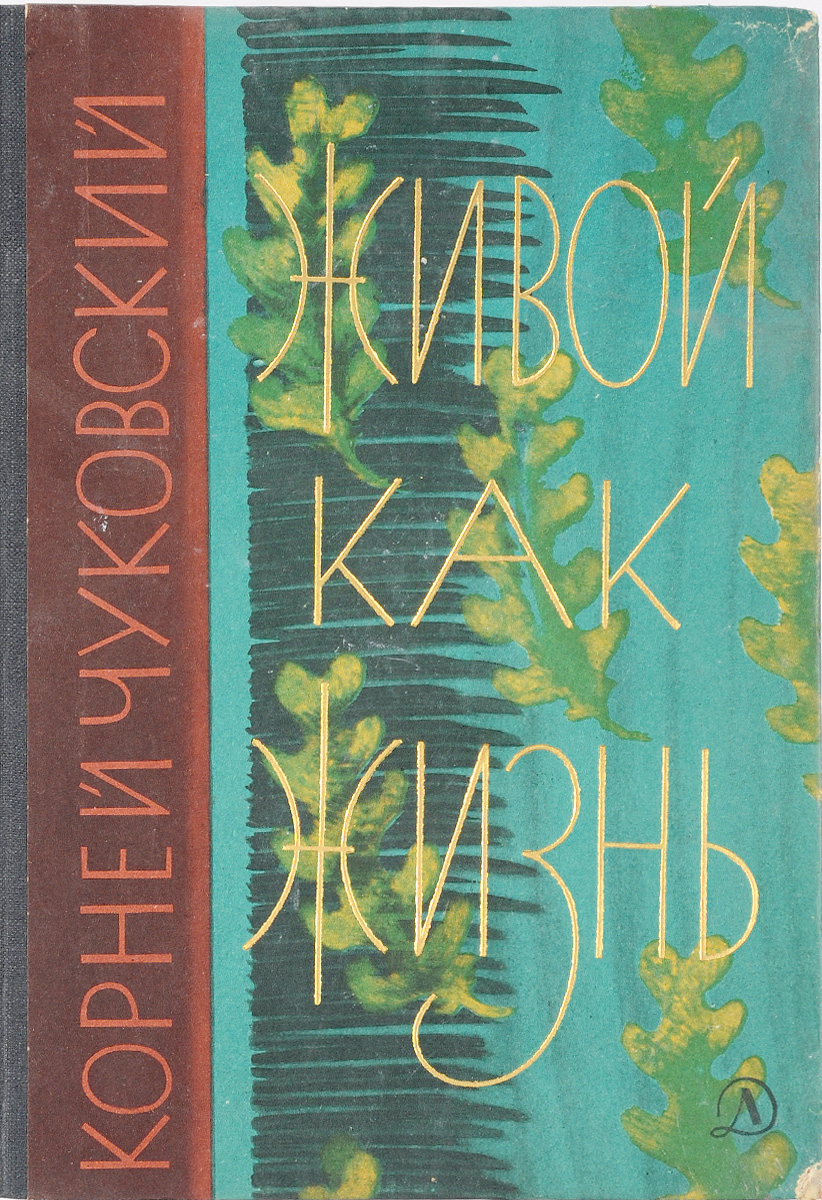
Книга Живой как жизнь. О русском языке была последней книгой Корнея Чуковского, а сказки Айболит, Мойдодыр, Тараканище сразу же после публикации были подвергнуты жесточайшей критике.
Вот что написал об этом сам Чуковский в предисловии к книге Живой как жизнь:
«Незадолго до этого я написал для детей (вслед за «Крокодилом») «Мойдодыра», «Муху-Цокотуху», «Тараканище», «Доктора Айболита» и другие сказки в стихах. Сказки эти появились впервые в печати в самом начале двадцатых годов и вызвали жестокие нападки рапповцев, пролеткультовцев, педологов (направление в педагогике).
Мне и в голову тогда не приходило, что когда-нибудь эти гонимые сказки будут печататься миллионами экземпляров и выдержат многие десятки изданий и что я доживу до поры, когда те дети, для которых эти сказки написаны, превратятся в седых стариков и будут читать их своим внукам и правнукам».
Очень рекомендую и книгу Корнея Чуковского - «От двух до пяти». Отрывки из этой книги я как то озвучивал на своём канале Веб Рассказ.
* * *
На этом всё, всего хорошего, читайте книги - с ними интересней жить!
Юрий Шатохин, канал Веб Рассказ, Новосибирский Академгородок.
До свидания.



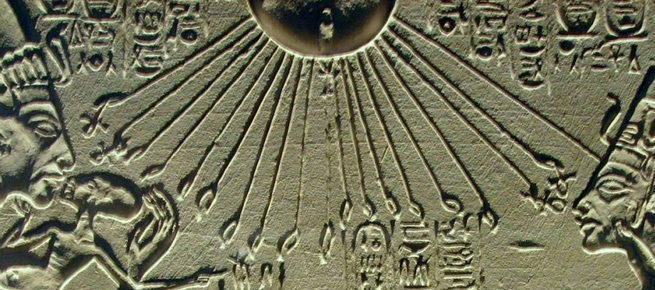






Оценили 8 человек
13 кармы