В России набирает обороты новая волна деприватизации — массового изъятия частного бизнеса государством. Этот процесс, который аналитики называют пополнением бюджета за счёт активов, приобретает системный характер: скорость изъятия сократилась до нескольких дней, а инструментами служат уголовные дела, обыски и аресты. Громкие дела таких компаний, как «Макфа», «Дальполиметалл» и аэропорт «Домодедово», демонстрируют разнообразие поводов для деприватизации.
Идеологически этот процесс связан с Конвенцией ООН о противодействии коррупции и российским законом 2008 года. Механизм основан на том, что Генеральная прокуратура может изъять излишки имущества, если расходы владельца значительно превышают его официальные доходы. Выделяют три основные категории исков: антикоррупционные (изъятие имущества на неподтверждённые доходы), деприватизационные (нарушение порядка приватизации в 90-е годы) и иски, связанные с нарушением порядка владения активом, особенно в стратегических отраслях. Общий объём изъятых активов уже достиг 2,6 триллиона рублей, что является частью фискальной политики государства на фоне необходимости пополнения бюджета.
На примере дела «Макфы» видны новые законодательные нормы: прокуратура требует изъятия не только активов, но и всех дивидендов, зарплат и доходов акционеров за последние 20 лет, применяя солидарную ответственность родственников владельцев. При этом суды зачастую рассматривают такие дела формально, а представители прокуратуры не стесняются нести значительные расходы, как в случае с перелётами бизнес-классом на процессы.
Особое внимание уделяется стратегическим объектам. Аэропорт «Домодедово», бывший последним крупным частным аэропортом, стал объектом иска в связи с нарушением закона о контроле за инвестициями в стратегические общества. Государство стремится сохранить контроль над такими активами у российских инвесторов, исключая иностранное влияние. Однако это приводит к рискам: ухудшению инвестиционной привлекательности, возможным экономическим ошибкам со стороны государственных управленцев и снижению конкуренции, что в итоге может негативно сказаться на качестве обслуживания пассажиров.
Практика изъятия распространяется не только на крупный бизнес. Ярким примером являются сочинские садоводы, у которых в 2021 году безвозмездно изъяли земельные участки, полученные ещё во времена СССР. Прокуратура активно использует манипуляции с исковой давностью, считая свои иски нематериальными, что позволяет обходить стандартные сроки. Конституционный суд подтвердил возможность бессрочных исков прокуратуры, что создаёт огромные риски для бизнеса, которому практически невозможно проверить своё приватизационное прошлое из-за объёма и давности документов.
Хотя статья 35 Конституции РФ гарантирует изъятие собственности для государственных нужд только в судебном порядке с равноценным возмещением, на практике надежда на возмещение постепенно уменьшается из-за широкой дискреции государства. Суды массово отказывают в исках, как в случае с садоводами, однако есть и исключения. Успешное дело Ивановского завода тяжёлого машиностроения, где апелляционный суд отменил решение о изъятии, и дело «Хальдерберг Цемент», разрешённое через международный арбитраж, показывают, что защита возможна.
Параллельно с гражданскими исками на собственников оказывается давление через уголовные дела, как в случае с арестом Вадима Машковича. Конфликты вокруг активов часто связаны с внутренней борьбой, где потерпевшими по уголовным делам проходят коммерческие компании.
Главными выгодоприобретателями процесса деприватизации становятся государственные корпорации и структуры, близкие к власти. Росатом получает портовую инфраструктуру и заводы по производству редкоземельных металлов, Ростех — компании военно-промышленного комплекса, а структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом, — активы в химической промышленности и производстве алкоголя.
Мировая практика отличает национализацию с адекватной выплатой от экспроприации без компенсации. В Европе существуют институты, защищающие собственность, а Европейский суд по правам человека указывает на необходимость процессуальных гарантий для ответчиков. В России же деприватизация проходит без отдельного закона, что создаёт правовую неопределённость.
Эксперты сходятся во мнении, что, хотя противодействие коррупции необходимо, оно должно обеспечивать ответчикам возможность предоставлять доказательства и возражать. В отсутствие стабильных правил игры судебная власть остаётся единственной надеждой на защиту конституционных прав собственности. Верховный суд пытается применять конституционные нормы, но в условиях ускоренных процедур изъятия и широких полномочий прокуратуры риски для частной собственности в России достигли беспрецедентного уровня.



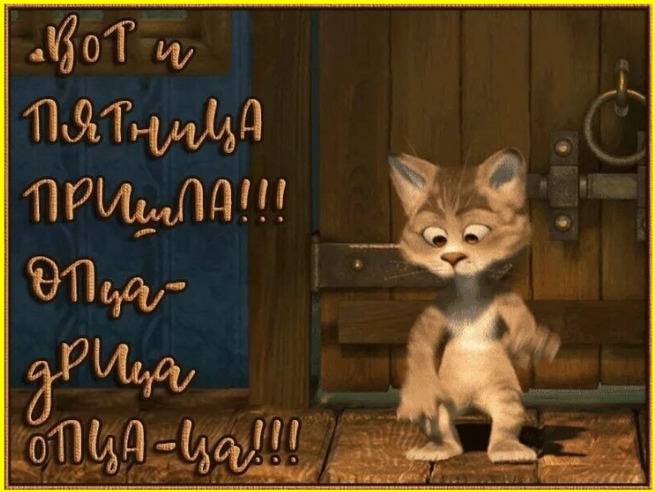


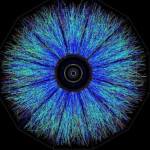



Оценили 11 человек
15 кармы