Случается порой, что вещь самая обыкновенная, случайно попавшая на глаза, становится предметом и темой обсуждения, в процессе которых выясняются довольно любопытные вещи. Так же вот случилось совсем не давно, когда один из моих хороших знакомых принес мне старинную керосиновую горелку, найденную им на чердаке одного не менее старинного, херсонского дома во время кровельных работ.
Сама по себе горелка вещица весьма пустяковая, таких, пожалуй, еще великое множество сохранилось на старых Левобережных дачах, где до сегодняшнего времени отсутствует электричество. Правда, размерами современные «керосинки» немного посолиднее найденной на чердаке, у которой ширина фитиля составляет в размере всего лишь чуть более сантиметра.
То есть, говоря языком далекого до революционного времени, подобный светильник с фитилем такого размера именуется 4-х линейной лампой. Ибо, согласно не метрической системе мер принятой в имперской России, 1 линия была равна 2,54 мм. Кстати, знаменитая «трехлинейка»- винтовка Мосина образца 1891 года, прошедшая не одну войну, получила свое «народное» наименование именно благодаря калибру ствола равному трем линиям, то есть 7,62 мм.
Достоверно известно, что керосиновая лампа была изобретена в 1853 году польским ученым Игнацием Лукасевичем, хотя кое кто из исследователей оспаривает это, приписывая изобретение американскому химику Силлиману, который сделал свое изобретение в 1855 году. Как бы там ни было, по тому времени, это было весьма прогрессивное и к тому же очень экономичное изобретение, так как керосин, как продукт перегонки нефти, был уже известен, а вот широкого применения ему еще не нашли и по своей стоимости он был гораздо дешевле свечей или масла. К тому же, яркий свет керосинки не шел ни в какое сравнение с «примитивными» источниками света «из прошлого». Посему, потребовалось совсем не много времени и керосиновые лампы завоевали весь мир. К примеру, в России они появились к концу 50-х годов и через год их было так много, что свет их перестал удивлять.
Тем не менее, не смотря на явное преимущество новой технологии освещения, параллельно еще продолжали использовать и вовсе дремучие методы. Так в Старом Херсоне в начале второй половины 19 века, для освещения улиц все также продолжали использовать свечи, причем самого низкого качества, так называемые «сальные», в сущности, почти не дающие света и ужасно коптящие.
Подтверждением тому служит отрывок из путевых заметок путешественника- этнографа Афанасьева- Чужбинского, в 1856 году по предложению Великого князя Константина Николаевича совершившего путешествие по южным местам: «…в темные ночи Херсон освещается – не спиртом и, наконец, не маслом, но более допотопным способом, какого еще мне не приходилось встречать. В фонари вставляются здесь обыкновенные сальные свечи, которые и мерцают до тех пор, пока нагоревшая светильня от тяжести не наклонится и не стопит свечку, или пока расчетливый полицейский служитель не вынет этой свечки для частного употребления».
В те времена, в более цивилизованных городах империи и за границей для уличного и домашнего освещения кое-где давно использовали газ или, на худой конец масляные лампы, которые заправлялись растительным или сурепным маслом, поэтому херсонские сальные свечи для Александра Степановича были удивительно первобытными.
Конечно, в период посещения Афанасьевым- Чужбинским Херсона, некоторые местные «продвинутые» и богатые горожане уже весьма успешно пользовались керосиновым освещением, но на то время подобное освещение было диковинкой и считалось уделом избранных, да и с керосином тогда еще было туговато.
В сущности, именно изобретение керосиновой лампы и широкое применение ее в быту, подтолкнуло предпринимателей активней заниматься разработкой нефтяных месторождений и искать новые эффективные методы переработки нефти.
Вместе с тем продолжались работы и над усовершенствованием керосиновых осветительных приборов. В этот период появляется великое множество керосиновых ламп существенно отличающихся друг от друга принципом работы.
В начале 1890 годов благодаря изобретению австрийца Карла Ауэра фон Вельсбаха калильной сетки, пропитанной оксидами редкоземельных металлов, появляются первые образцы новых «керосинок», дающих ровный, яркий свет и к тому же неплохо экономящих топливо. К этому времени, посещающие Херсон путешественники уже не отыскали бы на его улицах фонарей с сальными свечами, ибо в городе уже началась эпоха керосинового освещения. Вот, правда, проблем от этого меньше не стало. «Случаются хищения ламп с керосином или ламповых стекол. Сливают керосин из ламп, тащат стекла, разбивая при этом стекла фонарей нанося огромный вред подрядчику Бердичевскому и погружая во тьму окраины и их население»- писала об окраинных «кугутах» херсонская газета «ЮГЪ».
К тому же, в конце 19 века, керосин оставался для херсонцев все также весьма дефицитным продуктом, ибо поставки его в город были сопряжены с различными проблемами: « Херсонцы рискуют остаться без света в буквальном смысле слова. В последние дни в городе наблюдается не только вздорожание керосина, но и полное отсутствие его. Истощившиеся запасы не могут быть пополнены в виду неудобных путей сообщения и трудно сказать, сколько времени такое неудобное положение будет продолжаться»- сообщал «Югъ».
На грани смены веков местный предприниматель Рабинович обратился в городскую управу с прошением об отведении в аренду участка земли на берегу Днепра для устройства главной нефтеналивной станции и постройки емкостей для хранения запасов керосина. Открывающиеся для города перспективы стали главным фактором в решении этого вопроса, и арендная земля была отведена. Причем, даже вопреки протестам городской санитарной комиссии, протестовавшей против устройства станции на правом берегу Днепра, выше Херсона по течению.
Кроме главной нефтеналивной станции в Херсоне, предпринимателем были построены две вспомогательные – в Бериславе и Каховке. После постройки наливного комплекса в 1899 году Рабинович сдал его в аренду на длительный срок Русскому Обществу Пароходства и Торговли (РОПиТ). Керосин из Батума (ныне – Батуми, город и порт в Грузии) на нефтеналивном судне «Луч», принадлежавшем обществу, доставляли на главную станцию в Херсон.
Затем на специальной барже, снабженной паровой помпой для перекачки в береговые резервуары, развозили отсюда в Берислав и Каховку. Спустя 4 года, в 1903 году, поставки керосина в Херсон достигли 180 тысяч пудов, что явилось достаточно приличной цифрой для того времени. К этому периоду аренду нефтеналивной станции и торговлю керосином в городе осуществляло товарищество «Нобеля», которому принадлежала большая часть кавказских нефтяных скважин и перегонных заводов. Пожалуй, можно еще отметить и тот факт, что обычно цена керосина в Херсоне на 30–40 копеек за пуд была выше, чем в соседнем Николаеве (1р.60-70к.- пуд).
Посему, уличное освещение для двух- трех подрядчиков, осуществлявших освещение городских улиц, было весьма ощутимо затратным (к этому стоит приплюсовать разбитые фонари и прочий убыток, нанесенный «дикими» горожанами). А ведь количество фонарей в городе было не малое!
Так, скажем, в ведении подрядчика Бердичевского, взявшего подряд на освещение центральных улиц города находилось 1070 уличных фонарей и 47 ламп, находящихся в помещении городского полицейского управления. Подрядчик Броун обслуживал 800 фонарей расположенных на окраинах города. Содержание же каждого фонаря старой конструкции, дающего слабый свет и скорее обозначавшим лишь направление, а не освещавшим улицу, обходилось городской управе не менее 9р.75к. в год, а к 1914 году возросло до 14р.. То есть, деньги весьма не малые. Поэтому, подрядчики и городская управа искали новые методы и формы для экономически выгодного осуществления городского освещения.
Конечно, этим не преминули воспользоваться мелкие и крупные шарлатаны того времени. Так известно, что некто К.С. Мильвид, «предприниматель- изобретатель» из Москвы предложил херсонской управе «петроль- озонирование» фитилей уличных фонарей, которые после соответствующей обработки должны были чуть ли не в два раза увеличить яркость свечения. Однако, не смотря на хвалебные рекомендации, управе хватило разума заказать лишь пробную партию фонарных фитилей. Немного позже газета «ЮГъ» поделилась со своими читателями: « Была проведена проба, в следствие которой, управа пришла к выводу, что фитили горят не лучше не обработанных».
Тем не менее в 1903 году, после испытания нового «керосино- калильного фонаря с ауэровской сеткой системы русского изобретателя- инженера Галкина, подаренного обществу физического развития детей, его председателем, херсонцем Поппером, в городской управе возник вопрос о замене всех старых керосиновых ламп «Молния» на калильные. К этому времени некоторые херсонцы, посещающие соседний Николаев, где в 1902 году фирмой «Сименс и Гальске» была пущена первая электростанция, были уже чуть –чуть знакомы с электрическим освещением.
Тем более вызывает недоумение и усмешку публикация в местном «Юге», где автор воспевает дифирамбы керосинке Галкина: «Сравнительная дешевизна фонаря (160р.) с ничтожной тратой керосина, отсутствие каких либо проводов, станций, моторов и других приспособлений, может заставить крепко призадуматься любителей электрического освещения». И тут же ниже: «Как говорят, петербургское городское управление, проектирует установить керосино- калильное освещение на Невском проспекте, взамен существующего электрического»… Мало того, в период когда в Херсоне уже решался вопрос устройства электрического освещения, параллельно с ним в городской думе пытались протащить проект перевода уличного освещения с керосинового на спиртово- калильное.
Вместе с тем фонари новых конструкций, хотя и давали существенно более яркий свет и были весьма удобны в обслуживании отличались высокой стоимостью. Зато, для хорошего освещения улиц их требовалось гораздо меньше. «Стоимость освещения одного фонаря системы Галкина 32 руб. 81 коп. в год, а при 6-ти часовом ежедневном горении 24 руб. 60 коп. Освещение Simpleks обходится еще дороже»- сообщала после опытных испытаний нового освещения газета «ЮГЪ».
Примерно в этот же период в Херсоне началась «энерго-силовая эпопея», связанная со строительством первой городской электростанции. Впрочем, подрядчик оказался человеком весьма беспечным и целых три года водил городскую управу «за нос», не приступая к строительству.
По прошествии всех сроков, городская управа осталась с массой не решенных вопросов, крепко спутанных друг с другом: Надо бы заменить устаревшие конструкции керосиновых фонарей на улицах, но в то же время, куда деваться с ними после устройства электрического освещения в городе, причем, еще не известно когда будет построена сама станция…
Долгое время эти вопросы не имели ответа. И только лишь летом 1907 года, один из известных городских меценатов, гласный городской думы Петр Иванович Соколов предложил городу долгосрочный заем в 250 тысяч рублей. Причем средства, поступавшие в счет погашения займа, должны были направляться в фонд благотворительных обществ, чтобы служить на благо нуждавшимся горожанам. Сам же заимодавец не имел от сделки ни малейшей выгоды.
На августовском заседании в 1907 году городская Дума приняла предложение Петра Ивановича.
Для строительства электростанции выбрали место на Канатной площади. Тогда это была почти окраина Херсона. Освящение участка и закладка фундамента будущей станции состоялись 28 мая 1908 года. А уже 15 декабря того же года были выработаны первые киловатты электроэнергии. Вместе с тем, начало электрической эпохи существенно не отразилось на использовании керосинового освещения. Все также керосиновая лампа в доме была важным предметом обихода и по праву занимала «главенствующее» положение под потолком. Да и в последующем времени, лампа успешно пережила и войны, и тяжелые для страны времена восстановления разрушенного народного хозяйства.
Не смогла вытеснить ее и полная электрификация государства. Керосиновая лампа, хотя и сдала свои позиции и не является основным источником освещения в современных квартирах, но всё ещё продолжает служить людям.


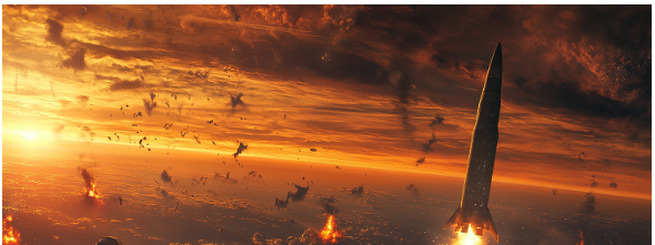
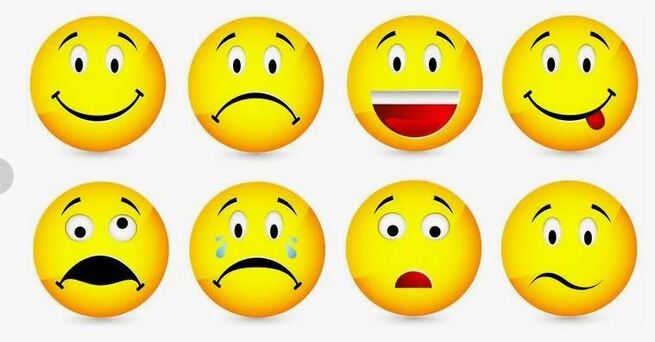

Оценили 0 человек
0 кармы