Преамбула:
Всегда удивляло как люди жившие почти 2,5 тысячи лет назад задавали себе такие вопросы и так отвечали. С другой стороны никогда не понимал как это все могло исчезнуть почти на 2 тысячи лет
1. Софисты - ОБРАЗОВАННЫЕ и начитанные люди у которых хорошо подвешен язык. Они действительно обладают знаниями, но также обладают и хитростью, чтобы получать за это деньги.
2. В споре с софистом даже более умный, опытный, образованный и самое важное, больше разбирающийся в данном вопросе человек, может проиграть (большинство слушателей примут сторону собеседника). Происходит это потому, что противник софиста проигрывает априори (для софиста важен сам спор, а для его собеседника истина).
3. Софист ставит перед собой 2 задачи (победить соперника в споре и/или привлечь его в свои ряды). Для победы над софистом самому приходится стать хотя бы чуточку софистом, а это означает, что одну из своих задач он выполнит в любом случае.
Аналогов "выступлений" софистов в современном мире множество: начиная с госдумы и заканчивая всяческими токшоу. Так что можно считать это явление одной из древнейших профессий
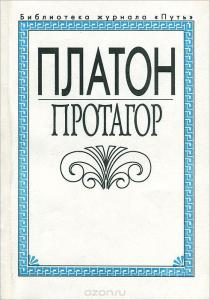
«Протагор» считается наиболее зрелым из ранних диалогов Платона. Его основное содержание составляет спор Сократа с софистом Протагором, который утверждал, что добродетель не дана человеку по умолчанию, но ей учатся. Для понимания того, кто такие античные софисты – это странствующие мастера красноречия, которые делились с людьми ценными знаниями за деньги. Сегодняшний аналог софистов – тренеры личностного роста.
ПРОТАГОР
Приятель Сократа Гиппократ ранним утром пришёл к нему домой и сказал, что хочет пойти к прибывшему в Афины величайшему мастеру речи Протагору, чтобы поучиться у того мудрости. Сократ предупреждает, что Протагор берёт за это деньги, и спрашивает Гиппократа: у врача учатся, чтобы стать врачом, а у ваятеля учатся, чтобы стать ваятелем; но кем ты хочешь стать, выучившись у Протагора? Гиппократ неуверенно отвечает – софистом, но Сократ спрашивает – не стыдно было бы тебе появляться среди эллинов в виде софиста? Тот признаёт – да, стыдно. Сократ продолжает – вот ты намерен предоставить попечение о своей душе софисту, но не знаешь, кто такой софист, значит ты не знаешь, кому вверяешь свою душу и для чего – для хорошего или дурного. Гиппократ на это отвечает, что софист – это знаток в мудрых вещах. Сократ возражает, что живописцы и строители тоже знатоки в мудрых вещах, но мы знаем, что это за вещи – создание изображений и строительство домов. А в чём мудр софист, говорит Сократ, мы не знаем. Тогда Гиппократ предлагает следующее определение: софист – это тот, кто наставляет других в искусстве красноречия. Сократ не принимает это определение и задаёт вопрос – в каких речах он делает людей искусными; по-видимому, в тех, в которых он сам сведущ, но в каких именно? Тот говорит, что не знает. Вот поэтому, говорит Сократ Гиппократу, ты подвергаешь свою душу опасности. Но может быть наш софист подобен торговцу припасами, которыми питается душа, т.е. знаниями, предполагает далее Сократ. Тогда надо быть осторожным, потому что торговцы имеют обыкновение нахваливать свои товары, не разбираясь, в чём их вред, а в чём польза; так же поступают и те, кто развозит знания по городам. Купив съестное, можно его хранить и в это время советоваться с другими насчёт его пользы или вреда; но купивший знание непосредственно принимает его в свою душу и неизбежно уходит либо с ущербом для себя, либо с пользой. Об этом мы и поговорим с Протагором, говорит Сократ Гиппократу, и они начали выдвигаться к нему.
Придя к Протагору, они увидели множество людей, собравшихся вокруг него. Тот обратился к Сократу с Протагором – желаете ли вы беседовать со мной наедине или при всех? Сократ ему отвечает – юноша, который со мной пришёл, стремится стать выдающимся человеком в городе и полагает, что этому поспособствуют беседы с тобой, поэтому решай сам. Протагор хвалит Сократа за осторожность и говорит, что чужеземцы, которые приезжают в города и продают знания, вызывают к себе много зависти и подозрения, поэтому они вынуждены выдавать себя за мастеров других искусств; однако это не помогает им скрываться от властей, и, убегая, они навлекают на себя ещё большую неприязнь со стороны доверчивой толпы. В противоположность этому, говорит он, я открыто признаю, что я софист и не стесняюсь вести беседы при всех присутствующих.
После этой фразы Протагор просит Сократа повторить для всех, зачем он с юношей к нему пришёл, и Сократ повторил. Затем Протагор заверил Гиппократа, что после сегодняшней встречи тот станет лучше, а также завтра и каждый день он будет получать то, от чего будет становиться ещё совершеннее. Но Сократ спрашивает Протагора – в чём именно Гиппократ будет становиться лучше и совершеннее? Протагор отвечает – наука моя о смышлёности в домашних делах (т.е. умении наилучшим образом управлять своим домом), а также в делах общественных: благодаря ей можно стать сильнее всех и в поступках, и в речах, касающихся государства. Сократ говорит – сомневаюсь, что людей можно научить искусству государственного управления и быть хорошими гражданами. Ведь афиняне предпочитают получать знание мастерства только от мастеров, а не от посторонних людей. Но в народных собраниях всякий ремесленник и вообще любой гражданин даёт советы по управлению городом, не имея учителя, потому что такому людей научить нельзя. Да и в частной жизни лучшие и мудрейшие граждане оказываются не способны передать свою добродетель другим людям. Но, обращается Сократ к Протагору, если у тебя в этом достаточно опыта, то покажи нам, что добродетели можно научиться.
Два доказательства Протагора того, что добродетели учатся
1. Первое доказательство
В ответ на просьбу Сократа Протагор начал рассказывать миф о том, что боги породили смертные рода (т.е. животных), а один из богов, Эпитемей, попросил Прометея дать ему право распределять среди них разные способности, чтобы каждый род мог защищаться с их помощью, а также разные способы оберегания их организмов от природных воздействий и друг от друга. Тот дал ему это право, и далее Эпитемей также изобрёл для разных животных разную пищу; при этом некоторые животные стали питаться другими животными, но их способность к размножению была меньше, чем у тех, кем они питаются, чтобы последние не исчезли как род. В конце Прометей увидел, что Эпитемей израсходовал почти все способности на животных, но человек, которому также предстояло появиться на свет, был практически полностью беззащитен. Тогда Прометей решил дать людям умение обращаться с огнём (им владели Гефест и Афина) и жить в обществе (им владел Зевс). Проникнуть в обитель Зевса он не мог, но смог украсть у Гефеста и Афины умение обращаться с огнём. После этого Прометея из-за Эпитемея настигло возмездие за кражу.
Далее, будучи причастным божественному умению, один только человек (из всех смертных родов) стал признавать своё родство с богами, начал воздвигать им алтари и статуи, стал говорить членораздельной речью, давать всему названия, а также изобрёл жилища, одежду, обувь, постели и научился добывать пропитание из почвы. При этом люди ещё жили разбросанно и не обладали искусством жить обществом (часть которого составляет военное дело), из-за чего они не могли защищать себя от борьбы со зверями. Когда же они начали строить города и жить вместе, они стали обижать друг друга, потому что у них не было умения жить сообща, и тогда им приходилось обратно расселяться и гибнуть. Поэтому Зевс, опасаясь, что погибнет весь человеческий род, решил послать Гермеса, чтобы тот ввёл среди людей стыд и правду для придания облика городам и укрепления их дружественных связей. Гермес спрашивает Зевса: как мне распределить стыд и правду – так же, как искусства, только среди некоторых, или же среди всех? Зевс сказал, что все люди должны быть им причастны, и не бывать тем государствам, где ими будут владеть немногие, как искусствами. Также он велел Гермесу установить закон – всякого, кто не может быть причастным стыду и правде, убивать как язву общества.
Вот по этой причине, говорит Протагор Сократу, в искусствах люди слушаются только мастеров, а в совещаниях по поводу гражданской добродетели каждый даёт советы, ибо всякому подобает быть причастным к этой добродетели – иначе не бывать государствам.
После этого Протагор приводит дополнительное доказательство того, что все люди в сущности считают всякого человека причастным к справедливости и прочим гражданским доблестям. Если кто-то приписывает себе мастерство, которым он не обладает, то его поднимают на смех. Но если несправедливый человек станет говорить о себе правду во всеуслышанье, то эту откровенность люди сочтут безумием, ибо считается, что каждый, каков бы он был, должен провозглашать себя справедливым. Поэтому каждому необходимо так или иначе быть причастным справедливости, в противном случае ему не место среди людей. А значит всякий может быть в этом деле советчиком.
2. Второе доказательство
Затем, говорит Протагор Сократу, я приведу тебе не миф, а разумное доказательство того, что добродетели научаются, и что каждый достигает её только прилежанием. Людей не наказывают за их врождённые недостатки, и если кто-то не наделён добродетелью, то люди вразумляют его для того, чтобы он её приобрёл старанием и обучением. Далее, преступника наказывают не за совершённое им ранее беззаконие (потому что он уже не может по своей воле отменить этот поступок), а за фактическое преступление – в назидание ему и другим, что так поступать нельзя. А наказание ради предотвращения зла и есть воспитание добродетели. Афиняне соглашаются с тем, что наказывать нужно именно таким образом, значит они признают, что добродетель – дело наживное.
После этого Протагор берётся разъяснить Сократу, почему некоторые люди не могут научить своей добродетели других людей. Если только быть государству, то должно существовать нечто единое, к чему будут причастны все граждане – добродетель, куда входят справедливость, целомудрие, благочестие и т.д. Каждый человек должен всё делать в соответствии с этим единым, а тех, кто ему не причастен, надо наказывать. Однако хорошие люди учат всему, кроме этого правила, а ведь его незнание карается наказанием, изгнанием, потерей имущества, а то и смертью. Родители с малолетства вразумляют своих детей и делают это до самой своей смерти, показывая им при всяком деле и слове, что справедливо, а что несправедливо; что прекрасно, а что гадко; что благочестиво, а что нечестиво; что можно делать, а чего нельзя. Затем, когда дети научаются в школе читать и писать, учителя заставляют их учить творения хороших поэтов, содержащие много наставлений и прославлений доблестных мужей, чтобы они стремились походить на этих мужей. Кифаристы обучают детей игре на инструменте и заставляют учить песни хороших поэтов, чтобы их души были гармоничными и пригодными для речей и деятельности. Детей также отправляют к учителям гимнастики, чтобы воспитать у тех крепость тела, которая содействует правильному мышлению и смелости в военных и других делах. После окончания школы государство заставляет их учить законы, чтобы они знали, чего нельзя преступать. Удивительно, говорит Протагор Сократу, что при таком частном и общественном попечении о добродетели, кто-то ещё говорит, что ей нельзя научить.
Наконец Протагор собирается ответить на вопрос Сократа, почему многие сыновья доблестных отцов всё же выходят плохими. Было сказано, что в добродетели не должно быть невежд, иначе не быть государству. Однако даже самый несправедливый человек, воспитанный в среде законопослушных людей, будет хорошо разбираться в справедливости и законности по сравнению с какими-нибудь дикарями. Необязательно предъявлять к учителям добродетели высокие требования – если кто хоть немного лучше нас умеет вести людей вперед по пути добродетели, нужно и тем быть довольным, говорит Протагор Сократу. Поэтому, заключает он, я могу помочь людям стать более достойными и имею право взимать с них за это установленную мной плату.
Разбор Сократом трёх этических тезисов Протагора
Выслушав эту речь, Сократ признаёт, что Протагору удалось разубедить его в том, что хорошие люди становятся хорошими не от человеческого попечения. Однако, говорит он, мне осталось непонятным одно место: относятся ли справедливость, целомудрие, благочестие к добродетели как части к целому или всё это обозначения одной и той же добродетели как единого? Протагор без сомнений отвечает, что они есть части добродетели как целого, при этом мудрость – величайшая из частей. Дальше он утверждает, что эти части не совпадают друг с другом и имеют каждая своё назначение. Сократ говорит – справедливость есть нечто, которое справедливо; а благочестие есть нечто, которое благочестиво. Тогда благочестие – это не то же самое, что быть справедливым, а справедливость – не то же самое, что быть благочестивым; напротив, это означает не быть благочестивым. И выходит, что благочестие – это быть несправедливым, а справедливость – это быть нечестивым. Протагор признаёт, что справедливость в чём-то подобна благочестию, но их сходство может быть только частичным. Сократа этот ответ не устраивает, но, видя затруднение Протагора, переходит к рассмотрению другого его высказывания – безрассудство есть полная противоположность мудрости.
Сначала Сократ подводит Протагора к согласию с тем, что безрассудные поступки совершаются по безрассудству, а рассудительные – благодаря рассудительности. Затем к согласию с тем, что совершающееся одинаковым образом совершается по одной и той же причине, а противоположным образом – по противоположной причине. И затем – что каждой вещи противоположно только одно, а не многое. Значит, говорит Сократ, безрассудство противоположно рассудительности, а ранее было сказано, что безрассудство противоположно мудрости. То есть, оно противоположно и мудрости, и рассудительности; значит ли это, что последние есть одно и то же, спрашивает Сократ Протагора. Тот не находит, что ответить.
После этого Сократ предлагает Протагору разобраться в вопросе, поступает ли человек, творящий неправду, согласно рассудку. Прежде всего, говорит Сократ, такие люди хорошо соображают, а значит отдают себе отчёт в том, что творят неправду. Это бывает в том случае, когда дела у них идут хорошо. Далее, продолжает Сократ, благо существует и есть то, что приносит людям пользу. Протагор возражает, что не все блага приносят людям пользу; кроме того, некоторые блага причиняют вред людям, но полезны для животных, продолжает он и приводит тому множество примеров.
Сократ, ссылаясь на свою короткую память, попросил Протагора выражаться кратко, поскольку тот как опытный оратор на это способен. Протагор отвечает, что если бы он изъяснялся каждый раз по правилам противника, то не снискал бы себе славу среди эллинов. В ответ на это Сократ собирается уходить.
Поиск условий для дальнейшего продолжения беседы между Сократом и Протагором
Сначала Сократа просит остаться Каллий, чтобы беседа продолжала быть увлекательной для всех; при этом Каллий признаёт право Протагора как хозяина вести беседу по его правилам. Затем за Сократа заступается Алкивиад и говорит в его защиту следующее: «если бы Протагор признал, что он слабее Сократа в умении вести беседу, Сократу этого было бы достаточно. Но раз Протагор этого не признаёт, пусть он беседует, спрашивая и отвечая, а не произносит в ответ на каждый вопрос длиннейшую речь, отрекаясь от своих утверждений, не желая их обосновывать и так распространяясь, что большинство слушателей забывает даже, в чем состоял вопрос».
Далее слово взял Критий: нам как общим для собеседников слушателям не нужно ни к кому примыкать – собеседники должны заслуженно получить от нас искреннее одобрение, но не притворное восхваление; а мы сами должны получить радость от приобщения разума к истинным вещам, но не наслаждение, какое бывает от кушания или других телесных удовольствий. Затем выступил Гиппий-мудрец и порекомендовал Сократу давать высказываться Протагору в полную силу, а Протагору – не забывать о цели беседы и не увлекаться пространными речами. В связи с этим он предложил выбрать судью, который наблюдал бы за соразмерностью речей собеседников. Сократ возражает, что от этого не будет толку: худший судья не может руководить лучшими, а такой же судья будет одинаковым с ними, поэтому в нём нет нужды. Нужно выбрать лучшего судью, говорит Сократ, но, по-видимому, лучше Протагора здесь никого нет. Поэтому Сократ предлагает сделать так: пусть Протагор его спрашивает, а он отвечает и вместе с тем показывает, как это следует делать; и пусть Протагор отвечает ему таким же образом. Если Протагор откажется отвечать на заданный ему вопрос, то пусть слушатели будут говорить ему, чтобы он не портил беседу. Все согласились на эти условия.
https://aftershock.news/?q=nod...
А у ж сколько троллей на ресурсе, правда это самая низшая каста софистов, убогие умом и не обладающие знаниями, только и знают что надоедать в комментах, прихлонешь его - появляется на его гниющем трупе еще пара и так до бесконечности.









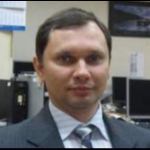

Оценили 15 человек
34 кармы