
Я рос во времена, когда половина англичан голосовала за Консервативную партию на национальных выборах и почти все английские интеллектуалы рассматривали термин "консерватор" как оскорбительный. Быть консерватором, мне говорили, это быть на стороне стариков против молодёжи, прошлого против будущего, авторитета против инноваций, "структур" против спонтанности и жизни. Этого было достаточно, чтобы признать, что у меня, как свободномыслящего интеллектуала, не было другого выбора, кроме как отвергнуть консерватизм. Оставался выбор между реформами и революцией. Будем ли мы улучшать общество шаг за шагом или мы уничтожим всё старое и начнём строить заново? В целом мои современники одобряли второй вариант и когда я увидел, что именно это значит в мае 1968 года в Париже, я нашёл своё призвание.
На узкой улице под моим окном студенты громили и били всё вокруг. Стеклянные окна магазинов казалось отступали, дрожали одну секунду, потом становились призрачными, поскольку отражения покидали их, и они падали зазубренными осколками на землю. Машины поднимались в воздух и падали на бок, их соки текли из невидимых ран. Воздух был наполнен торжествующими криками, уличные фонари были вырваны из земли и водружены на баррикаду перед полицейским фургоном.
Фургон - известный в народе как panier de salade, из-за своих решёток на окнах - осторожно выехал с улицы Декарта, остановился и извергнул из себя множество испуганных полицейских. Их приветствовали летящие булыжники и несколько полицейских упали на землю. Один перевернулся на спину, сжимая лицо ладонями, из под которых струилась кровь. Раздался восторженный крик со стороны баррикады, раненного полицейского несли в фургон, а студенты бежали по улице, смеясь и продолжая швырять булыжники.
В тот вечер ко мне пришла подруга: она весь день провела на баррикадах с группой театралов во главе с Арманом Гатти. Она была очень взволнована этими событиями, которые Гатти, ученик Антонена Арто, научил её рассматривать как высшую точку ситуационного театра - артистическое преображение абсурда, который является повседневным смыслом буржуазной жизни. Великая битва была выиграна: полицейские получили ранения, машины горели, лозунги скандировались, граффити обмазывали стены. Буржуазия была в бегах и вскоре Старый Фашист и его режим будут просить пощады.
Старым Фашистом был Де Голль, чьи военные мемуары я как раз читал в тот день. Мемуары начинаются с яркого предложения: "Toute ma vie, je me suis fait une certaine idee de la France" ("Всю мою жизнь мной владела одна идея - Франция") - предложение, которое так похоже по ритму и полностью противоположно по смыслу следующему предложению: "Longtemps, je me suis couchede bonne heure" ("Долгое время я рано ложился спать"). Как это было удивительно открыть для себя политика, который в своё оправдание предлагает что-то и это что-то так глубоко спрятано за маской его слов. Меня также поразило его описание государственных похорон Поля Валери - первое действие Де Голля в освобожденном Париже - поскольку он предложил приоритеты, немыслимые для английского политика. Образ кортежа, двигающегося по направлению к Нотр-Дам, гордый генерал в окружении скорбящих, и там, и тут все еще разбросанные немецкие снайперы, смотрящие с крыш - всё это произвело на меня впечатление. Я сравнивал два взгляда на Париж с высоты птичьего полёта - взгляд немецкого снайпера, и свой собственный из окон своей квартиры на беспорядки в Латинском квартале. Они были связаны как "да" и "нет", утверждением или отрицанием национальной идеи. Согласно взглядам Голлистов, нация определяется не институтами или границами, но религией, языком и культурой; во времена смут и войн именно эти духовные вещи должны быть защищены и восстановлены. Похорон Валери, безусловно, был выражением этих взглядов. И я ассоциирую Францию Де Голля с поэмой Валери "Морское кладбище" - это обращение мёртвых передало мне гораздо глубже, чем слова и жесты какого-нибудь политика, истинный смысл национальной идеи.
Конечно я тогда был наивен - также наивен, как и моя подруга. Но следующий аргумент один из тех, к которым я часто потом возвращался в своих мыслях. Что, спросил я, вы собираетесь поставить вместо буржуазии, которую вы так презираете, и которой вы обязаны своей свободой и своим процветанием, которые позволяют вам играться на своих игрушечных баррикадах? Какое видение Франции и её культуры движет вами? И готовы ли умереть за свои убеждения или подвергнуть риску других ради них? Я был оскорбительно помпезен, но впервые в своей жизни я почувствовал политический гнев, оказавшись по другую сторону баррикад от многих людей, которых я знал лично.
Она ответила книгой Мишеля Фуко "Слова и вещи", Библией всех soixante-huitards, текст которой казалось оправдывает все формы отклонений, показывая, что любое послушание просто поражение. Это хитроумная книга, составленная из демонической лживости и избирательного освещения фактов, чтобы показать, что культура и знания являются ничем больше, чем просто "дискурсом власти". Эта книга не философская работа, а скорее упражнение в риторике. Её целью является ниспровержение, а не поиск истины, и она аккуратно аргументирует - используя старые трюки номиналистов - что "истина" требует запятых, что она меняется от эпохи к эпохе и привязана к форме сознания, "эпистеме", которая навязывается правящим классом. Революционный дух, который ищет причины для ненависти, нашёл у Фуко новую литературную форму. Оглядитесь вокруг в поисках власти, говорит он своим читателям, и вы найдете её везде. Там где есть власть, там есть угнетение. И там где есть угнетение, появляется право на уничтожение. На улице подо мной я увидел превращение этого послания в действие.
Моя подруга сегодня стала хорошей буржуазией, как и многие из тех, кто принимал тогда участие в бунтах. Арман Гатти забыт; и работы Антонена Арто причудливы и беззвучны. Французские интеллектуалы отвернулись от "68-го", а покойный Луи Повель, величайший из послевоенных новеллистов, книгой "Сироты" написал убийственный некролог их подростковой ярости. А Фуко? Он умер от СПИДа, который достался ему на одной из вечеринок в Сан-Франциско, его визиты куда, как модного интеллектуала, хорошо спонсировались. Но его книги находятся в списках для чтения по всей Европе и Америке. Его взгляд на европейскую культуру как институализированную репрессивную власть везде преподается как Евангелие студентам, у которых нет ни культурных, ни религиозных знаний, чтобы противостоять этому внушению. Только во Франции его более менее широко признают мошенником.
К 1971 году, когда я переехал из Кембриджа в колледж Биркбека в Лондоне, я стал консерватором. Насколько я мог обнаружить, в Биркбеке был только один консерватор и это была Нунция - Мария Аннунцита - дама из Неаполя, которая подавала еду в профессорской столовой и которая специально вызывала гнев лекторов тем, что обвесила свою стойку фотографиями Папы Римского.
Одним из лекторов, к которому Нунция питала особую антипатию, был модный историк индустриальной революции Эрик Хобсбаум, с которым носились как с писанной торбой, и чьё марксистское видение страны стало теперь ортодоксией, которую преподают в Британских университетах и школах. Хобсбаум приехал в Британию как беженец, привезя с собой марксистские убеждения и членство в Коммунистической партии, которое он сохранял так долго, как мог, пока партия, которую он почитал, не утонула в такой лжи, которую уже не было возможности повторять. Без сомнения, в знак признания его героической карьеры, Хобсбаум был награждён, по просьбе Тони Блэра, второй высшей наградой, которую жаловала королева - он стал "Кавалером ордена почёта". Эта небольшая история имеет огромное значение для британского консерватора. Это симптом и символ того, что случилось с британской интеллектуальной жизнью в шестидесятые. Мы должны задуматься о том экстраординарном факте, что Оксфордский университет, который пожаловал почетную степень Биллу Клинтону за то, что он как-то посетил окрестности университета, отказал в такой же чести Маргарет Тэтчер, его самой выдающийся выпускнице в послевоенные годы и первой женщине премьер-министру в Британии. Мы должны задуматься о некоторых других почетных степенях, которые раздавали наши университеты - Роберту Мугабе, например, или покойной миссис Чаушеску - или посчитать (хватит пальцев одной руки) количество консерваторов, которые были избраны в Британскую академию.
Достаточно сказать, что по прибытию в колледж Биркбека, я оказался в сердце левого истеблишмента, который управлял британским образованием. Колледж Биркбека вырос из Института механики, основанного Джорджем Биркбеком в 1823 году и был нацелен на образование людей, которые работали полный рабочий день. Он был связан с социалистическими идеалистами из "Ассоциации образования рабочих" и имел прямую, но не оглашаемую публично, связь с Лейбористской партией. Моя неспособность скрыть свои консервативные убеждения была замечена и не одобрялась, и я начал думать, что должен искать другую работу для продолжения своей карьеры.
Поскольку миссией Биркбека было обучение взрослых работающих людей, лекции начинались в 6 часов вечера, а день был номинально свободен. Я использовал свои дни для обучения праву: я хотел начать карьеру, которая бы не давала пользы утопистам и бунтовщикам. По-факту я никогда не практиковал юриспруденцию и извлек из своего обучения только интеллектуальную выгоду, хотя я всегда буду благодарен за это. Право ограничивается в каждой своей точке реальностью и утопическим видениям в нём нет места. Более того, общее право Англии является доказательством того, что существует реальное различие между легитимной и нелегитимной властью, что власть может существовать без угнетения и что власть является живой силой в человеческом поведении. Я обнаружил, что английское право является ответом Фуко.
Вдохновленный своими открытиями, я начал искать консервативную философию. В Америке этот поиск можно было произвести в университете. Американский департамент политических наук поощряет своих студентов читать Монтескье, Бёрка, Токвилля и Отцов основателей. Лео Штраус, Эрик Фёгелин и другие привили метафизический консерватизм Центральной Европы американским корням, сформировав эффективные и прочные школы политической мысли. Американская интеллектуальная жизнь извлекла выгоду из американского патриотизма, что помогло ей защищать американские обычаи и институты, не боясь презрительных насмешек. Она извлекла выгоду и из Холодной войны, оттачивая свой разум против марксистского врага, чего так и не случилось в Европе: переход социал-демократической еврейской интеллигенции Нью-Йорка в неоконсерватизм, тому подтверждение. В 1970-х годах в Великобритании консервативная философия была занятием нескольких полусумасшедших отшельников. В библиотеке своего колледжа я нашёл Маркса, Ленина и Мао, но там не было Штрауса, Фёгелина, Хайека или Фридмана. Я нашёл каждый сорт ежемесячного, еженедельного и ежеквартального социалистического журнала, но ни одного журнала, который признавал бы себя консервативным.
В Англии долгое время преобладало мнение, что консерватизм просто больше не существует - даже если реально он существовал для некоторых образованных людей - как социальное и политическое кредо. Возможно, если вы аристократ или ребёнок состоятельных и влиятельных родителей, вы можете получить в наследство консервативные убеждения, так же как вы могли получить в наследство дефекты речи или челюсть Габсбургов. Но вы просто не могли их приобрести, и уж точно не посредством рационального исследования или серьезных размышлений. И всё же я оказался в 1970-х годах, после шока от событий 1968 года и после своих юридических изысканий, с полным набором консервативных убеждений. Где мне было искать людей, которые бы разделяли мои убеждения, мыслителей, которые бы сформулировали их надлежащим образом для политической, социальной и экономической теории, которые бы давали этим убеждениям силу авторитета, чтобы провозглашать их на академических форумах?
Мне на помощь пришел Бёрк. Хотя он и не был широко изучаем в наших университетах в то время, он не был изгнан как глупый, реакционный и нелепый. Он был просто неактуальным, интерес к нему был вызван преимущественно тем, что он ошибался во всём, что касается Французской революции и поэтому его можно было изучать как иллюстрацию одного эпизода интеллектуальной патологии. Студентам всё же разрешали его читать, как правило, в сочетании с куда менее интересным Томасом Пейном и время от времени вы могли слышать рассказы о "бёркианской" философии, которая была одним из ответвлений в консервативной мысли Британии в 19 столетии.
Бёрк меня заинтересовал из своего интеллектуального пути, который он совершил. Его первая работа, как и моя, был об эстетике. И хотя я не нашёл много философского значения в его "Очерке о возвышенном и прекрасном", я смог увидеть, что в правильном культурном климате, он мог бы передать понимание о смысле эстетического суждения и его незаменимого места в нашей жизни. Я полагаю, задолго до того, как я получил кое-какие намёки на свою дальнейшую карьеру в виде интеллектуальной парии, такие же мысли у меня возникли в раннем возрасте на современную архитектуру и осквернение моих детских пейзажей безликими коробками пригорода. Еще в возрасте тинейджера, я осознал, что эстетические суждения имеют значение, это не просто субъективные оценки, которые не имеют значения ни для кого, кроме тебя самого. Я увидел - хотя у меня тогда не было философии, чтобы оправдать свои убеждения - что эстетические суждения лежат в основе мира и они исходят из глубокого социального императива, и они важны для нас также, как важны для нас и другие люди, с которыми мы хотим жить в сообществе. И, как мне казалось, эстетика модернизма, с его отрицанием прошлого, его вандализацией ландшафта и городских пейзажей и его попыткой очистить мир от истории, была отрицанием также и общины, дома и общественных порядков. Модернизм в архитектуре пытался переделать мир так, как будто в нём не существовало ничего, кроме атомарных индивидов, продезинфицированных от прошлого и живущих как муравьи в своих металлических и функциональных панцирях.
Подобно Бёрку, я сделал переход от эстетики к консервативной политике без чувства интеллектуального несоответствия, полагая, что в каждом случае я искал потерянное чувство дома. И я уверен, что в основе этого чувства потери лежит перманентное чувство о том, что потерянное можно вернуть - не обязательно в том виде, в котором оно от нас ускользнуло, но оно может быть сознательно восстановлено и переделано. Это убеждение является романтическим ядром консерватизма, которое вы можете найти - очень по разному выраженное - у Бёрка, Гегеля и Т.С. Элиота, чья поэзия оказала на меня огромное влияние в подростковом возрасте.
Когда я впервые прочитал мысли Бёрка по поводу Французской революции, я был склонен принять, поскольку я не знал другого, либеральный гуманистический взгляд на Революцию, как на триумф свободы против угнетения и освобождение людей из под ярма абсолютной власти. Хотя и были эксцессы - и честные историки никогда этого не отрицали - официальная гуманистическая точка зрения заключалась в том, что их следует рассматривать в ретроспективе рождения новых порядков, которые будут предлагать миру суверенитет народа. Поэтому я предположил, что ранние сомнения Бёрка - стоит вспомнить, что они были выражены, когда Революция была еще в самом зачатии, а король еще не был казнён и террор ещё не начался - были просто паникерской реакцией на плохо осмысленные события. Что меня заинтересовало в его "Размышлениях" это позитивная политическая философия, отличная от всей левой литературы, которая была в то время a la mode, благодаря своей абсолютной конкретности и её прочтению человеческой психики в обычных и неординарных состояниях. Бёрк писал не о социализме, а о революции. Тем не менее, он убедил меня, что утопические обещания социализма идут рука об руку с абсолютно абстрактным взглядом на человеческий разум - геометрической версией наших ментальных процессов, которые имеют лишь весьма смутное отношение к мыслям и чувствам, которыми живут реальные люди. Он убедил меня, что общество не может быть построено по плану или для достижения конкретной цели, что у истории нет никакого направления и что не существуют такой вещи, как духовный или моральный прогресс.
Прежде всего он подчеркнул, что новые формы политики, которые надеются организовать общество вокруг рационального стремления к свободе, равенству, братству или их модернистских эквивалентов, на самом деле являются воинственной формой иррационализма. Нельзя коллективно стремится к свободе, равенству и братству, не только потому, что эти вещи плохо описаны и просто слишком абстрактно определены, но также и потому, что коллективный разум не работает таким образом. Люди совместно стремятся к одной цели только в чрезвычайной ситуации - когда существует угроза быть покоренными или наоборот стоит цель кого-либо завоевать. Но даже тогда, они нуждаются в организации, иерархии и структуре командования, если хотят эффективно достигнуть своих целей. Тем не менее, в таких случаях возникает форма коллективной рациональности, а её широко известное имя - война.
Более того - и это осознание вызвало у меня шок - любая попытка организовать общество в соответствии с таким типом рациональности, будет неизбежно вести к объявлению войны реальным или воображаемым врагам. Поэтому такой резкий и воинственный язык социалистической литературы, наполненной прозой ненависти к буржуазии, один из примеров которой был мне предложен в 1968 году для оправдания насилия под моим окном, но есть и другие примеры, начиная с "Манифеста коммунистической партии", который был одним из базовых блюд политических наук в моём университете. Литература левой мысли политических наук это литература конфликта, в которой основными переменными являются, по мысли Ленина, "Кто? Кого?". Первое предложение мемуаров Де Голля было написано на языке любви об объекте любви и это спонтанно резонировало в моей голове в годы студенческих бунтов. Де Голлевская аллюзия на Пруста это виртуозное воскрешение материнской любви и смутное предчувствие её утраты.
Три других аргумента Бёрка произвели на меня сравнимое впечатление. Первым был аргумент защиты авторитета и послушания. Это были не злые и отвратительные вещи, как считали мои современники, для Бёрка авторитет был корнем политического порядка. Общество, по его мнению, удерживается вместе не абстрактными правами гражданина, как считали французские революционеры. Оно удерживается вместе благодаря авторитету - который скорее говорит о праве на послушание, а не об использовании власти для его достижения. Послушание, в свою очередь, является первостепенным достоинством политической жизни, диспозицией, которая позволяет обществу держаться вместе, а не "рассыпаться в пух и прах". Этот взгляд был очевидным для меня также, как и шокирующим для моих современников. Фактически, Бёрк отстаивал старую точку зрения о члене общества как суверенном субъекте, против новой точки зрения о человеке как гражданине государства. И что меня поразило, так это то, что отстаивая эту старую точку зрения, Бёрк продемонстрировал, что она эффективнее гарантирует личную свободу индивида, чем новая идея, которая была основана на обещаниях этих самых свобод, только выраженных абстрактно и универсально, и поэтому трудно определяемых. Реальная свобода, конкретная свобода, свобода, которая могла быть определена, объявлена и предоставлена, не была противоположностью послушания, а была её обратной стороной. Абстрактная, нереальная свобода либерального разума была ни чем иным, как детским непослушанием, которое выливается в анархию. Эта идея вызвала у меня восторг, поскольку я понял, что я увидел в 1968 году. Но когда я выразил её в своей книге "Смысл консерватизма", опубликованной в 1979 году, я разрушил всё, что осталось от моей академической карьеры.
Второй аргумент Бёрка, который произвел на меня впечатление, это утонченная защита традиции, предубеждений и обычаев против просветительских планов реформаторов. Эта защита снова соприкасалась с моим изучением эстетики. Ещё будучи школьником, я столкнулся с тщательно обдуманной защитой артистичной и литературной традиции, которую давали Элиот и Ф.Р. Ливис. Меня поразило эссе Элиота "Традиция и индивидуальный талант", в котором традиция была представлена как постоянно развивающаяся, но непрерывная вещь, которая переделывается с каждым дополнением к ней, и которая адаптирует прошлое к настоящему и настоящее к прошлому. Эта концепция, которая была неким видом модернизма Элиота (модернизм, который был полностью противоположен модернизму, который главенствовал в архитектуре) сделала мою любовь к классикам в искусстве, музыке, и литературе частью моей жизни как современного человека.
Защита Бёрком традиций, казалось, переводила эту концепцию в мир политики и она уважительно относилась к обычаям, общественным институтам и традиционному способу жизни, считая их добродетелью, а не признаком удовлетворенности положением дел, как считали мои современники. И провокационная защита Бёрком "предубеждений" - под которыми он имел в виду совокупность идей и убеждений, которые инстинктивно возникают в социуме и которые отражают опыт социальной жизни - было откровением, о котором я раньше никогда не задумывался. Бёрк донёс до меня мысль, что наши самые необходимые убеждения могут быть неоправданными и необоснованными с нашей точки зрения, и что попытка их обосновать приведёт к их потере. Заменяя их абстрактными системами философов, мы можем считать себя более рациональными и более приспособленными к жизни в современном мире. Но на самом деле мы становимся менее подготовленными и наши убеждения становятся менее оправданными, потому что они оправдываются сами собой. Настоящим обоснованием предубеждения является то, которое обосновывает его как предубеждение, а не как рациональный вывод из аргументов. Другими словами, это обоснование, которое не может быть выведено с нашей личной точки зрения, но только извне, как антрополог обосновывает ритуалы или обычаи иноземного племени.
Примером, который иллюстрирует суть вышесказанного, являются предубеждения, связанные с сексуальными отношениями. Они варьируются от общества к обществу, но до недавнего времени у них была общая черта, которая заключается в том, что людей остерегали от неприличного поведения, осуждали явные сексуальные демонстрации, и требовали скромности от женщин и благородного поведения от мужчин в отношениях, которые предшествовали сексуальному союзу. Для этого существовали веские антропологические причины с точки зрения долгосрочных стабильных сексуальных отношений, которые необходимы, чтобы воспитать своих детей как полноценных членов общества. Но это не те причины, которые мотивируют обычное поведение мужчин и женщин. Такое поведение мотивируется глубокими и неподвижными предубеждениями, в которых оскорбление, стыд и честь являются окончательными основаниями. Стороннику сексуальной свободы не трудно доказать, что такие мотивы являются иррациональными, в том смысле, что они основаны на нерациональном обосновании мотивов, которыми руководствуется человек. И он может предложить сексуальную свободу как рациональную альтернативу, кодекс поведения, который является рациональным с точки зрения этого конкретного индивида, поскольку он выводит этот кодекс с доступной и понятной цели - сексуального удовлетворения.
Эта замена мотивов предубеждений произошла. И результат получился в точности такой же, как и предсказывал Бёрк. Произошло не просто разрушение доверия между полами, а остановка репродуктивного процесса - провал и ослабление обязанностей родителей, не только друг перед другом, но также и перед их потомками. В тоже время индивидуальные чувства, которые основывались на предубеждениях, стали обнаженными и незащищенными скелетными структурами рациональности. Отсюда эта экстраординарная ситуация в Америке, где судебные процессы заменили общую вежливость, где обвинения в "изнасиловании" после полового акта заменили сексуальную умеренность и когда комплименты обычно наказываются как "сексуальные домогательства". Это пример того, что происходит, когда предубеждения уничтожаются во имя разума без оглядки на то, какую социальную функцию выполняли эти предубеждения.
Последним аргументом Бёрка, который произвёл на меня впечатление, был его ответ на теорию социального контракта. Он утверждал, что несмотря на то, что общество можно рассматривать как контракт, мы должны признать, что большинство сторон этого контракта уже мертвы и ещё не рождены. Идеей современного руссоистского общественного договора было поставить ныне живущих членов общества в диктаторскую позицию по отношению к тем, кто был до них и тех, кто будет после них. Следовательно, эта идея прямо привела к масштабному разбазариванию унаследованных ресурсов на всякие революции и на культурный и экологический вандализм, который Бёрк первым распознал как принципиальную опасность современной политики. В глазах Бёрка, самодовольное презрение к предкам, которое характеризовало всех революционеров, было также дегуманизацией еще не родившихся. Он утверждал, что общество это сотрудничество мёртвых, живых и ещё не рожденных, и без того, что мы называем "наследственным принципом", согласно которому права могут быть как наследованными, так и приобретенными, мы лишим наследства обоих: и мертвых, и ещё не рожденных. Действительно, уважение к умершим, по мнению Бёрка, было единственной гарантией еще не рожденных получить своё наследство. Он предпочитал рассматривать общество в первую очередь не как контракт, а как отношения доверия, где живущие, как гаранты полученного наследства, должны были стремится к его улучшению и передаче его следующему поколению.
Я больше всего был восхищен именно этими идеями, нежели чем-либо ещё в Бёрке, поскольку они, казалось, объясняли с полной ясностью мои тусклые интуиции, которые у меня возникли в 1968 году, после того, как я увидел бунты под своими окнами и думал о "Морском кладбище" Валери. В своих искусных и хладнокровных рассуждениях Бёрк кратко изложил все мои инстинктивные сомнения в криках об "освобождении", все мои сомнения в отношении "прогресса" и беспринципной веры в будущее, которая доминировала и извратила современную политику. Фактически Бёрк присоединился к старому призыву Платона к форме политике, которая также будет заботиться о чем-то большем - "забота о душе", как называл это Платон, которая будет также заботой о будущих поколениях. Парадоксальные граффити soixante-huitards были чем-то прямо противоположным этому: своего рода подростковой безмятежностью, отказом от всех традиций, институтов и достижений ради мимолетного ликования, которое не имело никакого смысла, кроме краткосрочного сохранения анархии.
Только после моего первого визита в коммунистическую Европу, я начал понимать и симпатизировать негативной энергии в Бёрке. Я воспринял позитивные тезисы Бёрка - защиту предубеждений, традиций и наследия, а также политику доверия, в которой прошлое и будущее имели равные права в настоящем - но я не понимал его негативных тезисов, которые приравнивали Французскую революцию к аду. Как я говорил, я разделял либеральную гуманистическую точку зрения на Французскую революцию и ничего не знал о фактах, которые опровергали эту точку зрения и которые бы подтвердили аргументы Бёрка в его необычайно прозорливом эссе. Моя встреча с коммунизмом полностью исправила это.
Пожалуй, самым удивительным и ужасающим аспектом коммунизма была его способность изгнать истину из человеческих дел и заставить весь народ "жить по лжи", как назвал это президент Вацлав Гавел. Джордж Оруэлл написал пророческий и проницательный роман на эту тему; но лишь немногие западные читатели его романа знали, насколько сбылись его пророчества в Центральной Европе. Когда я впервые посетил Чехословакию в 1979 году, для меня стало величайшим откровением столкнуться лицом к лицу с ситуацией, когда люди в один миг могли были быть удалены из страниц истории, в которой истину нельзя было произносить и в которой Партия могла решать день за днём не только то, что будет завтра, но и то, что произошло сегодня, то, что произошло вчера и то, что произошло задолго до того, как нынешние лидеры страны родились. Как я понял, это была именно та ситуация, которую Бёрк описывал своей, преимущественно недоверчивой, аудитории в 1790-ом году. И двести лет спустя описанная ситуация всё еще существовала, так же, как и недоверие к тем, кто её описывал.
До 1979 года мои знания о коммунизме были чисто теоретическими. Мне не нравилось то, что я читал о нём, и конечно же я был враждебно настроен к социалистическим идеям равенства и государственного контроля, на которые я к тому времени уже достаточно насмотрелся в Британии и Франции. Но я ничего не знал о том, что такое жить при коммунизме - ничего о том повседневном унижении быть никем, перед которым закрыты все возможности самовыражения. Что касается Чехословакии, то о ней я знал лишь то, что почерпнул из её музыки, в особенности из Сметаны, Дворака и Яна. Конечно же я читал Кафку и Гашека, но они принадлежали к другому миру, миру умирающей империи и только потом я смог увидеть, что они тоже были пророками, и что они описали не прошлое, но будущее своего города.
Меня попросили выступить на частном семинаре в Праге. Он был организован пражским философом Юлиусом Томином, который воспользовался Хельсинскими соглашениями 1975 года, которые предположительно должны были обязать чехословацкое правительство соблюдать свободу распространения информации и соблюдать права, закрепленные в Хартии ООН. Хельсинские соглашения были фарсом, который коммунисты использовали для выявления неблагонадежных граждан, в то же время показывая якобы цивилизованное лицо доверчивым интеллектуалам на Западе. Тем не менее, меня заверили, что семинары профессора Томина проходят на регулярной основе и что они будут рады принять меня.
Я подошел к дому, после того как прошелся по тихим и пустынным улицам, где я увидел всего нескольких людей и те, казалось, были заняты какими-то официальными делами, а каждое здание на моём пути уродовали слоганы и символы Партии. Лестница жилого дома была также пустынна. Повсюду в воздухе висела выжидательная тишина, как когда объявляют о воздушном налёте и город скрывается от надвигающихся разрушений. Возле квартиры, тем не менее, стояли два полицейских, которые схватили меня и потребовали документы, после того, как я позвонил в дверь квартиры. Вышел профессор Томин и последовала ссора, во время которой меня столкнули с лестницы. Но ссора продолжалась и я смог пробиться мимо полицейских в квартиру. Я обнаружил комнату, полную людей и застывшую в такой же выжидательной тишине. Я осознал, что действительно ожидался воздушный налёт и этим воздушным налётом был я.
В этой комнате находились потрёпанные остатки пражской интеллигенции - старые профессора в потертых жилетах; длинноволосые поэты, неудавшиеся студенты, которым было отказано в поступлении из-за "политических преступлений" их родителей; священники и религиозные мыслители в простой одежде; новеллисты и теологи; был один раввин и даже один психолог. И на всех лицах я видел отпечаток страданий об утраченных надеждах; и одна и та же надежда увидеть во мне знак того, что во всём мире хоть кто-то всё ещё заботиться о них и пытается им помочь. Как я узнал, все они занимались одним и тем же: работали в кочегарке. Кто-то в бойлерной больниц, кто-то в жилых квартирах, один из них работал на железнодорожной станции, а другой - в школе. Некоторые работали в бойлерных, где даже не было котлов и эти мнимые котлы стали для меня подходящим символом коммунистической экономики.
Это была моя первая встреча с "диссидентами": людьми, которые к моему удивлению, станут первыми демократически избранными лидерами Чехословакии в послевоенные годы. И я сразу почувствовал к этим людям непосредственную близость. Не было ничего более важного для них, кроме как вопроса выживании их национальной культуры. Лишенные материального и профессионального продвижения, их дни были наполнены вынужденными размышлениями о своеё стране и её прошлом, а также о Великом вопросе чешской истории, который был доминирующим для чехов со времен Яна Палаха. Им было запрещено публиковаться; власти скрыли их существование от мира и стерли их имена из учебников истории. Следовательно, диссиденты остро осознавали ценность памяти. Их жизнь был упражнением в том, что Платон называл "анамнезис": осознание забытых вещей. Что-то во мне отреагировало на это острое стремление и я сразу же захотел присоединиться к ним, и сделать их ситуацию известной всему миру.
Если кратко, я провёл следующие десять лет раздумывая о коммунизме, о его мифе о равенстве и братстве, которые лежали в основе его репрессивных практик, также как они лежали в основе террора времён Французской революции. И я пришел к выводу, что взгляд Бёрка на Французскую революцию не был просто историческим очерком. Он был похож на поэму Мильтона "Потерянный рай" - исследование одной области человеческой психики: области, которая всегда открыта для посещения, но возвращение из которого приносит в мир видение ада. И я наконец осознал положительный аспект философии Бёрка как ответа на это видение в виде описания тех лучших качеств человека, которые могут противостоять худшему и которые являются единственным настоящим оправданием нашего существования на земле.
Теперь я понимал консерватизм не только как политическое кредо, но и как стойкое видение человеческого общества, которое всегда было трудно воспринять, ещё труднее его провозглашать и труднее всего действовать согласно его установкам. И особенно сложно это делать сегодня, когда религиозные чувства следуют капризам моды, когда глобальная экономика бросает вызов нашей национальной идентичности, и когда материализм и роскошная жизнь часто отвлекают нас от действительно важных аспектов человеческой жизни. Но я не отчаиваюсь, так как опыт научил меня, что мужчины и женщины могут бежать от истины не дольше, чем это происходило в любые другие времена, и в конце концов им придется вспомнить о бессмертных ценностях, а мечты о равенстве и братстве будут служить им лишь недолгое время.
Что же касается интеграции философии, которую явил миру Бёрк, в практику и процессы современной политики, это пожалуй самая большая задача, с которой мы столкнулись. Я не отчаиваюсь и в этом, но эта задача не может быть описана слоганом. Это требует не коллективного изменения разума, а коллективного изменения сердца.
http://nordickraft.blogspot.co...
Оригинал The New Criterion


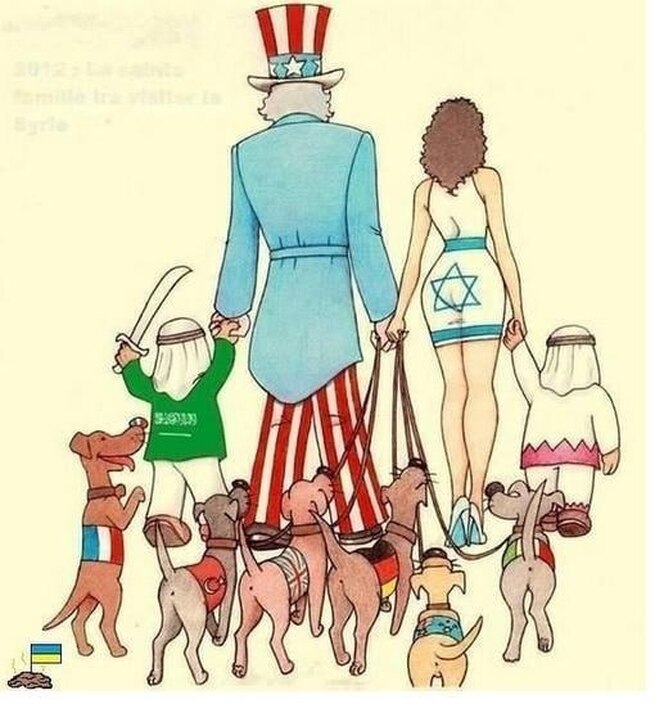


Оценили 0 человек
0 кармы