
События 1923 г. завершили собой определенный этап экономического и политического развития Германии. С конца этого года стало улучшаться экономическое положение, постепенно уменьшалась инфляция; господствующий класс сумел подавить массовые выступления трудящихся и укрепить свое положение, чему способствовало принятие «плана Дауэса». В условиях временной стабилизации капитализма правящие круги стремились вернуться к буржуазно-демократическим методам правления и не испытывали нужды в помощи со стороны гитлеровцев.
Разнузданная пропаганда и эксцессы, которыми сопровождалась деятельность последних, даже в какой-то мере стесняли тогдашних правителей страны, чем и объясняются репрессии по отношению к фашистским организациям; но эти действия отличались непоследовательностью, половинчатостью, содержали всевозможные лазейки, ибо не ставили целью искоренение фашизма, а имели в виду лишь побудить его отказаться от нежелательных «крайностей».
Провал «пивного путча» нанес фашистскому движению сокрушительный удар, и подавить его в то время не составило бы никакого труда. Местные фашистские организации находились в состоянии разброда, многие главари оказались в заключении, другие были в бегах. Серьезно пал престиж фюрера, позорно сбежавшего после расстрела фашистской демонстрации; Гитлер грозился покончить с собой, но не только не сделал этого, но и не оказал сопротивления при аресте.
Формальный запрет деятельности нацистской и родственных ей партий и групп не мешал фашистам собирать свои силы в ожидании легализации. Сразу же после отмены осадного положения в конце февраля 1924 г. прусский министр внутренних дел социал-демократ Зеверинг разрешил деятельность «Фёлькиш-немецкой партии свободы» — организации, выполнявшей в Северной Германии те же функции, что и гитлеровская партия на юге, о чем между ними было достигнуто специальное соглашение.
В эти дни в Мюнхене открылся судебный процесс над Гитлером, Людендорфом, Ремом и их сообщниками, продолжавшийся до 1 апреля. Он не только превратился в фарс, но и способствовал широкой популяризации фашистских главарей за пределами Баварии. «В каждом нормальном государстве акт вооруженной государственной измены, — пишет западногерманский исследователь фашизма Э. Нольте, — навсегда исключает главных его участников из общественной, а тем более из политической жизни». Но в Германии дело обстояло иначе: Гитлер, оправившийся к тому времени от панического настроения, сумел с помощью суда превратить свой позорный провал чуть ли не в подвиг. Да и могло ли быть иначе, если фюрер и другие держали многочасовые пропагандистские речи, попадавшие на следующий день в печать, беспрепятственно поносили существовавший тогда в Германии режим и его официальных представителей — президента Эберта, министра иностранных дел Штреземана и др. «Судебное заседание? — спрашивал демократически настроенный журналист, присутствовавший на процессе. — Нет, скорее семинар по вопросу о государственной измене».
В своей обвинительной речи прокурор утверждал, что Гитлер преследовал «высокую цель», лишь использованные им средства были преступными. Подсудимые в своих последних словах состязались в наглости. Гитлер, не прерываемый председателем, витийствовал в течение нескольких часов, угрожал судом тем, кто в данный момент вершит суд над ним, стучал по столу и т. п. Он мало сомневался в мягкости приговора, но было нечто, весьма беспокоившее его: ему, как иностранцу, тем более уже осужденному ранее за преступление политического характера и освобожденному условно, угрожала высылка из Германии.
Поэтому Гитлер обратился к суду с настоятельной просьбой не применять к нему соответствующую статью закона о защите республики. Хотя приговор Гитлеру и другим основным главарям заговора гласил: пять лет заключения, на деле они должны были отсидеть лишь полгода, после чего получали право на досрочное освобождение. От высылки Гитлера суд решил воздержаться. Людендорф был оправдан, хотя он не скрывал своей причастности к преступлению.
Новые условия, созданные провалом мюнхенского путча и значительным изменением обстановки в стране, требовали тактической переориентации. Перспективы успеха новых попыток вооруженного переворота были практически сведены к нулю, и фашисты взяли курс на легальное завоевание власти, что по существу предопределяло последующее участие в выборах. И не этот вопрос был в действительности главным пунктом разногласий между гитлеровцами и другими представителями «фёлькише», а ориентация на привлечение рабочих, от которых последние предпочитали держаться в стороне. Если для Гитлера и его клики завоевание масс было неотъемлемой предпосылкой достижения основной внутриполитической цели — «уничтожения марксизма» и прекращения в результате этого классовой борьбы, то приверженцы Грэфе, будучи во всем или почти во всем остальном единомышленниками мюнхенских фашистов, возражали против «превращения рабочих в определяющий фактор движения».
Гитлер оставался в крепости до 20 декабря, в частности, потому, что выяснилась его причастность к упорным попыткам Рема возродить военизированные штурмовые отряды под другим названием. Выборы в рейхстаг в декабре 1924 г., которые принесли фашистам поражение (они провели лишь 14 депутатов), были для баварского правительства хорошим поводом избавиться от упреков в преследовании «патриотов» — Гитлера и К°; к тому же оно считало, что «при усиливающемся развале движения фёлькише не следует более ожидать какой-либо опасности с этой стороны».
Посетив после своего освобождения главу баварского правительства Гельда, Гитлер ценой торжественного обещания «вести себя хорошо» добился снятия запрета с фашистской партии. 26 февраля 1925 г. вышел первый после запрета номер «Фёлькишер беобахтер». «Вся мощь движения, — говорилось здесь, — должна быть направлена против страшнейших врагов немецкого народа: еврейства и марксизма»
1. О том, что фашисты берут курс на формальную легальность, свидетельствовали положения, касавшиеся штурмовых отрядов: провозглашались их невоенный характер и полное подчинение политическому руководству, чтобы не давать в руки властей поводов для преследования
2. На следующий день состоялся массовый митинг (участвовало около 4 тыс. человек), означавший возрождение нацистской партии. Митинг происходил в том же зале, где развернулись события путча 8 ноября 1923 г.
В своей речи Гитлер преподнес слушателям несколько излюбленных идей, в первую очередь о необходимости уничтожения марксизма и его главных носителей — евреев. Красной нитью проходило через всю речь стремление с самого начала утвердить свое неограниченное, неоспоримое господство в партии. Однако Гитлер, видимо, переоценил устойчивость своего положения. Произнесенная им речь принесла фашистской партии неприятности: фюреру было запрещено выступать на открытых митингах и собраниях на территории Баварии. Примеру властей Баварии вскоре последовали правительства большинства германских земель, в том числе Пруссии. Так из рук нацистской верхушки было выбито одно из важнейших пропагандистских орудий; однако запреты распространялись лишь на такие митинги и собрания, куда доступ был открыт всем. Поэтому Гитлер имел возможность держать свои речи на разного рода закрытых сборищах независимо от того, сколь велика была аудитория. Запреты были отменены в 1927—1928 гг.
Весной 1925 г. умер президент республики Эберт. Гитлеровцы сделали ловкий ход, выступив за кандидатуру Людендорфа (в то время как «фёлькише» вместе с другими реакционными партиями поддержали другого кандидата). То был широкий жест в сторону Людендорфа, отношения с которым за последнее время значительно охладели; одновременно Гитлер способствовал лишению генерала остатков популярности, ибо не было сомнений в его провале. Результат оказался ниже самых пессимистических предположений: Людендорф собрал лишь 285 тыс. голосов. А во втором туре нацисты призвали к голосованию за другого военачальника-монархиста, Гинденбурга, кандидата всего правого лагеря, благодаря чему нацистский лидер приобрел в соответствующих кругах репутацию сговорчивого деятеля. Известно, что Гинденбург и стал президентом, что было симптомом явного сдвига в сторону реакции.
В первый период после возобновления легальной деятельности национал-социалистской партии, когда еще допускалось существование в ней различных взглядов, шла довольно оживленная дискуссия о возможных путях ее развития. Ориентировались прежде всего на легальные возможности захвата власти, чтобы ликвидировать Веймарскую республику изнутри. «Мы воткнем наши носы в рейхстаг, — говорил Гитлер Гессу. — Конечно, превзойти марксистов в численности потребует больше времени, чем перестрелять их». Для многих сторонников нацистской партии, особенно для людей без определенных занятий, профессиональных военных, не имевших гражданской профессии, деклассированных элементов, это было не только неожиданно, но и неприемлемо. Их устраивала не долголетняя осада крепости, а только ее штурм. Сильнее всего подобные настроения были на Северо-Западе страны.
Эти районы по своей экономической структуре и социальному составу населения существенно отличались от преимущественно аграрной в те времена Баварии. Рурская область, Гамбург, Средняя Германия — все это важные индустриальные центры с многомиллионным рабочим классом, оплот рабочего движения. Чтобы стать здесь твердой ногой, фашизм должен был модифицировать подход к объектам своей пропаганды, играть в «левизну», пытаясь доказать, что за словечком «социалистическая» в названии партии действительно стоит какое-то содержание. Здесь-то и пригодились Грегор Штрассер и его брат Отто. Они не только имели хорошо налаженные связи с местными фашистскими группами, но и широко прибегали к изощренной социальной демагогии, без чего нельзя было и думать о завоевании рабочих. Руководитель фашистов Северо-Запада Фольк подчеркивал: «Ввиду того, что рабочий чувствует себя носителем переворота (в ноябре 1918 г.), более того — рассматривает новый государственный строй, как успех своих усилий, мы никогда не завоюем его доверия, если будем приписывать нужду и унижение только революции». Подобные высказывания далеко не единичны для того времени.
В конце февраля 1925 г. благодаря усилиям Г. Штрассера нацисты северо-западных областей присоединились к гитлеровской партии. Ему удалось «обработать» лидеров обещаниями далеко идущей организационной самостоятельности. А в конце марта были назначены первые семь гаулейтеров за пределами Баварии. Но воспользоваться обещанной самостоятельностью им так и не пришлось. Мюнхенская контора настоятельно запрещала гаулейтерам выдавать вновь принятым лицам партийные билеты, стремясь полностью присвоить себе эту прерогативу. Из Мюнхена требовали также перечисления 1 марки с каждого вступившего в партию и 10 пфеннигов с каждого члена ее ежемесячно. В апреле гаулейтеры Ганновера, Геттингена, Гессена-Нассау и Шлезвиг- Гольштейна обратились с письмом в Мюнхен, добиваясь отмены указанных положений, но этот шаг не увенчался успехом. Иначе действовали гаулейтер округа Северный Рейн — Кауфман и его заместитель Геббельс: они продолжали выписывать членские билеты, игнорируя центральные инстанции. Но это могло удаваться лишь до тех пор, пока мюнхенское руководство не начало всерьез «завинчивать гайки».
В свете сказанного понятно принятое в сентябре 1925 г. решение ряда гаулейтеров создать «рабочее содружество», которое могло бы стать определенным противовесом «мюнхенским бонзам» Эссеру, Штрейхеру и другим; последних считали ответственными за все одиозные мероприятия центрального руководства, упуская из виду или не желая сознаться себе самим, что в Мюнхене мало что делалось без одобрения или ведома Гитлера. Члены «содружества» решили отказаться от участия в выборах и обратились за разъяснениями в Мюнхен. Устав «содружества» предусматривал поддержание дружественных отношений между гаулейтерами, занятие единой позиции в политических вопросах, установление единообразия в организации и пропаганде, обмен ораторами и др.
Организацию возглавил Г. Штрассер, а управляющим делами «содружества» стал Геббельс, сильно фрондировавший в то время и считавший себя, как видно из его дневника за 1925—1926 гг., «левым». Геббельса обнаружил Штрассер, сделавший его своим секретарем вместо Гиммлера, оставленного в Баварии. Штрассер обосновался в Берлине, где начал издавать «Национал-социалистские письма», позволившие себе в некоторых вопросах, например во внешнеполитических, отклоняться от превалировавшей среди нацистов линии. В то же время деятели «рабочего содружества» подчеркивали, что и создание его, и публикация «Национал-социалистских писем» получили одобрение Гитлера. Было ли в этом противоречие? Конечно, никаких принципиальных разногласий не было. Но определенные различия во мнениях относительно тактических вопросов существовали: сказывались значительное отличие в объективных условиях между Северо-Западной Германией и Баварией, о чем уже упоминалось выше, честолюбивые стремления некоторых фашистских главарей, прежде всего Г. Штрассера, и некоторые другие факторы.
Теперь перейдем к факту финансирования нацистов крупным капиталом. Читателю уже известны связи с крупным капиталом, имевшиеся у нацистских лидеров. Последствия провала путча в Мюнхене, резко ослабившие германский фашизм, умерили интерес монополий к нему; не способствовала этому вся обстановка 1924—1925 гг. в стране — постепенное улучшение экономической конъюнктуры и возврат к буржуазно-демократическим методам правления.
Нехватка средств у фашистов стала перманентным явлением. Были серьезные затруднения с изданием «Фёлькишер беобахтер», их удалось преодолеть только вследствие благожелательности владельца одной из мюнхенских типографий, единомышленника нацистов Мюллера. В Саксонии очень полезным оказался фабрикант Мучман, связавший гитлеровцев со своими коллегами и обеспечивший кое-какие субсидии. Но все это едва ли могло устроить нацистских главарей, которым нужны были средства для развертывания пропаганды, содержания штурмовых отрядов. Упрочение связей с крупным капиталом, причем в важнейших центрах его сосредоточения — Рурской области, Берлине, Гамбурге, было основной задачей фашистской партии, без чего ее существование вообще лишалось смысла.
С этой целью Гитлер с весны 1926 г. предпринял серию поездок в крупнейшие промышленные центры страны, где выступал, несмотря на запрет вести политическую пропаганду, перед обширными аудиториями представителей «делового мира». Он умело играл на тех настроениях германского бизнеса, которые были созвучны антидемократической программе фашизма, хотя в то время они еще далеко не совпадали с ней, особенно в части методов; последние казались многим представителям крупного капитала слишком радикальными, могущими повлечь за собой нежелательную реакцию со стороны организованного рабочего класса. В апреле 1926 г. Гитлер произнес речь в гамбургском «Клубе 1919 г.», в который входили капиталисты, реакционные политические деятели и т. п. Главная цель, не уставал твердить Гитлер, — уничтожение марксизма, причем, как он несколько раз повторил в течение речи, его следует безжалостно выкорчевать. Вновь и вновь фюрер провозглашал, что, «имея 14—15 млн. марксистов, пацифистов и т. п., вы не можете вести никакой борьбы: ни развернуть приготовления внутри страны, ни начать настоящей войны». Таким образом, внутренний переворот в направлении крайней реакции мыслился прежде всего как предпосылка к реваншу в войне...
Продолжение следует.


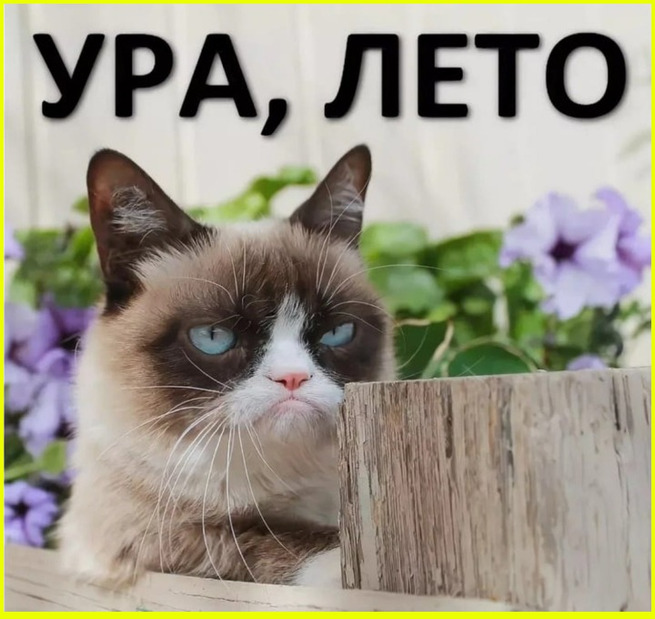
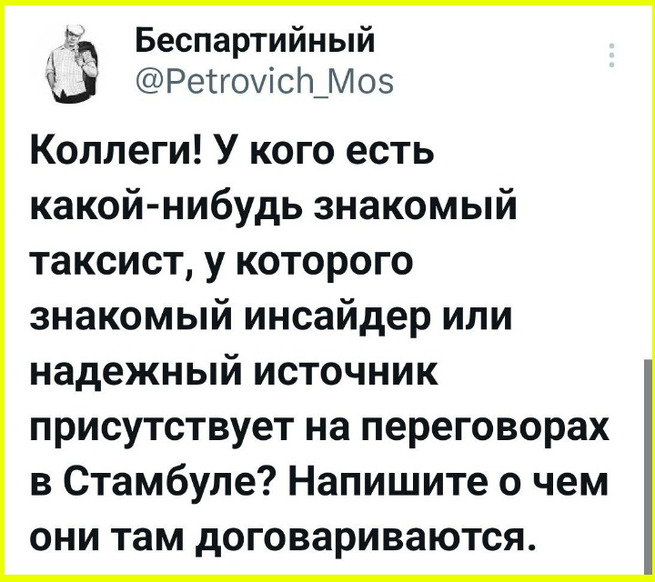

Оценил 1 человек
2 кармы