
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемое исследование посвящено анализу различных сторон явления, названного здесь “феноменом еврейства”. Вместе с тем это ни в коем случае не “приглашение к диалогу” с объектами исследования.
По ряду причин, изложенных, в частности, и в настоящей работе, диалог с евреями невозможен в принципе – в силу самóй природы “феномена еврейства”, изначально исключающей саму возможность перехода еврея “в иную веру”.
Предлагаемое исследование – это, скорее, “информация к сведению”, основанная на попытках научного осмысления штампов как еврейского, так и нееврейского “фольклора о евреях”.
Это попытка взглянуть на изучаемый феномен исключительно с позиций чистой эмпирики, главным образом, той, которая выражается в особенностях еврейской ментальности.
Мысль о том, что в основе непохожести евреев на всех других людей лежит особый тип ментальности, высказывалась на протяжении двух последних тысячелетий неоднократно.
В то же время до сих пор неясно, в чём именно заключается специфика этой ментальности. Имеется лишь несколько характеризующих её разрозненных наблюдений частного характера.
Например, известный этнограф начала ХХ века Л.Я.Штернберг считал, что «еврейский народ обязан своим всемирно-историческим значением такому свойству еврейской национальной психологии, как сведение всей истории к одному фактору» (так наз. “редукционизм мышления”).
Или: давно известно, что евреи занимают в массе своей такие сферы умственной деятельности, которые связаны так или иначе со счётно-формализующей функцией: математика, шахматы, финансовые операции и т.д.
Или: замечено, что именно евреям свойственно обычно нигилистическое отношение к национальным, государственным и религиозным ценностям других народов, что на бытовом уровне давно уже осознаётся неевреями как еврейская антисоциальность.
Антисоциальность эта, опять-таки, весьма своеобразна: она – не от бескультурья, как это обычно бывает у не-евреев, а наоборот – совершается как бы от имени самой “культуры”. То есть она выражается в целом спектре причинно-мотивированных коллективных действий евреев: от их вечных разговоров о невыносимости жизни среди “умственно-неполноценных гоев” до прямой готовности взрывать и уничтожать любой не соответствующий их представлению о “культуре” общественный уклад.
Но поэтому и саму еврейскую антисоциальность приходится рассматривать не как правовую, а как духовную, культурно-историческую проблему. В этом наглядно убеждает книга А.Солженицына «Двести лет вместе», где автор неявно противопоставляет исключительную энергию, культурность, солидарность и систематичность евреев-революционеров безволию, анархичности, эгоизму, нерасчётливости и расхлябанности противостоящих им защитников России.
Что касается действительной позиции самого А.И.Солженицина, то дело тут, скорее всего, не в его личных симпатиях и антипатиях, а в том, что он исходит в своих оценках из общей для всего современного исторического мироощущения мысли, будто и еврейский, и не-еврейский типы мышления в своих базовых, предпосылочных основаниях абсолютно идентичны, подчинены одним и тем же ментальным законам.
А прямым следствием такой мысли и оказывается объяснение причины нынешнего еврейского засилья во всех без исключения сферах жизни идеей культурного превосходства евреев, т.е. идеей их умения пользоваться одними и теми же предпосылочными основаниями культуры гораздо грамотнее не-евреев.
Так под еврейскую претензию на “избранность” и “врождённую гениальность” подводится объективный вроде бы научно-исторический фундамент.
Нужно ли доказывать, что не-евреев он способен лишь подавлять и деморализовывать?
На самом деле речь должна, видимо, идти не об идентичности предпосылочных оснований еврейского и нееврейского типов мышления (сама идея такой идентичности более чем спорна), а о том, что проблема специфики еврейской ментальности неотделима от главных проблем истории духовной культуры.
И в этом плане полезно для начала рассмотреть такие специфические проявления еврейской ментальности, которые ни разу ещё не становились предметом широкого общественного обсуждения.l
1. АРХАИЗМЫ МЕНТАЛЬНОСТИ
Самое первое, что бросается в глаза при непредвзятом взгляде на феномен еврейства, – это пронизанность мышления и поведения евреев совершенно очевидными пережиточными архаизмами. Так, и для первобытного, и для еврейского образов мышления очень типична установка на соблюдение пищевых запретов (достаточно сказать, что приготовление кошерного мяса поставлено в сегодняшнем мире на промышленную основу).
Точно так же типична для обоих этих типов мышления установка на поддержание счёта родства по материнской линии (счёт родства по матери – это общераспространённый в древности институт, который в современном Израиле определяет въездную политику страны).
И так же типична для обоих типов мышления установка на соблюдение обряда обрезания (обрезание – это реликт обряда инициации, общего в прошлом для очень многих народов земли; у сегодняшних же евреев оно считается признаком принадлежности к их религиозной конфессии).
Дело, конечно, не в тех или иных частностях, которые и самими современными евреями могут осознаваться как анахронизмы. Дело в том, что за частностями явно проглядывает некий общий принцип. Так, общеизвестна необычайная сплочённость евреев, основанная, по Герцлю, на “чувстве общего врага”.
Точно таким же чувством общего внешнего врага, противостоящего общине, проникнуто и первобытное мышление. Причём и там, и здесь это “чувство общего врага” продуцируется одними и теми же этическими нормами общества.
Например, суть талмудической этики заключается в том, что её нормы распространяются только на “своих” и считаются недействительными в отношении “чужих”. Но точно такая же ситуация наблюдается и внутри любого первобытного общества.
Или возьмём такой ярко характеризующий еврейскую ментальность пример, как причисление евреями себя к племени “избранных”. Оказывается, что и здесь мы имеем дело с самым обычным для родоплеменного общества явлением: как показали исследования этнографов и лингвистов, сами этнонимы первобытных обществ этимологически расшифровываются как “настоящие”, “истинные”, “избранные” люди в противовес “ненастоящести” всех остальных представителей человеческого рода.
Ещё пример: для первобытного общества очень характерна мелочная регламентация повседневного быта, его т.н. “табуация”. Но точно такая же регламентация повседневного быта столетиями определяла повседневную жизнь рядового еврея в рамках кагала – самоуправляемой еврейской общины. И неверно было бы утверждать, что с упразднением кагала и с так наз. эмансипацией евреев ушла в прошлое и эта сторона их жизни. Дело в том, что именно на основе мелочной регламентации быта и связанной с ней ролью раввинов как арбитров в практике разрешения постоянно возникавших противоречий между теми или иными предписаниями Талмуда развилось гипертрофированное “правовое самосознание” евреев, т.е. их склонность решать между собой спорные вопросы исключительно на основе формально-юридического манипулирования условными статьями права, а не на основе коррекции права такими общепризнаваемыми в не-еврейской среде внеюридическими понятиями, как “правда”, “совесть” и “справедливость”.
Типичный архаизм угадывается и в постоянном стремлении евреев оказывать влияние на то или иное нееврейское общество путём совершения символических актов со скрытым значением. Здесь достаточно указать на наиболее известные примеры неявного еврейского вторжения в чужую общественную жизнь: на тенденцию приурочивания памятных для не-евреев дат к еврейским праздникам, на факты возведения каббалистической эмблематики в ранг официальной символики не-еврейских государств, на практику использования условного (непонятного не-евреям) языка для кодирования значимых с еврейской точки зрения событий.
В основе всех такого рода действий лежит так наз. “магический” способ восприятия действительности, предполагающий возможность бесконтактного целенаправленного воздействия на окружающую реальность посредством определённой ритуальной практики. Но через культурно-историческую стадию магического способа восприятия действительности прошли в своё время все без исключения народы мира.
К типичным архаизмам, несомненно, должны быть отнесены и специфическая техника некоторых еврейских религиозных обрядов, и поразительная живучесть еврейских общин – при явном историческом угасании нееврейских, и не менее поразительная предрасположенность их членов к управляемости со стороны руководства общин, и уж, конечно же, сама причина этой предрасположенности – неистребимая духовная неотличимость евреев друг от друга («Нет тысячи евреев, а есть один еврей, помноженный на тысячу» – Плиний).
Примеры такого рода можно было бы множить и множить. Но даже сказанного здесь вполне достаточно, чтобы понять, насколько прав был Д.Рид, сравнивая еврейство с кистепёрой рыбой целакантом, которая вплоть до недавнего – в середине ХХ столетия – обнаружения ихтиологами её живых экземпляров считалась ископаемой.
Видимо, пора начать утверждаться во взгляде на еврейство не как на “просто народ в ряду других народов” (хотя именно такой взгляд на них усиленно насаждается и проеврейской, и антиеврейской пропагандой), а как на довольно-таки загадочное и подлежащее поэтому особенно внимательному изучению явление истории мировой культуры. Мы должны, наконец, понять, почему евреи, эти “дрожжи истории”, сами находятся как бы “вне истории”; почему архетип их коллективного поведения, эмпирически засвидетельствованный в разные эпохи Манефоном и Беросом, Сенекой и Тацитом, Шекспиром и Пушкиным, на протяжении всей письменной истории человечества остаётся всегда одним и тем же.
2. АРХЕТИП КОЛЛЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В повседневной общественной жизни евреям часто предъявляются два диаметрально противоположных обвинения:
1 – евреи не желают смешиваться с народами, среди которых живут, создавая тем самым своеобразные “государства в государствах”, преследующие свои собственные интересы и цели;
2 – евреи, наоборот, активно смешиваются с народами, среди которых живут, распространяя тем самым в сознании этих народов разрушительные идеи национального, религиозного и государственнического нигилизма.
Взаимоисключающий, на первый взгляд, характер этих двух обвинений лишает их, казалось бы, всякого смысла и веса. В действительности, однако, оба эти обвинения вовсе не являются взаимоисключающими, просто нужно рассматривать их не независимо друг от друга, а как разные стороны того явления, которое ниже названо “архетипом (т.е. устойчивым во времени шаблоном) коллективного поведения евреев”.
Наиболее древние указания на архетип содержит ветхозаветный рассказ о пребывании Авраама в Египте (книга Бытие). Суть рассказа сводится к тому, что Авраам, придя с женой своей Саррой в Египет и, во избежание каких-то опасностей, объявив Сарру своей сестрой, вводит её в дом фараона; благодаря этой хитрости он обогащается, в то время как дом фараона оказывается поражён “тяжкими ударами”; затем правда открывается, и Авраам с Саррой покидают страну (Бытие, гл.12).
Точно такая же ситуация описывается далее в рассказе о пребывании Авраама с Саррой у герарского царя Авимелеха (гл.20; Герар – город на юге Ханаана, входивший в зону влияния древнего Египта). Она же описывается затем в рассказе о пребывании в Гераре Исаака, сына Авраама (гл.26). И она же восстанавливается в ключевых своих звеньях из контекста тех глав книг Бытие и Исход, которые посвящены описанию пребывания евреев в Египте за период времени от Иакова до Моисея.
Смысл архетипа отчасти разъяснится, если учесть, что Авраам, Исаак, Иаков и другие ветхозаветные патриархи являются в глазах современных исследователей не историческими личностями, а персонификаторами родоплеменных делений.
В этом случае вся ситуация начинает выглядеть следующим образом: появившись в Египте, евреи отдают местному населению своих сестёр (женщин на выданье), т.е. вступают с местным населением в смешанные браки. При этом евреи явно что-то не договаривают египтянам относительно своих женщин: если в ветхозаветном рассказе Авраам скрывает, что Сарра – его жена, то по агадическому рассказу он пытается провезти Сарру в Египет в сундуке, наподобие контрабандного товара, что указывает на кодовую природу обоих сюжетных мотивов.
Затем происходит конфликт между египтянами и евреями: «Удались от нас, - говорит Авимелех Исааку, – ибо ты сделался гораздо сильнее нас» (Бытие, гл.26:16); евреи уходят, оставляя после себя разорённую страну («… и обобрал он египтян», – Исход, гл.12:36).
Тот же самый архетип коллективного еврейского поведения выявляется и на материале ветхозаветной Книги Эсфирь, причём здесь уже становится более понятным смысл той странной недоговорённости в отношении еврейских женщин, которую мы наблюдали в предыдущем случае: Эсфири, оказывается, запрещено говорить о своём еврейском происхождении («Не сказывала Эсфирь ни о народе своём, ни о родстве своём; потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала» – Эсф., гл.2:10). В остальном ситуация та же: иудеянин Мардохей вводит в дом персидского царя Артаксеркса – на правах его жены – свою племянницу Эсфирь; благодаря этой хитрости, он избегает многих, спровоцированных им же, опасностей и становится первым после царя лицом в государстве, а население страны подвергается притеснениям и частичному истреблению. Традиционного конца архетипа – еврейского исхода из разорённой страны – мы в данном случае не видим (его отсутствие явно связано с последовавшим вскоре завоеванием Персии Александром Македонским). Но на то, что такой конец имел место и здесь, указывают исторические данные о еврейской диаспоре, возобновлённой в Персии лишь при Сасанидах. А о том, что страна после еврейского исхода осталась разорённой, говорит тот факт, что сасанидское государство уже никогда не достигало того уровня расцвета и могущества, который имело при Ахеменидах.
Как и всякий полуфольклорный текст, Книга Эсфирь тоже подчиняется определённым правилам её смыслового прочтения. Правила эти обусловлены тем, что в древних обществах любая историческая ситуация описывается не “протокольно”, а с помощью мифологизированных языковых клише – тех или иных фольклорных “заготовок”, черпаемых из устной мифопоэтической традиции данного общества (вот почему изучение всякого эпоса начинается обычно с разделения эпосоведения на “историческую” и “мифологическую” школы). В нашем случае такими клишированными фольклорными “заготовками”, пусть и слабо выраженными, являются имена “Мардохей” и “Эсфирь”: религиеведы давно заметили, что в этих именах отразились воспоминания об ассиро-вавилонском культе Мардука и Иштари (Эштари, Эстери).
Культ этот восходил к соответствующему вавилонскому мифу, который был усвоен евреями во времена так наз. “вавилонского пленения”. А содержание мифа, сводящееся к описанию спасения Мардука с помощью Иштари, явилось впоследствии той художественной почвой, на основе которой стало возможным осмысление уже чисто исторических событий.
Оказалось, в частности, что спасающая функция Иштари, трансформированная в соответствующую функцию Эсфири (настоящее имя которой по Библии – Гадасса), идеальным образом воспроизводит функцию еврейских женщин в поведенческом архетипе евреев – функцию “помощниц” и “спасительниц” всего еврейского племени.
Но в чём конкретно обнаруживала себя эта функция, или – иначе – почему еврейским женщинам нельзя было открывать свою принадлежность к еврейству?
На этот вопрос исчерпывающе отвечают результаты исследования, посвящённого истории Хазарского каганата:
«В конце VIII века между Тереком и Волгой появилось множество детей от смешанных еврейско-хазарских браков. Однако судьба их была различна в зависимости от того, кто был отцом ребёнка, а кто матерью. И вот почему. Все евразийские племена считали ребёнка членом рода отца. Законорожденный ребёнок имел долю в родовом имуществе, право на защиту и взаимопомощь и участие в родовых культах. Род был элементом этноса и культуры, следовательно, членство в роде определяло этническую принадлежность; происхождение матери в расчёт не принималось. У евреев же этническая принадлежность совпадала с принадлежностью к общине.
Право быть членом общины, а следовательно, евреем, определялось происхождением от еврейки… Получалось, что сын хазарина и еврейки имел все права отца и возможности матери. Его учили еврейские раввины, члены общины помогали делать карьеру или участвовать в торговле, род отца защищал его от врагов и страховал в случае несчастий от бедности.
А сын еврея и хазарки был всем чужой.
Он не имел прав на наследование доли отца в родовом имуществе, не мог обучаться Талмуду в духовной еврейской школе, не получал поддержки ни у кого, кроме своих родителей, да и та была ограничена родовыми обычаями и религиозными еврейскими законами».
Иными словами, «евреи извлекали из хазарского этноса детей либо как полноценных евреев (мать – еврейка), либо как бастардов (отец – еврей), чем обедняли хазарскую этническую систему и тем самым вели её к упрощению.
При непосредственном наблюдении казалось, что здесь просто цепь случайностей, но на самом деле это был направленный процесс, который за 80 лет… дал весьма ощутимые результаты: в стране появилась популяция людей, говоривших по-хазарски, имевших родственников из числа хазар и тюрков, адаптированных в ландшафте, но не бывших хазарами по этносу и культуре» (Л.Гумилёв. Древняя Русь и Великая Степь. М.1992, с.131-132, 139- 140).
Характерно, что сам процитированный автор не увидел за этим блестяще разобранным случаем правила, общего для всей письменной истории евреев, так как это вошло бы в противоречие с его взглядом на евреев как на этнос и, соответственно, с его теорией, по которой евреи времён Моисея, Хасмонеев или современности – это совершенно разные этносы, не имеющие друг с другом ничего общего.
Межэтнических же образований, к которым следовало бы отнести евреев, Гумилёв в своих теоретических классификациях почему-то не предусмотрел, хотя различал надэтнические и субэтнические.
Другой ошибкой Л.Гумилёва было то, что он приписал еврейской традиции монополию на счёт родства по матери. В действительности евреи такой монополией не обладали: этот древний социальный институт, хорошо изученный на историческом и этнографическом материале, сохранялся – наряду с отцовским – очень долго у многих народов. Причём отличие еврейского счёта родства по матери от такого же счёта в его не-еврейском исполнении заключалось в отношении к его соблюдению.
Не-еврейское отношение к счёту родства по матери не требовало его жёсткого соблюдения, поскольку основные управленческие функции в не-еврейских обществах нёс на себе счёт родства по отцу, со всеми присущими ему формами собственности, процедурами наследственности и государствообразующими процессами замены кровнородственных связей на территориальные.
Еврейское же отношение к счёту родства по матери требовало – за неимением отцовского счёта – более последовательного и неуклонного, чем у не-евреев, его соблюдения; оно не допускало никаких исключений из правила. Именно этим и объясняется необычайная историческая устойчивость еврейской общины, – в отличие от исторически вырождавшихся не-еврейских общин, функции которых постепенно забирала себе государственная власть. * * *
Речь идёт, как видим, не просто о хорошо известной способности евреев образовывать в местах своего проживания “государства в государствах” (на самом деле – свои общества в чужих государствах), но о конкретном механизме осуществления этой способности: о материнском счёте родства, благодаря которому всякое не-еврейское государство, принявшее в себя евреев как равноправных членов социума, продуцирует через некоторое время в самом себе еврейскую “общественность”, контролирующую рычаги экономической, политической и культурноинформационной власти данного государства (отсюда становится понятным, что означают на самом деле заявления современной “общественности” о безраздельной передаче в её пользу функций государства).
Видимо, этот – присущий еврейской социальной организации – механизм стал широко известен в не-еврейском мире уже в древности (Иосиф Флавий, например, откровенно пишет в своих «Иудейских древностях» о том, что моисеево установление о смешанных браках не признаёт законными браки с иноземными женщинами, но ничего не говорит об иноземных мужчинах – т.1, кн.8, гл.7; кн.11, гл.8).
Вот почему в раннесредневековой европейской среде, знакомой с еврейскими обычаями не понаслышке, евреи либо систематически изгонялись из принявших их стран, либо получали право на проживание в этих странах при условии соблюдения мер по их социальной изоляции (в частности, при условии запрета на смешанные браки с ними).
Глубинная же суть моисеева установления о смешанных браках вполне ясна: она заключается в том, что базовые стереотипы мышления и поведения закладываются уже в самом раннем детстве, когда формирование ментальности ребёнка целиком определяется материнским влиянием на него. По этой причине и само наследование еврейского типа ментальности, а значит, и преемственность архетипа, могут быть обеспечены именно и только еврейскими матерями. Очевидна смысловая связь архетипа коллективного поведения евреев с содержанием ключевых для ветхозаветной сюжетики тем “завета”, “рассеяния” и “исхода” («Потомки твои будут пришельцами в земле не своей,… после сего они выйдут с большим имуществом» - Быт. 15:13,14;
«Я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них,… и они сделали вожделенную землю пустынею» – Зах. 7:14;
«Я, Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского» – Быт. 15:7;
«Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской» – Пс. 80:11;
« и из Ассирии соберу их,…» – Зах. 10:10, и др.).
– Рассыпанные в бесчисленном количестве по всему Ветхому завету, все такого рода высказывания создают как бы единый концептуальный каркас его тематически разнородных книг.
И все они делают особенно наглядным тот факт, что подлинное содержание “завета” – это не столько общий целевой ориентир коллективного поведения евреев, сколько детально разработанный (алгоритмизированный) механизм претворения архетипа в жизнь.
Знание этого алгоритмизированного механизма, наряду со знанием его фольклорных “кодов”, помогает распознавать в письменной истории евреев остаточные следы алгоритма, а также видоизменённые его варианты.
Скажем, один из результатов пребывания Авраама в Гераре описывается как демографическое вырождение местного населения: «Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха…» (Быт. 20:18).
Такой же результат мы видим и в рассказе о пребывании евреев в Египте, где демографическое вырождение египтян отражено темой “гибели египетских младенцев” и темой “тщетности попыток фараона ограничить рождаемость у евреев”.
Или: сказочный мотив рождения Моисея (который в фольклористике известен как мотив, призванный подчеркнуть привилегированный, элитарный статус новорожденного), в библейском рассказе имеет контекст, воспроизводящий ситуацию “кукушонка в птичьем гнезде”.
Или: в одном месте книги Ездры провозглашается абсолютный запрет на смешаные браки евреев с неевреями; однако во многих других местах этой же книги осуждаются лишь браки с иноплеменными женщинами, а когда дело доходит до практического отделения евреев от не-евреев, то изгоняются лишь иноплеменные жёны с детьми, и ни слова не говорится об иноплеменных мужах.
Или: в ситуации, когда скрыть принадлежность еврейских женщин к своей общине невозможно, в ход идёт притворное отречение от общины.
В этом плане показательна «Книга Юдифь».
Её главная героиня, являющаяся олицетворением всех еврейских женщин (что следует как из значения её имени – «Иудеянка», так и из содержания Песни, которую Юдифь поёт в конце книги), говорит Олоферну: «Я – иудеянка, но не хочу более иметь с иудеями ничего общего».
Последняя вариация архетипа особенно широко представлена в новейшей истории евреев, где их притворное отречение от своей общины постоянно маскируется то их “крещёностью”, то “культурной эмансипированностью”, то “классовой солидарностью”, то исповедованием “общечеловеческих ценностей”.
* * *
Понимание всех этих нюансов проявления архетипа позволяет заново прочитать всю письменную историю евреев.
Так, начало этой истории принято отсчитывать от выхода Фарры, отца Авраама, из Ура Халдейского. Ур Халдейский – это, по мнению специалистов, древний культурный центр на южной окраине шумеро-аккадского раннегосударственного образования, а исход Фарры из него ориентировочно датируется временем Вавилонского царства не ранее его расцвета при Хаммурапи (XVIII в. до н.э.).
Причина исхода, по ветхозаветным данным, та, что «халдеи выгнали их» (т.е. евреев – Кн.Юдифь, 5).
Исторические же данные говорят о том, что сразу после царствования Хаммурапи наступает эпоха упадка и разорения не только Ура, но и всего Вавилонского царства.
Если исторические и ветхозаветные данные рассматривать как взаимосвязанные, то в исходе Фарры из Ура нужно будет признать финальный этап архетипического цикла в его древневавилонском исполнении.
Затем наступает новый архетипический цикл: Фарра со своими потомками Авраамом и Лотом уходят из Ура на север («и они бежали в Месопотамию» - Юд.; «дошедши до Харрана, они остановились» – Быт.; «и долго там обитали» - Юд.).
Подробных данных о пребывании евреев в Харране нет; известно лишь, что Харран был важным пунктом на пересечении древних торговых путей и что евреи вышли из него «с большим имением».
Очередной исход и направление дальнейшего пути санкционируются, как обычно, “велениями Бога”; поэтому по последовательности таких велений можно восстанавливать последовательность архетипических циклов.
«Бог их сказал, чтоб они… шли в землю Ханаанскую; они поселились там и весьма обогатились золотом, серебром и множеством скота» (Юд.). Затем хананеи просят их удалиться, ибо «голод накрыл лице земли ханаанской». Следует новое веление Бога: идти в Египет. Там евреи «оставались, пока находили пропитание, и умножились там до того, что не было и числа роду их. И восстал на них царь египетский,… и египтяне прогнали их из себя» (Юд.).
Агадическая литература тоже совершенно однозначно указывает на то, что египтяне не только не пытались удерживать евреев у себя, но, напротив, прилагали все силы, чтобы избавиться от них («Положению осла и всадника его подобны были египтяне и израильтяне в последние дни перед исходом: кара за карой сыпались на Египет, и кряхтел он, и говорил: “Когда же наконец освобожусь я от оседлавшего меня Израиля ?”» – Агада, М.1993, с.62).
Соответствуют процитированным и исторические данные по Египту.
Так, проникновение евреев сюда, начиная от Авраама и кончая Иосифом с братьями, происходило в 1700-1650 гг. до н.э. (датировка взята из комментариев к синодальному переводу Библии), и этим же временем датируется нашествие на Египетское Среднее царство семитического пастушеского племени гиксосов, произошедшее во времена последних фараонов XIII династии.
На тождество гиксосов и евреев косвенно указывает недооценённая историками фраза из текста египетского жреца Манефона, говорящая о специфичности захвата власти гиксосами: «Дерзко пошли они против нашей страны и легко покорили её без битвы» (Б.Тураев История Древнего Востока, Л., 1935, т.1, с.255. Выделено авт.).
Затем – по Библии – в стране устанавливается безраздельная власть Иосифа, вплоть до его смерти, после которой евреи начинают жаловаться на притеснения; это соответствует факту временного исчезновения из династийных списков собственно египетских фараонов, которые вновь появились в Египте лишь начиная с XVIII династии, сумевшей подчинить гиксосов своей власти.
Покорение гиксосов шло под знаменем бога Амона, т.е. под руководством жрецов; это соответствует данным книги Бытие, по которым власть Иосифа совершенно не распространялась на жречество, остававшееся экономически независимым от евреев (47:22).
Поэтому в дальнейшем именно жречество становится главным объектом внимания со стороны внедрившейся в египетское общество гиксосо-египетской метисной элиты: в конце правления XVIII династии возникает религиозная смута, связанная с конфликтом между гелиопольским и фиванским жречествами (Гелиополь – город, находившийся в зоне влияния гиксосов). Смута завершается попыткой идеологического переворота (Эхнатон, середина XIV в. до н.э.), а перевороту предшествует нарушение традиции престолонаследия: жёнами фараонов начали становиться женщины не из рода фараонов, а “со стороны” (в том числе и со стороны гелиопольского жречества). Сам же переворот носил ярко выраженный иудаистский характер: впервые в истории религиозной культуры Египта эта культура стала догматичной и фанатичной, и впервые возникла нетерпимость – со стороны верховной власти – к языческой мифологии, т.е. к общенародному мировоззрению. В конечном счёте переворот захлебнулся, но его долговременным следствием оказался глубокий и всесторонний упадок Египта.
В Библии всем этим событиям соответствует описание “моисеевой эпохи”, наступившей вслед за “эпохой Иосифа”:
1 – евреи этой второй эпохи заявляют о себе как о мощной внутриегипетской социальной силе, проявившейся на самых высших уровнях светской и религиозной власти (связь Моисея с семейством фараона, его “идеологические дискуссии” с египетскими жрецами);
2 – они заявляют о себе ограблением Египта и исходом из него.
Дальнейший маршрут евреев определялся следующим образом: на запад и на юг от Египта дороги не было, так как сам Египет был юго-западной окраиной тогдашнего экономически и культурно развитого мира (который один только и представлял интерес для евреев), а с севера и северо-запада Египет омывался Великим (Средиземным) морем. Обратная дорога на северо-восток была отрезана, ибо в Ханаане уже знали, кто такие евреи.
Поэтому «Бог не повёл его (Израиля – авт.) по дороге земли Филистимской…, ибо сказал Бог: “Чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет… И обвёл Бог народ дорогою пустынною…”» (Исх. 13:17,18).
Традиционно принято считать, что пребывание евреев в пустынях Синайского полуострова представляет собой всего лишь “паузу” между египетским и палестинским этапами еврейской истории. Факты, однако, говорят о другом: о том, что и пребывание в пустыне тоже было не чем иным как очередным архетипическим циклом.
Дело в том, что Синайский полуостров, вкупе с сопредельными приаравийскими землями, являлся не столько “пустыней” в образном значении этого слова, сколько областью расселения мадианитов – кочевого народа, занимавшегося торговлей и военными набегами на соседей.
Еврейские контакты с мадианитами начались ещё во времена “египетского рабства”, когда Моисей женился на дочери мадианитского жреца Сепфоре («Сепфора», видимо, тоже не личное, а родовое имя, так как детьми от Сепфоры оказываются не только сыновья Моисея, но и союзные мадианитам моавитские цари).
Сам же синайский период еврейских блужданий отмечен вначале очень хорошими отношениями евреев с мадианитами.
В частности, последние оказывают Моисею содействие в проведении административных реформ (Исх.18) и вообще в них нуждаются, от них зависят (Числа, 10:29).
Впоследствии, однако, начинаются трения.
Сначала некие «пришельцы между ними (евреями – авт) стали обнаруживать прихоти» (Числа, 11:4), и их за это уничтожают (11:34; “пришельцами” здесь могут быть только мадианиты – авт.). Затем мадианиты вместе со своими союзниками моавитянами пытаются противостоять евреям (Числа, 22:1-7).
За это евреи объявляют мадианитам войну на уничтожение («И сказал Господь Моисею, говоря: “Враждуйте с мадианитянами, и поражайте их…”», – Числа, 25:17,1).
Заканчивается архетипический цикл полным разгромом мадианитов, причём Моисей гневается на своих военачальников, оставивших в живых мадианитских женщин, и велит убить их. Характерно, что бóльшая часть рассказа «Суд над мадианитянами» посвящена перечислению отнятого у мадианитов имущества. “Успех”, которым завершился данный архетипический цикл, объясняется не в последнюю очередь тем, что пребывание в Синайской пустыне было использовано Моисеем также и для усиления дисциплинарной политики, поскольку предыдущие 400 лет относительно стабильного проживания евреев в Египте во многом внутренне переродили “межэтническое сообщество”, сделав его недостаточно управляемым и послушным.
Поэтому основное содержание текстов, отражающих синайский период еврейской истории, сводится главным образом к описанию той “воспитательной работы” и тех жестоких методов её проведения, которые призваны были вдохнуть новую жизнь в древнюю программу циклического воспроизведения архетипа.
* * *
Новый этап еврейской истории начинается с того, что, замкнув “синайскую петлю” – в силу внутренней логики маршрута – евреи вновь оказываются перед выгнавшими их некогда обитателями Ханаана.
Здесь впервые происходит “идеологическая накладка”: Бог “вынужден дать” евреям ту же самую землю, которую ранее “уже давал”. То есть совершается как бы двукратное усиление “договора с Богом”, и вот оно-то и откладывается в исторической памяти евреев как идея “особенности их прав на Ханаан”.
Впрочем, явно не последними оказываются здесь и чисто практические соображения: «Ибо земля, в которую ты идёшь,… не такова, как земля Египетская,… где ты… поливал её при помощи ног твоих… Земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою…» (Втор. 11:10,11).
Идеологическая накладка вкупе с откровенной враждебностью местного населения к евреям создаёт качественно новую ситуацию, в которой древний архетип коллективного поведения временно перестаёт работать. Отныне начинается не ползучая колонизация страны с помощью счёта родства по матери, а обычная война за право обладания вожделенной территорией.
Санкцию на временное отступление от архетипа дало моисеево законодательство: «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне во веки: потому что они не встретили вас хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта…» (Втор. 23:3,4).
Действительно: ни моавитяне, ни аммонитяне, ни аммореи, ни хананеи, ни хеттеи, ни ферезеи, ни иевусеи не встретили евреев “с хлебом и водою”, т.е. не захотели повторения прошлого (которое началось как раз со встречи евреев “с хлебом и вином” – Быт. 14:18).
Вместе с тем их желание отстоять свою землю от захватчиков натолкнулось на фанатическую решимость евреев “отстоять свою”.
А в результате архетип коллективного поведения евреев оказался надолго сломлен; заработали стимулы, побуждения и цели, при которых еврейское поведение становилось практически неотличимо от не-еврейского. То есть евреи воюют, время от времени побеждая или терпя поражения, занимаются культурным сотрудничеством с соседями (строительство храма с помощью тирского царя), совершают морские экспедиции (путешествие в Офир), устанавливают дружественные отношения с дальними странами (визит царицы Савской к Соломону) и постепенно изживают свой сектантский фанатизм, перенимая религию, традиции и быт коренного населения (культы Ваалов, обычные смешанные браки и т.д.).
Этой духовной интеграции способствовало и двукратное усиление “договора с Богом”, развившее у евреев психологическое ощущение того, что эпоха скитаний закончилась.
Короче говоря, начался наиболее нормальный период еврейской истории, так как евреи впервые становились уже не “межэтническим сообществом с разрушительным для окружающих стереотипом социального поведения”, а “просто народом”.
Самих евреев этот период их истории, судя по ветхозаветным данным, очень даже устраивал; это ясно заявлено уже в ПервойI книге царств: «И мы будем, как прочие народы…» (8:20).
Но он категорически не устраивал тех еврейских религиозных ортодоксов, которые рассматривали начавшийся период как время предательского отпадения от заветов Господа. Настроения такого рода особенно чётко прослеживаются в пророческой среде (с X в. до н.э.), где уже Илия, а за ним и Елисей объявляют беспощадную войну языческим влияниям.
«Хладнокровная последовательность, это неумолимое следование принципу: “Или Иегова, или Ваал”, доходившие до того, что пророк готов был согласиться на гибель всего народа и всего мира во имя торжества идеи Иеговы, сделали из этих двух могучих проповедников истинных предшественников следующего поколения религиозных деятелей» (Б.Тураев). Именно деятельности пророков евреи обязаны тем, что отпадение от Иеговы начинает осознаваться ими как “моральный грех”. Воскрешается также идеология “скитальчества”, “рассеяния”, “исхода”: «… и Израиль будет непременно выселен из земли своей» (Амос, 7:10- 17).
Удобный случай для воскрешения архетипической идеологии представился в конце VIII в. до н.э., когда ассирийцы разрушили Израильское царство, отделившееся от Иудейского после смерти Соломона. Это событие было истолковано иудейскими идеологами как “месть Иеговы беззаконному народу”; на его фоне они разворачивают борьбу за чистоту своего учения, и именно в это время происходит возвращение евреев к идеям религиозного изоляционизма и самовозвеличивания.
А конечный результат стараний пророков был тот, что после разрушения Иерусалима в 586 г. до н.э. и так наз. “вавилонского пленения” древний архетип коллективного поведения вновь делается для евреев безусловной и безальтернативной нормой существования.
Прямым следствием всех таких процессов можно считать разрушение сначала вавилонской, а затем и персидской держав. После же “евангельских” событий в начале н.э. архетип облекается еврейскими идеологами в ещё более жёсткую – талмудическую – форму, и с этого момента евреи уже окончательно восстанавливают себя как принципиально антисоциальное межэтническое образование. Наиболее заметным их “достижением” на данном этапе является разрушение эллинистической цивилизации – Римской империи.
* * *
В постримское время в проявлениях архетипа наблюдаются особенности, связанные с ролью религии еврейского происхождения – христианства. Дело в том, что хотя эта религия и “легализовала” еврейство внутри себя, но с отрицательной оценкой, в результате чего в государствах христианского культурного круга на 28 Институт нравственности http://in.ast.social политическую активность еврейства были наложены конфессиональные ограничения.
Талмуд обошёл их, разрешив евреям притворное крещение. Но поэтому и проявления архетипа стали неявными: выражающимися в произвольном якобы зарождении разного рода антихристианских ересей (иконоборчества, альбигойства и др.), в ревизии некоторых элементов христианской догматики и даже в прямом отказе от них.
Не удивительно, что Восточную Римскую империю (Византию) разрушила, предварительно внутренне ослабив, такая тонкая идеологическая диверсия, как наделение статусом государственного вероисповедания исихазма – созерцательной разновидности православия (о политическом исихазме см: С.В.Горюнков. Мёртвая царевна и спящий народ. СПб. 2006, с. 142-155).
А еврейский “исход” из Византии выразился, с одной стороны, в экспорте “политического исихазма” на православную Русь (не говоря уже об экспорте туда же и рационалистических ересей), а с другой – в перемещении античных материальных ценностей на североитальянский рынок (что позднее было названо Возрождением).
Роль же идеологической диверсии в самой Западной Европе сыграла более отвечающая духу западного христианства Реформация.
Она подготовила почву для дальнейшей борьбы еврейства за политическое равноправие – за так наз “еврейскую эмансипацию” (XVII - XIX вв.).
Эмансипация, в свою очередь, заявила о себе взрывом революционных движений и, в конечном счёте, крушением главных европейских и евразийских империй: Австро-Венгерской, Российской и Османской.
А эквивалентом “исхода” на этом историческом этапе можно считать перемещение еврейского “центра влияния” из Европы в Северную Америку – в США.
* * *
Если, таким образом, делать поправку на специфику средних веков, то мы вправе будем утверждать, что начиная с эпохи после Р.Х. архетип одинаково эффективно функционирует как в восточной ветви еврейской диаспоры, распространившейся из Византии и Персии через Кавказ в Волго-Донское междуречье и далее через Русь в Польшу, так и в западной, проникшей через восточное Средиземноморье в Западную и Центральную Европу.
Причём вся без исключения диаспора сохраняет не только общую схему архетипа, но и его наиболее характерные детали.
Скажем, неотъемлемым элементом воспроизведения архетипа с древнейших времён является тенденция к сокрытию евреями – когда это возможно и необходимо – своего еврейского происхождения.
Эта же тенденция широко бытует и в поведении современных евреев, использующих с целью сокрытия “очищенные” анкетные данные, “аборигенные” имена и фамилии и т.д. (типичная сценка из практики нынешних российских СМИ: сидят в теле- или радиостудии три-четыре еврея и озабоченно обсуждают тему типа: «Почему это мы, русские, такие нецивилизованные и некультурные?»).
Или такой пример: в ветхозаветных текстах имеется немало указаний на “виноватость” не-еврейских правителей перед евреями (“виноват” Авимелех перед Авраамом, “виноват” фараон перед Моисеем, “виноват” Аман перед Мардохеем и т.д.). Здесь налицо прямая аналогия с “чувством вины” и “необходимостью покаяния”, которые современная иудаизированная пресса всячески старается навязать целым народам и государствам.
Или: выражения “египетское рабство” и “вавилонский плен” давно уже стали метафорическими “формулами несвободы”, хотя “рабство” состояло всего лишь в попытках фараонов помешать евреям разваливать государство, а в “плену” евреям было так “плохо”, что после разрешения персидского царя Кира вернуться в Палестину бóльшая их часть не захотела этого сделать.
Очевидно, что слова “рабство” и “плен” имеют здесь примерно тот же самый смысл, что и современные разговоры евреев об их “преследованиях” и “геноциде”. Разумеется, какая-то доля правды во всех таких разговорах всё же имеется. А в чём конкретно эта доля правды состоит, помогает понять аналогия с игроками в карты: если такие игроки обнаруживают среди себя шулера, т.е. человека, играющего не по общепринятым правилам, то они начинают его бить. В этом примере, как в зеркале, отражается вся суть многотысячелетней истории евреев – страшная антисоциальная суть, воплощённая в архетипе их коллективного поведения.
Справедливости ради нужно отметить, что практическое претворение архетипа в жизнь вовсе не требует от евреев сколько-нибудь осознанных личных усилий, хотя и не исключает их. То есть сами отдельно взятые евреи могут в ряде случаев совершенно искренне пребывать в иллюзии своей личной дистанцированности от архетипа, могут совершенно непритворно считать себя “незаинтересованной стороной”.
Но, бессознательно для самих себя подчиняясь бытовым социальным установлениям своей среды (а исключений здесь практически не бывает), они автоматически, независимо от своей воли оказываются вовлечены в безостановочный режим работы архетипа, в механическое воспроизведение одного и того же, не меняющегося на протяжении тысячелетий, поведенческого шаблона.
* * *
Из всего сказанного об архетипе можно вывести несколько следствий, немаловажных с точки зрения более глубокого понимания сущности “феномена еврейства”.
Следствие первое.
В современной системе представлений, отражённой как публицистической, так и академической литературой, до сих пор не изжиты устаревшие взгляды на характер сосуществования евреев с не-евреями. Например, ссылаясь на книги Ездры и Неемии, говорят нередко о полном запрещении браков евреев с иноплеменниками (и это – несмотря на “проговорку” Иосифа Флавия).
Или, применительно к временам после т.н. “вавилонского пленения”, говорят о “прозелитизме” (обращении не-евреев в иудаизм) как о принципиально новом для еврейской истории явлении.
Или же, приводя в пример хазар, говорят о “странных исключениях” в истории еврейской религиозной практики. Все такие утверждения нельзя назвать иначе как вводящими в заблуждение.
На самом деле смешение евреев с остальными народами, при обязательном счёте родства по материнской линии, следует считать древнейшей, необычайно устойчивой и фактически не знающей исключений формой исторического существования еврейского межэтнического сообщества.
Следствие второе.
Принято думать, что еврейская диаспора (рассеянный между народами способ существования евреев) возникла лишь после ассирийского и вавилонского завоеваний Палестины, т.е. после VII -VI вв. до н.э.
На самом деле то, что мы узнаём об архетипе коллективного поведения евреев, заставляет нас думать не только о том, что еврейская диаспора так же стара, как само еврейство, но и о том, что еврейство в принципе не может существовать вне диаспоры.
Следствие третье.
Антисоциальность еврейского коллективного поведения становится постепенно всё более широко признаваемым фактом, однако её происхождение датируется по-разному.
В течение двух последних тысячелетий господствовало поддерживаемое христианской церковью мнение о евреях как о “божьих избранниках”, изменивших своему предназначению лишь с момента распятия ими Христа.
В первой половине ХХ века дата “еврейского грехопадения” резко удревнилась: её стали возводить ко времени возникновения секты фарисеев, к эпохе персидского царя Кира, т.е. к VII - VI вв. до н.э.
В самое последнее время стали указывать уже на XII в. до н.э., т.е. на дату еврейского исхода из Египта.
На самом же деле еврейскую антисоциальность нужно рассматривать в прямой связи с характером функционирования архетипа, а последний оказывается так же древен, как и сама еврейская письменная история.
Следствие четвёртое.
Похоже, что именно структура архетипа лежит в основе той эмпирической реальности, которая в просторечии известна под названием “жидомасонского заговора”.
Если это так, то можно думать, что сам термин “заговор” призван здесь оглупить и скомпрометировать очень важную проблему, чтобы воспрепятствовать её обсуждению и изучению на более высоком уровне.
Следствие пятое.
Поскольку на бессознательном уровне не-еврейская реакция на архетип облекается, как правило, в неправовые формы, то тем самым создаётся благоприятная психологическая почва для “прививки” неевреям чувства вины перед евреями.
В этом смысле понимание не-евреями структуры архетипа может помочь им выработать сознательную идеологию противостояния “прививке”.
Следствие шестое.
Представление о специфической “еврейской внешности”, подкрепляемое представлением о них же как о “народе”, распространено чрезвычайно широко. Между тем из понимания структуры архетипа следует, что никакой специфической “еврейской внешности” нет, а есть лишь объяснимая их историей “ближневосточная внешность”. Европейская же часть еврейской истории совпала большей своей частью с периодом религиозного запрета на смешение с евреями, что и привело к “консервации ближневосточной внешности” на европейской почве.
Тем не менее начиная с новейшей истории, активное смешение с евреями имеет место и в Европе, поэтому евреи с типично англосаксонской или славянской внешностью, хотя и воспринимаются до сих пор не-евреями с недоумением, но давно уже не редкость.
Следствие седьмое.
Поскольку сегодня господствует взгляд на еврейскую проблему как на этническую в своей основе, постольку имеют место и соответствующие взгляды на способы решения еврейской проблемы. Полезно, однако, обратить внимание на то, что процессом смешения евреев с представителями коренного населения в “евреизацию” общества вовлекаются огромные человеческие массы, внутри которых и критерий принадлежности к коренному этносу, и критерий принадлежности к “межэтническому сообществу” оказываются в конечном счёте размытыми.
Дело в том, что “продуктами смешения” оказываются здесь не только “собственно-евреи” – дети еврейских матерей, но и “полуевреи” – дети еврейских отцов.
То есть еврейство обнаруживает свойства не монолитного, а диффузного образования, внутри которого степень выраженности еврейской ментальности оказывается представлена двумя крайними полюсами: от ярко-демонстративной в “центре” до осторожно-выжидательной на “периферии”.
И этим обстоятельством серьёзно затрудняется решение проблемы чёткой идентификации евреев. Ведь ни для кого не секрет, что существует немалое количество людей, осознающих и проявляющих себя евреями, но не подпадающими под какое-либо формальное определение их “еврейства”. В неблагоприятных (с еврейской точки зрения) условиях такие люди ведут себя как представители местного этноса, а в благоприятных – как евреи. Их-то существование и оказывается основным условием успешности евреизации общества, потому что именно они являются главным адресатом, воспреемником, накопителем и транслятором разрушительной для коренного этноса еврейской ментальности.
И они же создают собою ту непроницаемую ширму, в тени которой технически осуществляется “евреизация” общества – его разложение изнутри путём всестороннего культивирования и распространения идей государственнического, национального и религиозного нигилизма. В этом смысле понимание структуры архетипа преподносит нам по меньшей мере три урока:
1 - надежды на простые и лёгкие способы решения еврейской проблемы – иллюзорны (а те, кто сеет эти надежды, или дремучие невежды, или провокаторы);
2 – феномен еврейства – это, прежде всего, феномен истории духа (точнее – болезни духа), а не расы, этноса или крови;
3 – историю духа нужно изучать, без этого не справиться и с болезнями духа.
https://storage.strategy24.ru/...
https://strategy24.ru/rf/news/...

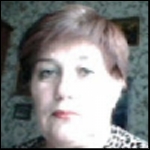

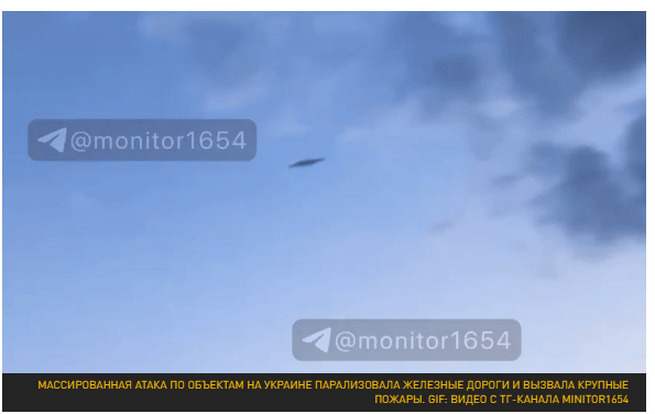





Оценили 5 человек
6 кармы