Была ранняя холодная весна – самое неудачное для экскурсий время. Снег уже успел везде сойти, но из-за вернувшейся обратно стужи деревья не смогли зазеленеть, отчего все выглядело ужасно голо и неуютно. С утра дул резкий, порывистый ветер; небо, разбросанное и хмурое, своим ходом ползло над головой; и выйдя из гостиницы, я почувствовал себя как-то особенно чужим чужому городу.
Я нарочно остался посмотреть главную его достопримечательность – новгородский кремль, по-местному детинец – но теперь и сам не понимал, зачем мне это было нужно. Вечно в чужих краях нас одолевает эта казусная тяга до всего того, на что у себя под носом не обращаем никакого внимания! Тут же еще и само имя города звучало чуть не синонимом истории: казалось, неловко побывать и не заглянуть в бывшее сердце его, одно из тех гнезд, откуда «есть пошла русская земля».
Было еще рано, в парке перед детинцем бегали физкультурники в разноцветных тренировочных костюмах, забегали в сам кремль, пробегали его трусцой насквозь и скрывались за противоположными, выходящими на Волхов воротами. Я тоже, пока внутри все оставалось на замке, прошел тем же сквозным путем и вышел на то место, откуда раньше начинался знаменитый Волховский мост, соединявший софийскую строну с торговой.
Это на нем сходилось беспокойное новгородское вече и шумело до тех пор, пока перепуганный нешуточным раздором епископ не прибегал из Софии с крестом и иконой и, благословляя на обе стороны и тех, и этих, не разводил спесивых горожан. Здесь гулял Василий Буслаев со своей срамной дружиной, шел князь целовать крест на верность городу, скакал гонец из дальнего предела… Я попытался вообразить себе все это, оживить по месту действия истекшую картину – но у меня плохо выходило. Вместо былинных молодцов и летописных воинов в островерхих шапках перед глазами гнулись и приседали физкультурники, дымила за рекой труба, вставали новостройки, краны; не стук копыт летел – ползло откуда-то завывание тяжелого грузовика… Моя эпоха живо разбивала все былое, доходя до меня каждой своей черточкой, а та, древняя, так и оставалась неправдоподобной декорацией с утраченным навеки языком…
И все-таки, что это значит? Почему я пришел сюда и стою, и жду чего-то от этих мертвых стен, мутной волховской воды, хмурого неба? Что все эти реликвии для меня, тех физкультурников? Что вообще вся история – эта память о давно минувшем снеге, уже не способном по-настоящему ни ожечь, ни остудить никого?
И все же отчего-то хочется хоть краем глаза заглянуть в тех, отстрелявшихся давно людей, почувствовать, как они жили, умирали, верили во что-то. Словно какая-то невидимая нить связала нас в одно – конец которой отдан мне, а начало тому, древнему прародичу. И чтобы до конца понять себя, я должен понять и ощутить его; понять, откуда вышел, что прошел – чтобы знать, куда плыть дальше…
От этих высокопарных мыслей меня оторвала группа зябко высыпавших из ворот туристов – первая экскурсия. Пока я тут стоял, местные физкультурники уже отмахали крыльями, уступая теперь путь этой бескрылой публике. Но мне не хотелось сейчас ни с кем мешаться, тем более слушать дежурные скороговорки экскурсоводов, и я вернулся вновь в детинец.
Первым там открывался краеведческий музей в здании бывшего губернского правления, где в свое время служил сосланный сюда Герцен – и каждый месяц подписывал и отправлял в Петербург донесения на самого себя, ибо по головотяпству начальства был определен в то отделение, что ведало надзором за неблагонадежными. Но это уже более близкая и внятная эпоха; меня же сейчас влекла та, дальняя, Новгород времен Грозного и пути из варяг и в греки. К ней-то я и взял входной билетик.
Но интереса моего хватило ненадолго. Сперва я еще как-то пытался вникнуть в ряд заключенных под музейное стекло улик: карты разброда этих нереальных в начертании курсива вятичей и кривичей, какие-то уже несерьезные на вид орудия труда и брани, – но скоро утомился, потерял внимание и до конца доследовал уже обычным ротозеем.
Вышел на улицу и, снова продуваемый никак не утихавшим ветром, дошел до памятника тысячелетия России – в виде большого колокола, опоясанного барельефом тех, кто стоял у языка событий. Обогнул его, стараясь отыскать среди фигур знакомые, и двинул дальше – в Грановитую палату.
Возле нее тоже строилась экскурсия, и я решил, что все же лучше к кому-то пристать. Пусть хоть не выдадут заветных тайн – расскажут что-то новое: больше проку, чем блуждать вслепую одному. Я встроился в поток и стал терпеливо вслушиваться в объяснения экскурсоводши. Но и здесь нашлось не много интересного: золото, золото, серебро, посох одного епископа, обсахаренный тридцатью каменьями, другого – сорока; дар от коварной Литвы, от саксонского курфюрста…
Только одна вещица в самом начале экспозиции как-то зацепила меня, и когда пошли поздние века, уже лишенные раннего угловатого своеобразия, я вернулся к ней. Это был медальончик с Георгием Победоносцем – маленький, не очень правильный овалец, расписанный цветной эмалью. Деталей из-за их мелкоты было почти не разобрать, только виделась смесь ярких, особо любимых на заре туземного народа красок. А табличка внизу поясняла, что святой изображен во всех подробностях и даже глаза у него трех разных цветов. Я нагнулся разглядеть получше; рядом одиноко маялся молоденький милиционер-охранник, который тут же подступил ко мне:
– Так не увидите. Тут немцы были, проверяли в микроскоп, все четко, сам смотрел!
Он выдал это с такой гордостью, словно далекие творцы этой вещицы были ему сродни – что вызвало во мне стихийную отдачу:
– Ну и зачем это нужно, если не видно все равно?
– А попробуй нарисуй! Теперь уже так не могут!
Ну, насчет этого я сильно сомневался, но спорить с его завидной убежденностью не стал. И впрямь в этой поделке было что-то говорящее – детская страсть народа к состязанию, хвастовству: и Софию свою отстроили в точь с киевской, чтобы только быть «не хуже», и всем прочим любили отличиться, показать себя: удалой ли тонкой работой – вот де самого Победоносца в ноготок загнали! – лихой купеческой ли, молодецкой удалью. Таковы были и любимые герои их кичливых былин: удалой купец Садко весь город «обторговал», самого Царя Морского околпачил; Василий Буслаев – и того пуще: всех горожан, куражась, на «честной бой» звал, «ни в сон, ни в чох не верил», через камень Алатырь задом прыгал – за что «поют ему славы во все века», за что сложил свою буйну голову, как потом и сам Господин Великий Новгород… Еще мне запомнился конец одной былины про Буслаева, где, кажется, сказалась вся душа новгородской вольной республики:
Выпили оне, сами поклонилися,
И пошли добры молодцы, куды кому захотелося…
После Грановитой палаты мы отправились в Софийский собор. Экскурсанты покорным выводком брели за нашей гидшей, преданно смотря ей в рот или туда, куда показывала. Но когда в конце каждого обзора она спрашивала, больше для проформы, нет ли вопросов, лишь тупили глаза: дескать и рады б спросить – нечего. Только один раз наш выводок чуть оживился – когда было сказано, что часть сокровищ, спрятанных в стены Софии при разграблении Новгорода Грозным, до сих пор не найдена. Все переглянулись с подстрекающими видами: каждому, наверное, на миг пригрезились эти сокровища, еще как бы ничьи – и только, может, протянуть руку, ковырнуть в стене… Но за несбыточностью и эти грезы быстро испарились…
На улице, когда мы отошли немного от собора, экскурсоводша попросила остановиться и обернуться назад.
– Над крестом центрального купола вы видите голубя. С ним связана одна из легенд новгородского детинца. Когда в 1570 году Иван Грозный пришел в Новгород со своим войском, он устроил пир в Грановитой палате, велев явиться на него местной знати и духовенству. Чтобы подчинить непокорный город, он решил жестоко с ним расправиться. В разгар пира опричники стали по его приказу хватать и избивать находившихся там новгородцев, одновременно пошла резня по всему городу. Шесть недель длилось бессмысленное кровопролитие, со слов очевидцев даже вода в Волхове окрасилась от крови в красный цвет. Из тридцати пяти тысяч жителей двадцать тысяч было убито и около десяти угнано на чужбину. И вот, по легенде, во время того пира над детинцем пролетал голубь. Он опустился отдохнуть на крест Софии и, увидав с него страшное побоище, окаменел от ужаса. А потом якобы Богородица открыла уцелевшим, что он послан в утешение городу – и будет его хранить, пока оттуда не слетит. Уже во время Великой Отечественной войны, когда летом 1941 года фашистские полчища осадили Новгород, одним из первых снарядов был снесен центральный купол Софии, с ним и голубь. После чего город второй раз в своей истории был разрушен и захвачен. Так ужасно подтвердилось древнее предание…
Маленький голубок неподвижно и просто сидел на своем кресте и никак не вязался в воображении с той чудесной ролью, придаваемой ему легендой. Но под впечатлением рассказа мы еще несколько мгновений продолжали, не отрываясь, пялиться на него…
Затем мы перешли к софийской звоннице, где тень Грозного опять предстала перед нами:
– Когда Грозный подъезжал к детинцу по Волховскому мосту, звонарь, желая угодить ему, ударил в колокола. Лошадь под царем испугалась и чуть не сбросила его с себя. Тогда он, разгневавшись на колокола, велел спустить их и отрезать им уши. Таким образом этот жестокий человек мог гневаться не только на людей, но и на неодушевленные предметы. София надолго лишилась своих звонов, что в ту эпоху означало и большой позор для города. Сейчас, вы видите, колокола стоят на земле. Недавно на одном из новгородских заводов им приварили новые уши, и скоро мы опять сможем услышать их молчавшие так долго голоса…
Вопросов снова не было… Мне даже сделалось как-то неловко перед нашей предводительницей за эту групповую безучастность. Еще когда мы отошли от звонницы, поблизости открылся киоск с сувенирами и кто-то бестактно бросился к нему, словно демонстрируя этим предпочтение каким-то безделушкам перед ее одушевленными рассказами. Она и шла как-то отдельно, стороной от всех; чтобы сократить эту неблагодарную дистанцию, я подобрался к ней поближе.
– Я вижу, здорово вам этот Грозный насолил. Вы так его рисуете – прямо не царь, а зверь какой-то!..
Теперь она с недоумением уставилась на меня; я попытался развить не совсем, может, уместную здесь мысль:
– Но ведь он преследовал и общегосударственную цель, объединял страну, а Новгород брыкался – и пришлось применить меру…
– Это была неоправданная жестокость.
– Но историческая правда больше отдельных перегибов. И она все же осталась за Москвой, за прогрессивной на ту пору властью…
– Прогресс не может быть варварством. Так жестоко не обходились с русскими городами даже татары.
Она упрямо смотрела себе под ноги, на свои поношенные туфли, и как будто даже весь этот разговор был ей не по нутру.
– И все-таки, по-моему, вы чересчур пристрастны.
– Я не даю историческую оценку. Я только рассказываю факты. Извините.
Мы уже подошли к памятнику тысячелетия России, и она отвернулась от меня, выжидая, пока дособерутся остальные. Я отступил сконфуженно назад, моя хорошая попытка явно не удалась.
Здесь имя Грозного прозвучало в последний раз – правда, уже в связи с другим историческим лицом. Интересно кстати, что среди сотни фигур на памятнике самого Грозного не было, зато была его первая жена Анастасия – «просвещенная и благородная русская женщина, умевшая укрощать гнев царя и спасшая многих людей от смерти и мучений». Настолько же, насколько имя ее мужа звучало в устах рассказчицы презрительно, с чуть не личной неприязнью, имя царицы – сочувственно и тепло, хотя та, насколько я помнил, к самому городу и не имела никакого отношения…
На этом экскурсия и закончилась. Сказав еще несколько слов о мощных стенах детинца, так, увы, и не упасших его ни от чего, наша гордая древлехранительница указала на узкоплечий, прижатый к самой стене храм:
– Церковь Покрова. Первоначально принадлежала мужскому монастырю, потом женскому. Теперь, – она словно сделала над собой некоторое усилие, – там открыт ресторан «Детинец». Можете самостоятельно ознакомиться, отведать блюда местной кухни…
После этой, видимо, вменявшейся в обязанность рекламы она отрывисто поблагодарила за внимание и быстро, отворачивая от ветра свое непокорное лицо, зашагала к своей экскурсионной келье.
Люди потянулись к поджидавшему их автобусу, позвякивая только что купленными сувенирными колокольцами – копиями тех, со звонницы, словно разбившихся на множество блестящих дребезгов у них в руках. У меня же до поезда еще оставалось вдоволь времени, я почувствовал, что до костей продрог на злом ветру, и, видать, сам Бог сулил мне это актуальное знакомство.
У этого храма-ресторации уже царил, обдавая сходу, совсем другой, сугубо приземленный дух. Два удальца в замаранных белых пиджаках и официантских бабочках с заднего придела закидывали в вороватый пикапчик какой-то явно левый груз – и в лицах их, ухватке так и читалось: «Однова живем! Греби к себе, все равно на всех всего не хватит!»
Внутри все было уже совсем по-ресторанному: сортиры, гардероб, швейцар, те же продувные официанты… Я разделся, взошел по витой лестнице наверх. Почти пустой центральный зал с солидными дубовыми столами, рассчитанными на богатых варяг и греков, был явно не про меня. Благо рядом еще работал бар, где на высоких табуретах у стойки сидели всего две девицы, занятые каким-то своим разговором. Возле них пристроился и я.
Перед ними стояла бутылка шампанского с фирменными глиняными стаканчиками, еще довольно редкостный тогда заморский шоколад и пачка столь же редких, утонченных сигарет. Одна, подальше от меня, была лицом попроще, в потертых джинсах и свитере; зато другая – поизысканней и нарядом, и собой: от лица – до длинных и холеных пальцев, непринужденно ловких в обращении со стаканчиком и сигаретой. Я тоже, спросив рюмку, вынул свое курево, но барменша мне строго указала:
– Здесь не курят.
Я хотел было кивнуть на соседок, но как-то уже и сам допонял, что они – это, значит, одно, а я – совсем другое.
Они же все продолжали обсуждать что-то свое – но мне, с разгона всех недавних впечатлений и быстро, после уличного холода, ударившего в темя хмеля, тоже ужасно захотелось развязать язык. К тому же их загадочная привилегированность добавочно подстрекала интерес – и, уловив в их разговоре паузу, я спросил:
– Простите, а вы не местные жительницы?
Та, что в джинсах, как бы с удивлением оглядела мой не ахти какой командировочный костюм, другая даже не обернулась.
– Нет, не здешние.
– На экскурсию приехали? Давайте познакомимся.
Лицо первой исполнилось таким презрительным высокомерием, словно я сморозил невесть какую глупость:
– Вы знаете, мы достаточно высокого мнения о себе, чтобы знакомиться с первым встречным.
– И я о себе тоже очень высокого мнения, так что это не помешает. А вы с чего такого мнения, чем-то интересным занимаетесь – историей, археологией?
– Нет, не из этой серии.
– А из какой?
Теперь ко мне повернулась с любопытством и вторая:
– Мы лингвисты, если вам так интересно.
– О, так мы почти коллеги! А вы, я вижу, не русская?
– Да, я приехала из Голландии. Как вы догадались?
– По вашей речи.
– Но мне все говорят, что я очень хорошо говорю по-русски.
– Да, говорите вы отлично, но у вас согласные чуть мягче, на романский лад, это у многих иностранцев остается.
Они переглянулись с выражением, которое я поспешил истолковать в пользу моему лингвистическому чутью.
– А здесь что, северные говоры собираете?
– Нет, просто приехали посмотреть, она меня привезла.
– Ну и как, вам понравилось?
– Да, это очень интересно.
– Правда? Я рад за наших новгородцев! Сколько их громили, а все же сбереглись, сколько еще по себе оставили! Вы слышали про их голубя? Нет? Чудесная легенда!
Я хотел в двух словах передать ее, но, поощряемый их интересом, сменившим постепенно первую недоброжелательность, увлекся и рассказал все от начала до конца. И сам лишь тут заметил, как сильно она подействовала и на меня.
Мы наконец познакомились. Первую звали Татьяной, вторую – Мари. Я подозвал барменшу и попросил налить нам всем еще.
– А вы, Татьяна, здесь не первый раз?
– Я? В общем я здесь родилась, но сейчас живу в Москве.
– Так вы все знаете!
– Нет, про птичку я не слышала.
– Не может быть! Значит, еще должны спасибо мне сказать! Ну давайте, за вашу прекрасную родину!
Мы выпили; новые впечатления все никак не отпускали меня:
– Но больше всего меня поразила сама экскурсоводша. До сих пор не может с Грозным свести счеты! Я попробовал за него вступиться – она и меня с двух слов возненавидела. Героическая женщина!
– Тоже радость – каждый день перед этим стадом распинаться!
– Но ей, наверное, нравится ее работа…
– По-моему, это не уважать себя – бисер метать…
– А по-моему, это наоборот достойно уважения. Легко быть патриотом, когда все вокруг патриоты, когда от тебя лично это не стоит ничего. А так, как она – это и есть подвиг. Я сам преклоняюсь перед ней, потому что у меня нет десятой доли ее любви к родине. Вы не знаете своего Новгорода, я не знаю своей Москвы, свое скучно, неинтересно, тянет новизна – не от любознательности, а от невежества, как на блестящую стекляшку дикаря. Одна моя знакомая была в Париже – так теперь это гвоздь всей жизни, только и разговоров: вот как мы были на Монмартра, как мы ехали в Сен-Клу! Ну ехали и ехали, а радости – как будто ее там золотом посыпали! Но у нас это в крови, а вы, Мари, вы человек другой нации, другой культуры – как вы все это ощущаете? Этот же Новгород – ведь у вас есть, наверное, и свои такие же места?
Глаза ее на этом месте вдруг покраснели, и по щеке скатилась маленькая слезинка. Я решил было, что от нашего дыма – я уже тоже, позабывшись, закурил, не встретив на сей раз отпора от суровой барменши – и хотел даже разогнать дым рукой, но Мари сказала:
– Я не иностранка. Я русская. Я тоже здесь родилась. Когда вы сказали про мой акцент, это было так странно, я никогда не думала об этом… Я не была здесь пять лет, мы как раз сейчас сидели, вспоминали: здесь, в этом баре, прошла наша молодость, здесь нас все знают. Понимаете, это все очень больно!..
В ее неожиданном признании мне послышалось что-то ненастоящее, словно где-то уже читанное или виденное.
– Но вас же не силком отсюда увезли?
– Так получилось. Я познакомилась еще студенткой с человеком, вышла замуж…
– Ну и что, там хуже оказалось, чем вы думали?
– Нет. Просто там все совсем по-другому. Какие-то свои законы, о которых мы здесь даже не знали. Вот эти внешние границы, положение, сначала даже трудно привыкнуть…
– А потом? Как все же вам там, хорошо? Не чувствуете, что вы что-то потеряли?
– Потеряла? По-моему, наоборот у меня есть там то, чего я здесь никогда бы не смогла иметь.
– Да, но вещи – это же еще не все! Есть и другие ценности: призвание, стремление к чему-то. Вы же еще здесь учились, собирались кем-то стать…
– А кем бы я здесь была? Экскурсоводом за ее несчастные гроши?
– А там вы кто?
– Женщина. Жена. Мой муж – фармаколог, он достаточно богат и за то, что я ему даю, способен обеспечить мне такую жизнь, какую я считаю достойной себя.
– Но с чего вы взяли, что экскурсоводша бедней вас? То, чем она обладает – это тоже богатство.
– Но она не может взять его себе домой.
– Но ей этого и не надо!
– Так только говорят. Я прекрасно знаю, что женщине надо.
– И я прекрасно это знаю! Но есть любовь и другого рода, не к себе – а от себя…
– Я хочу жить, а не слушать сказки. Любовь, родина – это все высокие слова. Объясните мне, что они значат?
– Очень много. Вот только что она рассказывала о софийской братии, как они попрятали от Грозного свою казну и нипочем не выдавали. Ради чего? Все равно умирать было, уже не свое берегли! А молчали, пытки страшные терпели – ради этих высоких слов, ради чести города, это казалось больше всех мук и смерти. Потому что это и есть главное, на чем все держится, как на стержне, вынь – и посыпится, и жить тошно и не для чего. Недаром про этого голубя сказано: пока он есть, будет и город, и все жители его. И нас потому так поражают эти совпадения – дело не в мистике, просто сама суть настолько в нем влита, что вспыхивает, как от спички, от любого случайного прикосновения. И неважно, что одни это чувствуют, другие нет; кто-то должен это чувство зажигать, как кто-то должен сеять хлеб, который все едят – как бы над этим ни смеялись!..
Тут я почувствовал, что уже слегка зарапортовался. На этих явно неуместных хлебосеях Мари бесцеремонно отвернулась от меня к Татьяне, которая все это время только молча прихлебывала из своей посудины, что-то ей сказала, сползла с табурета, высоко обнажив свои стройные, красивые ноги, и пошла вниз. После моей горячей речи в воздухе зависла какая-то пустота; чтобы как-то разрядить ее, я спросил Татьяну:
– А вы давно с Мари дружите?
– С Машкой? Со школы, в одной комнате в общаге жили. – Ее, похоже, уже слегка развезло. – Подумаешь, за иностранца вышла, всю дорогу как собачка за ним бегала! Ничего в ней такого нет, фигура только, а лицо – одна косметика, я-то знаю! Мне тоже швед предлагал уехать, могла б тоже сейчас там жить!…
Она презрительно пожала плечами, но в этом шведе, в ее скоропалительном предательстве подруги сквозила такая бешеная зависть к ней, что чувствовалось: как бы дальше ни сложилась у самой, что бы ни выпало – все будет казаться, что неудачно и не так.
Вернулась Мари, мы еще выпили, и все трое уже были хороши. Мари теперь сменила прежний гладкий тон на деспотически-капризный:
– У меня есть деньги, я хочу покупать! Меха, золото – где это? Почему у вас ничего нет? Ты же писала! Я выложилась за дорогу, плевать ¬– дорога, я за все плачу, но я должна что-то привезти!
Татьяна пыталась ее утихомирить, что-то шептала ей на ухо, у них зашел свой торг, и я уже почувствовал себя в нем лишним. Но не успел сообразить, как лучше тогда отойти, они засобирались тоже. Мари взяла еще шампанского с собой, барменша рассыпалась подобострастно перед ней – не получив однако при расчете сверху ничего. Но не обиделась этим ничуть – наоборот, все радостно кивала, приглашая заходить еще: видно, крутой подъем бывшей клиентки впечатлил ее сильней зажатых чаевых.
Внизу я взял у них номерки, помог одеться; швейцар тоже так кланялся, что я не выдержал, отдал ему свою последнюю бумажку.
На улице теперь шел снег, дул тот же ветер – словно зима своим возвратным ходом хотела задушить зародыш новой жизни и исходила лютой яростью от невозможности того. Мари опять заныла:
– Мне холодно! Почему нет машины?
– Ну сейчас, Машка, пошли скорей.
– Я не могу, у меня каблук! Приведите такси сюда! Вы, мужчина, ухаживайте!
– Сюда же нельзя.
– Я ничего не знаю! Я мерзну! Ненавижу эту погоду, этот город! Я хочу такси!
– Могу только уступить вам свой плащ.
– Спасибо. Оставьте его себе. – Мы уже выходили из детинца. – Вон, вон машина, ну бегите, что вы не двигаетесь!
Я очутился в неловком положении. И бежать подобием какого-то слуги – равно как и не услужить в подобной непогоде нежной гостье, пусть в ее же городе, казалось не с руки. Я выбрал среднее: слегка прибавил шагу и, дойдя до площади перед детинцем, стал голосовать. Но редкий на этой стороне транспорт не останавливался; я перешел, как только подошли они, на другую; наконец остановил машину, подбежал, открыл дверь:
– К вам можно?
– Куда ехать?
Этого я не знал, высунулся, чтобы спросить – но увидел, что как раз в эту минуту им тоже повезло; они, даже не глянув в мою сторону, сели в свою машину и укатили. Я извинился перед водителем и захлопнул дверь.
Я отступил назад, на тротуар, и растерянно остановился. Внезапная развязка смахивала слегка на оплеуху; впрочем я как-то сам, видимо, и напросился на нее. Но, признаться, больше щепетильных счетов меня одолевало сейчас другое. До моего поезда все еще оставалось время, и куда теперь его девать, я даже не знал. В пустой номер гостиницы не тянуло; голова, возбужденная алкоголем, заново жаждала общений, разговоров – неважно с кем, пусть даже с идейными противницами, в конце концов не для этих же дурацких споров я на них напал!
Но я дал с ними маху – и теперь оставался один в чужом городе, на промозглом ветру, идти больше было некуда, да и не на что. И снова, как с утра, только еще сильней, я ощутил нелепость, фальшь своего положения. И все мои предыдущие речи показались мне тоже надутыми и фальшивыми. В самом деле, кой черт мне до всей этой старины? Кому я лгу? Сегодняшнее, нынешнее – вино, воспаленные глаза, горячая живая плоть, – вот что истинно, чего я хочу. И не задумываясь, как и любой другой, отдам за это все свои благонамеренья – за эти обнажившиеся на мгновенье ноги, которые я не могу, к несчастью, взять – здесь, сейчас, пока меня палит этот несносный зуд, а не где-то там, в том утопическом, закоченевшем в новостройках далеке!
Я повернулся и зашагал вперед, без цели, по хлипкой и скользящей под ногами мостовой. Во мне кипела злость – на самого себя, на мой дрянной позыв, на то, что я не в силах ни унять, ни утолить его. Так к черту все, всю эту выспренную ложь! Только рвать, грести: она права, эта красивая бестия, вот в чем все дело! На всех все равно всего не хватит! Кто смел, тот и съел! Так и было всегда, это один закон, на нем все держится, и никакой обратной проповедью его не переспорить!
Я сделал круг по площади и вышел вновь к детинцу, остановился на совсем теперь пустой площадке перед ним. В лицо летел кромешный снег, от непогоды раньше времени стало смеркаться, еще не остывшее воображение с невольной остротой ловило каждый штрих уже знакомой обстановки. И вдруг, без всякого нажима, я увидал, как въяве, всю картину, что обрывками возникала передо мной то тут, то там весь этот день.
За Волховом, посреди разоренного торгового посада сидел на деревянном троне Грозный в своих долгополых одеждах, рядом – безропотный послушник сын, стрельцы, жалкой кучкой перепуганные насмерть новгородцы. Глаза царя уже слегка одурели от крови, запали; мысли мешались в голове после долгих дней пыток, блуда, питья… Но одна сидела там прочно и неколебимо, за нее он и держался своим цепким, бесноватым умом: «Аз есмь царь, есмь князь един, волен, кого казнить, кого миловать. А прочее все – блазн и измышление».
И эта мысль, словно попав в какую-то проруху, не находя отпора, чудовищно разрасталась, подавляла все вокруг. Крики, мольбы жертв, вопиющие о невозможной жестокости, не жалобили, только растравляли, воочию подтверждали правоту ее. Как очумелый напоследок ветер, над покоренным городом царил этот глухой и одинокий «аз» – само утробное, животное начало, доведенное эпохой до победного конца. И ловкие как всегда клевреты, умеющие на лету схватить злобу дня – скакали по городу «царевы слуги», хватали в угодническом рвении новые и новые жертвы, выволакивали из домов, разили пиками и бердышами, кидали в Волхов. «И бысть такого неисповедимого кровопролития человеческому роду во все дни, беспристани, на всяк убо день ввергнут и потопят в воде человек всякого возраста числом до тысящи, а то и до полутора тысящ. А тот убо день облегчен и благодарен, иже ввергнут в воду только до пятисот или до шестисот…»
Но вот наконец пресытилась чудовищная жажда. «И повеле государь оставших новгородцев жителей изо всякой улицы по лутчему человеку поставити перед себя. Они же сташа перед царем с трепетом, быша яко мертви, отчаяшеся живота своего, видяще неукротиму ярость цареву». Но тут – только воззрел царь «милостивым и кротким оком» и наказал молиться «о нашем благочестивом царьском державстве и о чадех моих, благородных царевичах, и отпусти с миром…»
И расползлись «оставшие новгородцы жители» по своим пустынным улицам, не видя ничего ослепшими от ужаса глазами, не в силах даже Богу роптать о непомерном горе своем. И, казалось, нечем дальше продолжаться жизни, повержена, истреблена сама порука ее…
Но робкий голубь уже взлетел над Софией. И был один в противоборство страшной, цепенящей разум силе. И снова пошла жизнь… Бились два начала, то одно брало верх, то другое; и их поединок представился мне как бы одной метафорой, легшей на всю историю, на все то ужасающие, то умиляющие картины ее…
Где-то ковались новые силы, закипала новая борьба, простые дома позади поднимались выше всех крестов и колоколен. Подобно налетевшему внезапно снегу таяла история, уже не она захватывала меня – а величие нашего дня, вознесенного его урочным часом над всем прошлым и будущим, получившего над ними на какой-то миг всю власть. И теперь он – волей, неволей – должен будет сказать свое, прочертить назначенное…
И я чувствовал, как та же роковая сила снова сводит нас, начиняя простые реликвии нашего быта тем же грозным и неотвратимым смыслом. И этот бар, и наши речи и споры – уже отмечены незримой метой и внесены в пределы вечных стен. И эти физкультурники – те же воины, и им тоже предстоит сыграть свое. И все доброе и злое, высокое и низкое переливается из них в нас – и снова жжет и разделяет, и клонит к своему сраженью в извечной схватке, исход которой еще не может быть мной видим, но все, чем мы живем и дышим, что носим за нашими сердцами и подоплеками – в конечном счете и решит его.
И от этой мысли, далеко не новой, здесь, на этой вещей пяди, у меня стиснулось дыханье и дрожь пробежала по спине. На миг я ощутил всем своим существом страшную ответственность и страшную беспомощность перед великой ролью, безумный жар желания и невозможности исправить что-то в неисправимом ее ходу.
И долго, пока я дальше добирался до гостиницы, а от нее до вокзала, садился в поезд; пока наконец не заснул под приглушенный говорок вагона, у меня стоял перед глазами этот маленький, тщедушный голубок, летящий – все же летящий сквозь снег и время над дорогой, провожавшей меня землей…



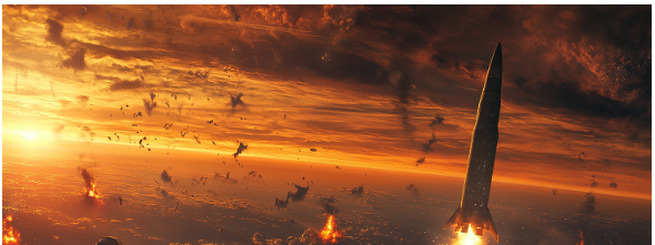
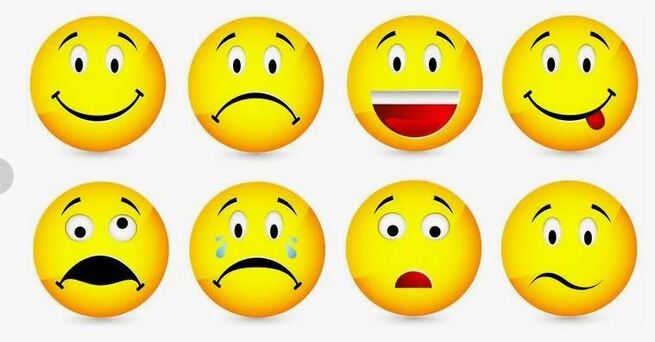
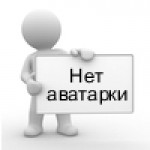

Оценили 0 человек
0 кармы