Деникинское правительство вроде бы и признало, что аграрный переворот, свершившийся в России, необратим. ( https://cont.ws/@mzarezin1307/... ) Но люди истинно благочестивые, богобоязненные и булкохрустные понимали, что помещичья земля не принесёт крестьянам счастья, а возвращение этой земли принесёт счастье помещику...
Генерал А. И. Деникин. Очерки русской смуты
Том четвертый. Вооруженные силы Юга России
http://rushist.com/index.php/d...
Глава XXIII. Особое совещание: гражданское управление и самоуправление; рабочее и аграрное законодательство
<...>

Василий Григорьевич Колокольцов
Комиссия Колокольцова приступила к разработке земельного вопроса, привлекая многочисленных сведущих людей и со стороны. В комиссии наметились сразу три течения: левое с.-р. типа, с определенным стремлением к полной ликвидации помещичьего хозяйства; крайне правое, стремившееся выиграть время и отстоять интересы класса; наконец, среднее, искавшее путей для введения стихийного процесса в русло государственных интересов. По-видимому, ведомство Колокольцова принадлежало ко второму течению... Еще в процессе подготовительной работы мне приходилось обращать внимание на внесение проектов, в корне расходящихся с духом декларации.
«Правые, – говорит один из участников комиссии, – были идеологами и страстными, убежденными защитниками восстановления помещиков на их землях. Люди писали на бумаге свои чаяния и мечты, не считаясь с тем, что можно было сделать, в новых условиях и чего сделать было уже нельзя. Они представляли цифры и неопровержимые данные, касающиеся теории вопроса... "Вот государственный интерес, – говорили они, – и нам нет никакого дела до того, что кто-то говорит о революции. Революция пройдет. Россия останется. Наше решение должно быть для России, а не для революции"».
Колокольцовская комиссия закончила свои работы в начале июля. «Земельное положение», составленное, ею, в общих чертах имело следующие основания: помещичья земля свыше известной нормы продается добровольно или отчуждается в собственность крестьян –: за выкуп; норма не подлежащих отчуждению частновладельческих земель, в зависимости от местности, – от 300 до 500 десят.; целый ряд изъятий в отношении культурных и заводских хозяйств еще больше уменьшал общую площадь переходящих к крестьянам земель; отчуждению не подлежали земли городов, земств, монастырей, церковные, духовных учреждений, ученых и просветительных обществ. По мере занятия отдельных местностей должны были немедленно вступать в распоряжение своими угодьями казна, банки, города, церкви, монастыри, перечисленные выше учреждения, а также, во многих случаях, частные собственники – как, например, землями, не использованными захватчиками или «находившимися в чужом пользовании в течение времени не большего, чем необходимо для одного озимого и одного ярового урожая»...
Наконец, Положение предусматривало, что земельные органы приступят к отчуждению только по истечении трех лет со дня восстановления гражданского мира по всей России!..
Проект этот был мною отвергнут. Колокольцов оставил пост. Проект передан на рассмотрение новой комиссии под председательством нач. управ, юстиции Челищева.
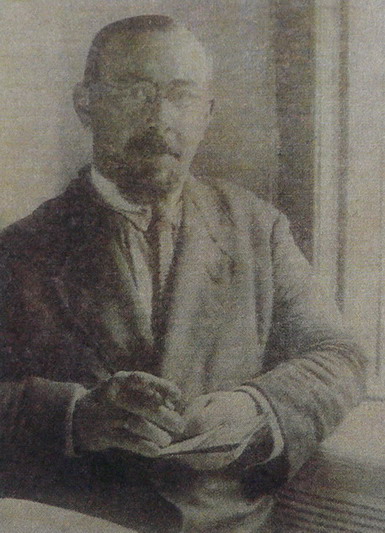
Виктор Николаевич Челищев. Новороссийск. 1920 г.
Замечательно, что даже это творение – акт отчаянной самообороны класса – вызвало смятение в правых организациях. На проект Колокольцова, ставший известным Совету гос. объединения, последний отозвался немедленно письмом Кривошеина и постановлением от 14 июля: «...Намечаемое законопроектом огульное принудительное перераспределение владения возбуждает серьезное опасение в том, что проведение его в жизнь породит тяжелые продовольственные последствия для государства и экономическое обессиление его». Совет успокаивал себя только тем, что в течение трехлетнего срока «непреложные законы экономического развития укажут на правильные пути для будущего русского сельского хозяйства». И рекомендовал ограничиться возобновлением деятельности Крестьянского банка и созданием землеустроительной и землемерной организации, которые «внесут в деревню успокоение вернее и скорее, чем «самые красноречивые обещания!»... А Совет всероссийского союза земельных собственников утверждал даже, что «по сведениям, идущим из деревни, народ сознает ныне глубокую моральную разницу между своим и чужим и относится к захвату как к действию преступному и не могущему быть терпимым при восстановлении законной власти». Не видели или умышленно закрывали глаза?
Были, впрочем, и редкие исключения: в Харькове союз земельных собственников в августе принял резолюцию о необходимости скорейшего издания земельного закона в духе моей декларации ввиду того, что дальнейшая проволочка может вызвать опять брожение среди крестьян.
Тем временем подходил сбор урожая и необходимо было дать временные нормы для надлежащего его использования. Злополучный «третий сноп», введенный еще в период нашего походного законодательства на клочке Ставропольской губ. для урожая 1918 г., сохранился в неприкосновенности. В Особом совещании был составлен и мною утвержден ряд положений, имевших тройную цель: обеспечение сельскохозяйственного производства, сохранение принципа собственности и по возможности меньшее нарушение сложившихся в деревне взаимоотношений.
Закон об урожае оставлял его за посеявшим и требовал уплаты аренды владельцу в размере 1/3 хлеба, 1/2 трав и 1/6 корнеплодов; закон о посевах на 1919–1920 гг. вменял в обязанность лиц, «в действительном пользовании коих земля находится», пахать и сеять, обещая «обеспечить интересы засевщиков при сборке урожая»; закон об аренде предоставлял фактическим обладателям земли (захватчикам) продолжать пользование ею на 1920 г. по договору или без договора, ограничивая известными пределами подесятинную арендную плату. Последующими законоположениями уменьшались нормы натурального арендного взноса (1/5–1/10) и облегчалась возможность дальнейшего пользования землей, подводя под «право захвата» некоторые юридические обоснования.
Правый член Особого совещания, одинаково уважаемый за прямоту и искренность обоими флангами, впоследствии говорил: «Из всех мер Особого совещания наиболее неудачной, наибольшей ошибкой были законы о хлебном налоге[См. ниже.] и о «третьем снопе». Оба эти закона вышли из правого крыла Особого совещания и вполне на его совести». Это вмешательство власти в острые аграрные взаимоотношения не встретило тогда достаточно сильного отпора в несоциалистической общественности Юга. «Третий сноп» вызывал в буржуазной печати горячие споры о нормах, о деталях, но за редкими исключениями эти споры не колебали принципа. Не раз, когда я приносил в Особое совещание свои мучительные сомнения о правильности такого нашего курса, я слышал не только справа, но иногда и слева совершенно бесспорные юридически истины, что отношение российских законов к захватам гораздо суровее и что колебание принципа собственности грозит большими потрясениями... Наконец «демократический» Дон и сугубо «демократическая» Кубань в своем законодательстве об использовании урожая 1918–1919 гг. придерживались тех же принципов, что и «реакционное» Особое совещание[Приказ донского атамана от 5 июня 1918 г. и Кубанского краевого правительства от 13 июня 1918 года. Согласно последнему, например, в случае, если запашка – владельца, а семена – посевщика, последний получал пол-урожая. Если то и другое владельца, то урожай целиком переходил к последнему, а незаконный посевщик получал оплату своего труда. В июле 1919 г. Донским правительством издано постановление, в силу которого захватчик уплачивал владельцу земли «арендную плату, существовавшую осенью 1918 г.».]...
А тем временем за войсками следовали владельцы имений, не раз насильственно восстанавливавшие, иногда при поддержке воинских команд, свои имущественные права, сводя личные счеты и мстя. И мне приходилось грозить насильникам судом и напоминать властям их долг – предупреждать новые захваты прав, но не допускать самочинного разрешения вопроса о старых. В местностях, где уже наступило некоторое успокоение, некоторые землевладельцы возвращались в свои поместья и вносили вновь элементы брожения непомерным вздутием арендной платы...
Комиссия Челищева перерабатывала земельный проект при участии нового нач. управл. землед., проф. А. Билимовича, в значительной степени под его влиянием. Но со времени подчинения моего адм. Колчаку самая возможность издания земельного закона стала спорной по существу.
Телеграммой от 28 августа, определявшей пределы моей власти, Верховный правитель уведомил меня, что «общее руководство земельной политикой принадлежит Российскому правительству». На этой почве между Особым совещанием и Омским правительством завязалась переписка, в результате которой последовала на мое имя в особо секретном порядке телеграмма адм. Колчака от 23 окт. № 1005:
«Телеграмма Нератова относительно предоставления Вам самостоятельности в земельном законодательстве заставляет меня с полной искренностью высказать возникающие у меня опасения. Я считаю недопустимой земельную политику, которая создаст у крестьянства представление помещичьего землевладения. Наоборот, для устранения наиболее сильного фактора русской революции – крестьянского малоземелья и для создания надежной опоры порядка в малообеспеченных землею крестьянах, необходимы меры, укореняющие в народе доверие и благожелательность к новой власти. Поэтому я одобряю все меры, направленные к переходу земли в собственность крестьян участками в размерах определенных норм.
Понимая сложность земельного вопроса и невозможность его разрешения до окончания гражданской войны, я считаю единственным выходом для настоящего момента по возможности охранять фактически создавшийся переход земли в руки крестьян, допуская исключения лишь при серьезной необходимости и в самых осторожных формах. Глубоко убежден, что только такая политика обеспечит необходимое сочувствие крестьян в освободительной войне, предупреждая восстания, и устранит возможность разлагающей противоправительственной пропаганды в войсках и населении.
Основные принципы принимаемых правительством мер одновременно Вам сообщаются. Конструкция изданных здесь постановлений по земельному вопросу не всегда удачна и допускает улучшения и даже изменения, но я глубоко убежден в необходимости твердого соблюдения их основных принципов.
Обстановка, где нет острого земельного вопроса, позволяет отнестись к нему с объективной спокойной стороны. Думаю, что ссылка на руководящие директивы, полученные от меня, могла бы оградить Вас от притязаний и советов заинтересованных кругов.
Сердечно желаю Вам дальнейших успехов, как военных, так и в не менее важных делах гражданского и политического устройства. Адмирал Колчак».
С тех пор работа земельной комиссии получила чисто академическое значение. Земельное положение было выработано в начале ноября, и я приказал отдать его печати, чтобы подвергнуть критике широких общественных кругов. Положение отличалось от Колокольцовского лучшей юридической формулировкой, осторожностью и стиранием острых углов, но основные его мысли были те же. Вот некоторые из его основ: добровольные сделки в течение двух лет; принудительное отчуждение по истечении этого срока; оставление за частными владельцами усадеб, лесов, открытых недр и земли от 150 до 400 десятин – на основании твердых максимумов или особой прогрессии; отчужденные земли могли быть проданы исключительно лицам, занимающимся земледельческим трудом, преимущественно местным; максимальные нормы для покупающих землю были установлены от 9 до 45 (на сев.) десятин.
Проект Билимовича – Челищева, при всех его спорных сторонах, представлял попытку проведения грандиозной социальной реформы и, если бы был осуществлен до войны и революции в порядке эволюционном, законным актом монарха, стал бы началом новой эры, без сомнения предотвратил бы революцию, обеспечил бы победу и мир и избавил бы страну от небывалого разорения. Но с тех пор маятник народных вожделений качнулся далеко в сторону, и новый закон не мог бы уже оказать никакого влияния на события и, во всяком случае как орудие борьбы был совершенно непригоден.
Для характеристики общественных настроений могут послужить те отзывы по поводу проекта, которыми полна была печать. Правые органы видели в нем «огульное уничтожение помещичьего землевладения», и H. H. Чебышев, б. член Особого совещания, писал в «Великой России»: «Отнять землю от хозяйственно образованного человека, любовно удесятерившего долгим трудом и затратами производительность земли, и отдать ее невежде, развращенному безделием, сельскому хулигану – тяжкая несправедливость, ничем не оправдываемый грех»... И грозил, что «в придачу к Махно мы получим Дубровских»...
«Свободная Речь» признавала «общую схему», спорила о деталях и решительно уклонялась от моральной ответственности: «Нам ясно, что силы будущей России – это мелкокрестьянская буржуазия... Мы понимаем, что эти силы должны служить главной основой власти... Но... можно ли спасти хоть что-нибудь и что именно – это может решить только власть... Если она признает, что во имя будущей России нужно санкционировать ликвидацию чуть не всего помещичьего землевладения – пусть будет так». Харьковский съезд партии к.-д. также уклонился от конкретного определения своих взглядов на земельную реформу.
Умеренно социалистические органы видели в проекте «стремление сохранить помещичье землевладение и притом не в виде исключения, а как общее правило». И стояли твердо против проведения аграрной реформы до Учредительного собрания.
Только группы, стоявшие еще левее, требовали немедленного и полного черного передела. Но они находились вне фронта противобольшевицкой борьбы – в стане наших врагов или сохраняли дружественный нейтралитет к советской власти.
Достойно удивления, как мало внимания уделяла печать всех направлений, увлеченная этими теоретическими интеллигентскими спорами, настроениям подлинной жизни деревни, крестьянства, как мало она стремилась проникнуть в замкнутый круг мужицкой стихии... Только официальные осведомители, с упорством верующих или сильно хотящих, изо дня в день твердили: «Мужик хочет «хозяина» и «синюю бумажку» – нотариальный акт на купленную землю»...
Таким образом, вся обстановка, создавшаяся на Юге России в 1919 г., психология общественности, соотношение сил и влияний решительно не способствовали проведению в жизнь в молниеносном революционном порядке радикальной аграрной реформы. Не было ни идеологов, ни исполнителей. Все, что можно было и, вероятно, должно, – это соблюсти «непредрешение», отказаться вовсе от земельного законотворчества, приняв колчаковскую программу – узаконения безвозмездного пользования захваченной землей впредь до решения Народ, собр. – рискуя разрывом с правыми кругами и, следовательно, осложнениями в Армии.
Только Новороссийская катастрофа, нанеся оглушительный удар белому движению, открыла многим людям глаза на тот геологический сдвиг, который совершился в России. Только тогда стало слагаться впечатление, будто «у многих землевладельцев зреет сознание необходимости жертвенного подвига»... Возможно. У одних, быть может, искреннее, у других – продиктованное безнадежностью положения и поисками новых, хотя бы «демагогических», средств для продолжения борьбы.
Только после этого несчастья у многих разверзлись уста, и они свидетельствуют наперерыв, что «знали», «предвидели», «предостерегали» – они, ничего не предвидевшие, слепые и глухие...


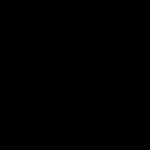

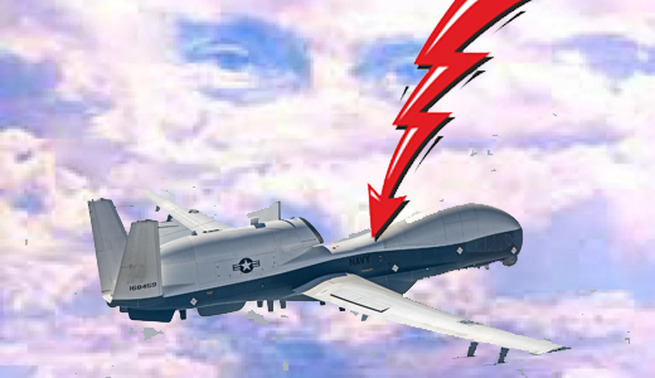

Оценили 9 человек
19 кармы