День выдался классный, а вечер был вообще особенный! Идешь по родному Питеру — весна, сирень цветет и настроение такое, что всех людей на свете любить хочется! Молодежь то там то здесь подает голоса, сидят на спинках лавочек, тусуются, и такое ощущение, что всем хорошо! Что стоит к любой компании подойти — и тебя потащат с ними выпить, а потом пойти к кому-то в гости, и там будет здорово, интересно, весело… А может быть, будет что-нибудь неожиданное?
В тот вечер я и встретилась с мальчиком… Об этом, собственно, и весь разговор. Нелепая получилась история. Я шла по Невскому, глядела по сторонам и, конечно, заметила, как он выворачивает в мою сторону шею — того и гляди, наступит в лужу или с кем-нибудь столкнется: смешной, белобрысый, молоденький. Через некоторое время оказалось, что он не только шею выворачивает, но и курс свой вслед моему держит и даже галсами обходит. В этом преследовании не было ничего опасного или неприятного. Было ли это лестно? Видимо, нет. Настроение было хорошее — весна, а все остальное — по фигу! Когда он приблизился снова, делая вид, что не замечает меня, мне стало жаль его, и я, игнорируя толпу, сказала: «Молодой человек, как вам не стыдно преследовать честную женщину!» В течение нескольких мгновений он не мог понять, что это шутка, но, видя, что я улыбаюсь, подошел, благодарный за то, что я помогла ему побороть робость и завести разговор. Так странно: он говорил такие забытые слова, как школа, класс, последний звонок. Я слушала, и мне казалось, что со мной это было так давно… или недавно? Пока он болтал, я вспомнила свой выпускной бал, как мама всю ночь шила мне белое платье, потом в доме собрались ее друзья и ждали меня до ночи за столом. А я пришла только под утро, и на платье была дырка, прожженная сигаретой. Я вспомнила, как плакала мама и как она крикнула, что ненавидит меня за то, что я такая же, как и мой отец. Но боли уже не было, даже обида на мать прошла — с той поры произошло так много новых обид, что старые притупились. Впрочем, про обиды вспоминать не хотелось, уж слишком был хорош вечер, и мальчик такой милый. Мы шли уже без цели по узким улочкам, и было непривычно тепло, и все еще немного странно после долгой зимы идти вот так поздно совсем налегке. Он рассказывал мне анекдоты, и случаи из своей жизни, и что случалось с его родителями в детстве, изображал в лицах своих учителей. Мне было смешно, я разошлась и хулиганила самым бессовестным образом: шокировала его пошлыми анекдотами, несла несусветную чушь и даже изображала диалог алкоголика с воблой, которую он достал из рваного кармана по ошибке, завернув за угол по малой нужде. Чем большую чушь я несла, тем шире он открывал глаза и смотрел мне в рот, боясь пропустить хотя бы одно мое слово. Когда так слушают, хочется говорить. И я говорила про все понемногу: что было хорошего и плохого, про то, как я была маленькая, а потом большая, про то, как меня в детстве укусила собака и на носу оставила шрам, про то, как я уснула на уроке и отпечатала на щеке след от линейки, которая лежала на парте. Про то, как жила с мужем, как лежала в больнице, как муж стал навещать меня все реже, и я поняла, что мы разведемся. Про то, как при разводе он забрал нашего общего пса, и когда через месяц я пыталась с ним пойти погулять, пес упирался, рычал и даже отказался спать на моей кровати, и я больше не стала его брать.
Потом мы слушали музыку из чьих-то окон.
Как в такой вечер можно было не целоваться? Мы прижимались к какой-то грязной стене, сидели на лавке в чьем-то дворе, а затем опять бродили вдоль канала, и я боялась, что он лопнет или прыгнет в воду от избытка чувств. А он вдруг остановился и стал расстегивать ремень, кожаный, плетеный, который скрипит, когда его вынимаешь из штрипок, и, вытащив его совсем, сказал: «Вот возьми. Это мне подарил отец. Это классный ремень, и он здорово скрипит». Это было весьма неожиданно. За всю мою долгую жизнь никто из ухаживающих за мной мужчин, расстегивая ремень, не предлагал мне его в качестве подарка. Я взяла ремень, и он был благодарен, что я приняла подарок, поднесла к уху и послушала, как он скрипит, а потом вставила в джинсы и застегнула на поясе. Это продолжалось долго и вылилось в некий странный ритуал обручения.
Когда мы вышли на Литейный, прямо рядом с нами из трамвая вышел Вайнер-Комбайнер, большой, ужасно довольный и абсолютно пьяный. Он улыбнулся, увидев меня, еще шире, чем улыбался до этого, с трудом, но чрезвычайно галантно подошел и вынул из кармана замученную головку тюльпана на коротенькой оборванной ножке. Кому он ее нес? Вайнер был пьян, но не глуп, поэтому он молчал, удерживая внутри себя алкогольные пары и пьяные излияния, искусно балансируя, перенося центр тяжести своего огромного тела из стороны в сторону. Так странно, совсем недавно мы вспоминали его, и я узнала, что он скоро уезжает с мамой в Израиль. Вайнер, который жил этажом выше, спускал мне на ниточке любовные записки и в третьем классе твердо решил жениться, теперь, вместо того чтобы жениться на мне, поедет в Израиль. Что он там забыл, интересно, и кому он там нужен — своей маме? Мы распрощались, и, проходя вдоль канала, я бросила цветок в воду, чтобы не огорчать парня и отогнать набегающие воспоминания. Цветок поплыл, как красный цветок лотоса, но не удержался и потонул. Мы долго еще бродили, и, кажется, мальчик провожал меня домой, периодически подтягивая брюки. Шли мы долго, но за разговорами я забыла, куда идем, мы вышли на окраину и уперлись в какой-то старый забор, за которым был сад. Он перелез через забор и в кромешной темноте нарвал на ощупь целый букет прошлогодних высохших цветов, которые перезимовали под снегом и торчали, как причудливый веник. В итоге мы опоздали на метро, и, что примечательно, у нас двоих не набралось денег на такси. Нам светила перспектива ночевать под забором, и, видя, как уже слипаются его глаза, я как старшая, чувствуя ответственность за ребенка, сказала: «Ладно, пошли. Тут неподалеку живут мои родители. Они меня почти два месяца не видели, просили навестить, а во сколько — не уточнили».
Открывать дверь вышла мама. Она спрашивала спросонья: «Кто там?» — таким родным голосом, что мне стало больно и за нее и за себя. Все спали, мы с мамой прошли на кухню. Без особой радости, но и без скандала мама постелила мальчику в гостиной, а я легла в своей комнате, которая так и была моей комнатой — здесь все оставалось по-старому, и мама ждала (теперь уже меньше), когда я вернусь сюда. Но, уйдя от мужа, я отказалась жить с родителями (вернее, с мамой и отчимом) и снимала квартиру. Отчим был неплохой мужик, но он был мне никто, при этом думал, что именно он знает, как я должна жить, и в этой связи был просто не интересен. А я командовала в своей квартире, курила в постели, швыряла одежду, стучала в стенку соседям, когда те не давали спать. Мама почти не звонила, я тоже. Она была обижена и показывала свой характер, а я свой. Иногда, когда мне было совсем грустно, я звонила ей и говорила: «Ты не можешь меня разбудить завтра в девять часов, у меня сломался будильник?».
Ровно в девять звонил телефон — мать всегда отличало чувство долга и аккуратность. Была ли она когда-нибудь счастлива — не знаю. Я не сразу брала трубку, затаптывала в пепельнице сигарету, будто мама могла ее увидеть, и, как спросонья, спрашивала: «Да кто там?». А мама говорила: «Доча, пора вставать». Как раньше: «Доча, пора вставать, опоздаешь в школу…»
Будние дни летели кувырком, ни на что не хватало времени. Мусор накапливался неизвестно откуда, но я дала себе зарок ничего не готовить, кроме кофе, и покупать только то, что можно съесть, не разогревая. И стало почище. А в выходные делала вид, что я не одна, и даже представляла, что кто-то подает мне кофе в постель.
Я ставила рядом с кроватью табуретку, все приносила на нее, забиралась под одеяло и приговаривала: «Вот тебе чашечка хорошего кофе в постель, а вот тебе сигаретка, только смотри не прожги простыню». Потом врубала телик и смотрела всякую чушь как последняя идиотка, а после плелась мыть за собой чашку.
И вот теперь я впервые лежала в своей кровати, смотрела в потолок с протечкой, которой было неизвестно сколько лет, разглядывала свои игрушки, и мне казалось, что я маленькая девочка, что за дверью сидят мама и папа и что сейчас папа зайдет тихонечко и, думая, что ребенок спит, ткнется осторожно в щеку — поцарапает щетиной, немножко больно, но все равно приятно.
В это время дверь действительно отворилась, и я увидела, что кто-то идет поцеловать меня перед сном — явно не папа. Фигура просунулась в дверь и нерешительно встала посреди комнаты.
«Ну что, Дон-Жуан, не спится на новом месте или замерз? — шепотом спросила я. — Может быть, дать еще одеяло?» Он держался как мужчина, мне не удалось сбить его с толку, он преодолел еще три метра и присел на краешек моей постели. Сделал небольшую передышку и наконец юркнул, как мышонок в нору, ко мне под одеяло. Молча прижался ко мне и затих. Я тоже молчала и прислушивалась к своим ощущениям: ощущение было совсем не такое, какое бывало в постели с мужчиной, казалось, будто рядом с тобой отогревается подобранный на улице щенок, которому было так одиноко, холодно и грустно, а теперь вдруг откуда ни возьмись появился хозяин, который снова рядом, и больше ничего не нужно. Он отогрелся, и ощущения изменились, по крайней мере внешние: наверху, я почувствовала, кто-то гулко и часто бухает в плечо, а внизу кто-то настойчиво упирается в ногу. Это продолжалось долго, эти двое толкались в меня, один наверху, другой внизу, пока я наконец не обернулась и не спросила: «Ну что, так всю ночь будешь упираться в меня и не дашь сомкнуть глаза? Ползи сюда». И стала снимать ночную рубашку.
В любви он был совершенно бестолковым, жутко скрипел кроватью, и мне было жалко маму, которая, наверное, не спит и злится или, не дай бог, плачет. Родить бы от такого, а там прожить можно и без мужа, в старости буду говорить, как моя начальница на бабских посиделках: «Был в юности мальчик — от мальчика осталась девочка». Парень явно думал о другом. Мне не хотелось его обидеть, но он, видимо, чувствовал, что делает что-то не так, и через пять минут все начинал сначала. Когда он перелезал через меня, у него дрожали ноги, и я некстати вспомнила, как водила своего любимого пса еще бестолковым щенком на первую вязку. Он так беспокоился, нервничал, что у него ничего не получается, и у него жутко дрожали лапы, а сучка стояла, как корова, и ей его было абсолютно не жалко, не говоря уже о ее хозяйке, которой было вообще на все наплевать.
Я лежала, думала о собаке, а когда пауза затянулась, поднялась на локте и поняла, что мальчик уснул. Я слышала, как мама скрипит кроватью, и думала, что жить с ней в одном доме все равно бы не смогла. Жалеть ее и выслушивать оскорбления. Мальчик спал тихо-тихо и улыбался во сне. Когда я утром ушла на кухню сварить кофе, он так и остался предательски спать в моей постели. Будить его и делать вид, что мы не виделись со вчерашнего вечера, было глупо и не по возрасту. Да и зачем, когда сестра и так за глаза зовет меня шлюхой.
Завтрак был готов, все собрались на кухне: мама, отчим, сестра Маша, здоровая дылда и абсолютная дура, у которой всегда был отец, и, может быть, за это я ее недолюбливала, а она меня ненавидела потому, что за мной всегда мужики толпами ходили, а она на всех своих дискотеках завалящего подобрать не могла.
Все сидели за кухонным столом, за которым я не раз делала уроки, на нем до сих пор сохранились мои надписи шариковой ручкой. Теперь этот стол был как бы чужой, и люди, сидящие за ним, — тоже чужие. Рядом со столом располагалось окно. Окно упиралось в стену сразу двух домов, и для того, чтобы узнать, какая на улице погода, мне всегда приходилось подходить вплотную к стеклу, выворачивать до невозможности шею и смотреть влево и вверх — тогда можно было увидеть кусочек синего неба и край освещенной крыши или серое небо и мокрую крышу.
Я вернулась в комнату, где было все так же тихо. Не покормить парня после такой ночи было бы просто свинством, и я продекламировала довольно громко: «Вставайте, юноша, завтрак подан, вся семья жаждет с вами познакомиться». Он проснулся и, кажется, толком не мог понять, где именно. Я принесла его одежду, штаны без ремня и примирительно сказала: «Не пугайся, сразу жениться не обязательно, можешь немного осмотреться, познакомиться с папой и мамой». Парень явно не мог врубиться, что происходит, но я безжалостно продолжала: «Смелее, юноша, раз уж вы имели наглость опозорить честную девушку в глазах всех ее родственников, имейте мужество отвечать за свои поступки. Ну, ладно, — более дружески продолжала я, — не дрейфь: пути к отходу все равно отрезаны, не будешь же ты прыгать в окно. Так что можешь смело сходить в туалет и ванную, путь туда как раз проходит через кухню. Уверена: все в сборе и им просто кусок в горло не полезет, пока на тебя не посмотрят. Кстати, в туалете неплохо бы покурить. Я потом скажу, что это ты накурил, а не я. И вот еще: возьми, это тебе от меня новая зубная щетка — припасена специально для такого торжественного случая».
Он сидел на краешке стула, пил горячий кофе, а я чувствовала себя, с одной стороны, по-идиотски, а с другой — совершенно классно. Я читала все мысли своих родственничков и понимала их лучше, чем они сами себя. У них все правильно в жизни, но то, что мне можно — им нельзя! Вот они сидят и знают, что я могу жить, как мне хочется, а они нет, и парень этот — мой, и это он для меня готов снять последний ремень и рубашку! Им в душе завидно, а делают вид, что за меня обидно.
Парень ушел, вежливо попрощавшись, а я закрутилась в делах, поскольку буквально на следующий день должна была уезжать в археологическую экспедицию на раскопки в какую-то тмутаракань, в Среднюю Азию, куда не ходят пароходы и не ездят поезда. За делами и сборами я и не вспоминала про парня, попрощалась с ним мельком по телефону и даже не сказала, когда вернусь. Через пять дней эпизод с милым мальчиком почти стерся из памяти, уступив место новым впечатлениям. Взрослым мужчинам, которые носили бороды, искали следы древних цивилизаций, писали книги и так же уверенно держали в руках кирку, как древние легионеры — топоры.
Конечно, у меня начался роман с одним из них. Впрочем, жить с мужчинами и не завести роман было для меня противоестественно.
Он приходил ко мне в палатку, рассказывал о своей работе, о творческих планах, о том, что смешного говорят его дети, о том, какой хороший человек его жена и как сильно они отдалились друг от друга. Он говорил о людях и о проблемах, которые ждали его в Ленинграде, потом начинал потирать руки одна об другую, повторял как команду: «Господи, холод-то какой!» — и только после этого деловито лез ко мне в спальный мешок, и мы занимались любовью, а потом долго смотрели на небо через полог палатки.
Вот тут и случилась неприятная история, из-за которой, собственно, и начат весь этот рассказ. Не помню уже, обмолвилась ли я о названии местечка, в котором велись раскопки, или мальчик узнал это сам через археологический институт, но только, как выяснилось, он почти три недели искал меня, плыл, летел, ехал автостопом и наконец нашел. Дошел он до лагеря ночью, всех перебудил и в итоге добрался-таки и до моей палатки. До сих пор не пойму, как у него очутился в руках нож и как он успел ударить выскочившего из мешка археолога. Слава богу, попал в плечо и поранил несильно. Парня схватили, разбили нос, держали и выворачивали из руки нож. Я хорошо запомнила его белое лицо, было рано еще. Лицо белое, и под носом темная кровь. Когда совсем рассвело, он куда-то пропал. В милицию никто, конечно, заявлять не стал, да и до ближайшего центра три часа езды. Археолог быстро поправился, но ходить в палатку и проситься в мешок перестал. Экспедиция закончилась, я вернулась в Питер… Потом было много чего. Я редко заезжала в родительский дом, но каждый раз проверяла, стоит ли в гостиной на пианино сухой букет-веник: он пережил все цветы в этом доме, из тех, что мне когда-то дарили. Но потом, видимо, и он куда-то исчез. И вот только недавно, приехав помочь старикам и разобрав завалы советских журналов на пианино, я открыла крышку и на желтых клавишах обнаружила иголки от елки с какого-то давно минувшего Нового года и обломки того самого букета. Потом и их не осталось, а вот плетеный кожаный ремень, который удивительно громко скрипит, я слушаю до сих пор каждый раз, когда расстегиваю штаны.
2000


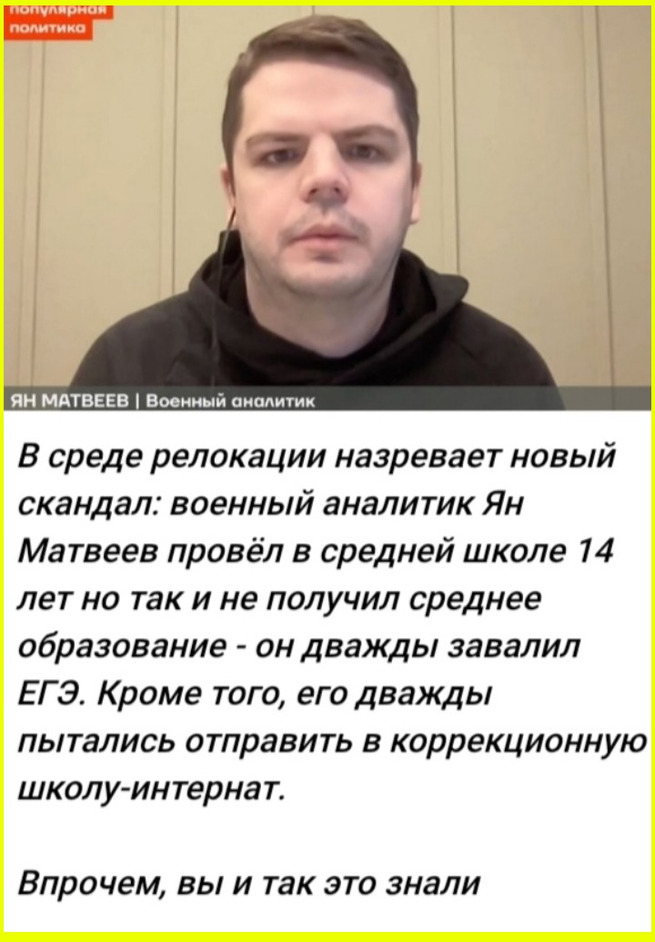

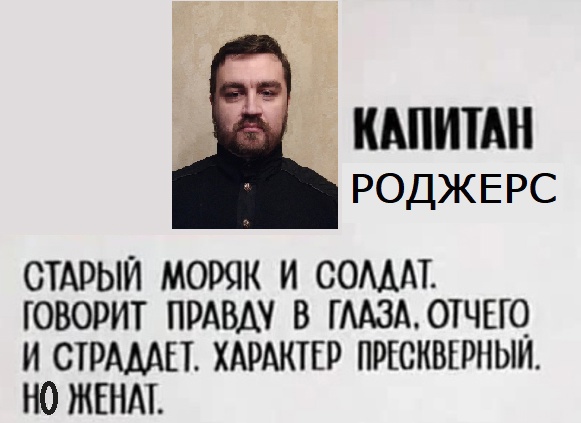

Оценил 1 человек
2 кармы