Запущенная Л.Н. Гумилевым фальсификация истории в виде категорического тезиса о якобы "монгольском законе обязательного возмездия за убийство послов" живет до сих пор. Мне пришлось писать специальную статью про монгольскую "дипломатию" и в том числе развенчивать указанную сказку Л.Н. Гумилева. Приведу облегченную версию этой статьи.
«Послы безделни»: первые столкновения Руси с практикой монгольской «дипломатии»
Впервые русские князья столкнулись с монгольскими послами весной 1223 г. – к киевскому князю они прибыли от монгольских полководцев Чжэбэ и Субэдэя, предложивших выдать бежавших от них половцев. Русские князья, собравшиеся на съезд в Киеве, не только отвергли это, но и приказали убить монгольских послов. При этом русские князья не имели практически никакой информации о монголах, кроме той, что им смогли рассказать прибывшие половцы. Согласно рассказу Ипатьевской летописи (ИЛ) информация была очень скудной и русские вплоть до поражения на Калке не осознавали реальной силы монголов.
Пренебрежительное отношение к ним (отметим, что позднее, уже на Калке даже увидев их войско, князья все равно «молвяхуть яко простии людье, суть пущеи Половець», см. ИЛ стб 742) , вероятно, и привело к редкому для Руси случаю убийства послов. Но редкому именно для междукняжеских отношений или отношений с соседними иностранными христианскими правителями – действительно, убийство их послов или самих прибывших на переговоры владетелей были крайне редки и сурово осуждались (к убийствам надо причислять и случаи применения византийского способа «убиения как правителя», т.е. ослепление, которое хотя и оставляло человека живым, но убивало его как суверенного владетеля). Относительно же «поганых» осуждение таких поступков не было безусловным.
Показательным является случай с половецкими ханами Итларем и Китаном в 1095 г. Ипатьевская летопись подробно описывает коллизию между указанными нормами – с одной стороны русский князь противится убийству половецких владетелей, выступавших как послы, а с другой, его переубеждает дружина, причем довольно легко:
«начаша думати дружина, Ратиборова чадь, со князем Володимером о погублени Итларевы чади. Володимеру не хотящю сего створити, глаголящю ему “како могу се аз створити, роте с ним ходив”. Отвещавше же дружина, рекоша Володимеру: несть ти в том греха, привел ти е Бог в руце твои, чему оне к тобе всегда роте ходяше – губять землю Рускую и кровь хрестьяньску проливають беспрестани» (ИЛ стб 217-218).
Как видим, основным доводом против убийства князь выставляет не статус неприкосновенности посла и вытекающую из него незаконность вреда «лицу посольского звания», а лишь только нарушение его клятвы половецким ханам. Это парируется контрдоводом о божьем провидении, которое позволяет нарушить клятву по отношению к клятвопреступникам и к тому же язычникам. Перенос на монголов отношения как к «безбожным половцам» оказался ошибкой.
Монголы же после взятия Судака и других торговых местечек в Крыму зимой 1222/23 г. несомненно получили достаточно сведений о Руси от местных аланских, мусульманских и русских купцов. Поэтому их подход к посольству на Русь был прагматичным и основанным на точной информации. Отсюда и приземленная, с упором на материальныую сторону проблемы, аргументация монгольских послов перед княжеским снемом в Киеве:
«прислаша послы, къ русскымъ княземъ: "се слышимъ оже идете противу насъ, послушавше Половьць; а мы вашеи земли не заяхомъ, ни городъ вашихъ, ни селъ вашихъ, ни на васъ придохомъ, нъ придохомъ богомъ пущени на холопы и на конюси свое на поганыя Половче; а вы възмите с нами миръ; аже выбежать къ вамъ, а биите ихъ оттолє, а товары емлите собе: занеже слышахомъ, яко и вамъ много зла створиша; того же дєля и мы биемъ"» (Новгородская 1-я летопись стр. 62).
Следует тут обратить внимание, что аналогичный упор на возможное получение богатства монголы делали годом ранее при переговорах с кипчаками/половцами, которых они хотели оторвать от их союза с аланами:
«Татары послали к Кипчакам сказать: “… мы обещаем вам, что не нападем на вас, а принесем вам денег и одежд сколько хотите; оставьте нас с ними”. Уладилось дело между ними на деньгах, которые они принесут, на одеждах и прочем» (Ибн ал-Асир, ЗОИ т.1 стр. 26).
Таким образом, налицо разные подходы сторон (русских и монголов) как к целям дипломатии, так и способам, дозволенным в ней.
В литературе нередко трактуют убийство этих послов как причину последовавшего монгольского нашествия, поскольку по сути принимают тезис Л.Н. Гумилева, что монголы якобы всегда мстили за убийства послов, так как у них якобы имелась такая правовая норма. Обращение к официальным документам Монгольской империи, сохранившимся в китайских переводах, «Юань ши» (ЮШ), «Юань дянь-чжан» (ЮДЧ), синхронных сообщениях китайских послов-шпионов и др., показывает, что таковой нормы не было. Более того, в жизнеописаниях монгольских дипломатов в составе «Юань ши» (например таких как Урмаса/Юэлюймасы, ЮШ цз. 123), основанных на первоисточниках XIII в., приводятся неоднократные случаи, когда монгольских послов убивали или держали в заточении годами и даже десятилетиями. При этом монгольские кааны не предпринимали карательных действий, оставляя данные случаи без последствий (см. сводку таких случаев в Ван Го-вэй, стр. 9б-11а). Для иллюстрации пара самых вопиющих историй.
В 1231 г. был убит монгольский посол Джубхан. Вот что сообщает по этому поводу «Юань ши»:
«Джубхан был отправлен побудить Сун [дать] свободный проход [монгольским войскам]. Сунцы убили его» (ЮШ стр. 31).
Никаких последствий со стороны монголов для убивших его властей Сун не воспоследовало, более того они послали новых послов для того «чтобы потребовать продовольствие» (там же). История с миссией в империю Сун в 1238 г. была еще более возмутительной. Как сообщает Елюй Чжу (сын знаменитого Елюй Чуцая) «Юэ-ли-ми-ши (т.е. Урмас - Р.Х.) и около 100 человек, отправленные с посольством в Сун, в конечном итоге были захвачены [сунцами] и не выполнили миссию» (Ван Го-вэй, стр. 10а). При этом в жизнеописании самого Урмаса сказано, что его
«отправили с посольством в Сун договариваться о мире, тех кто последовал за ним [в составе миссии], было более 70 человек», но «сунский военачальник заключил его под стражу в Чанша, в укреплении Фэйхучжай, где Урмас пробыл 36 лет и умер» (ЮШ стр. 3036-3037).
Причем из текста надгробия одного из членов миссии Урмаса, заключенного вместе с ним, некоего Чжао Чана мы узнаем, что монголы не предприняли никаких действий ни по спасению миссии, ни по отмщению за ее захват, а освобождены были ее остатки только после 1275 г., когда войска Баяна сокрушили Сун:
«прошло 36 лет, а главный посол Юэ-люй-ме-сы неожиданно скончался от отравления. Его люди – более четырнадцати человек – разбежались и неизвестно где находятся, а господин Чжао был сослан. Драгоценные и небом ниспосланные войска [монголов], прибывшие к городу [его ссылки], взяли [город] и вернули живым [господина Чжао]» (Ван Го-вэй, стр. 10а).
Все что сделали монгольские кааны, так это только то, что в 1260-х годах Хубилай пожаловал сына Урмаса Худухаса тарханством и приказал снабжать его семью продовольственными пайками от казны (ЮШ стр. 3037). Поэтому и убийство послов от Чжэбэ (отметим тут специально, что эти послы были даже не от каана, а от монгольских полководцев) в 1223 г. закономерно не повлекло подобных последствий. Более того, согласно той же Н1Л, монголы прислали повторное посольство, сообщившее
«а есте послушали Половьчь, а послы наша есте избили, а идете противу нас, тъ вы поидите; а мы васъ не заяли, да всемъ богъ» и на этот раз русские «отпустиша прочь послы ихъ» (Н1Л стр.62).
Здесь следует учесть, что и русские и монголы имели свои собственные представления как о дипломатическом статусе посла, так и о самой сути дипломатии. Монголы и до Чингисхана и позже были вовлечены в многовековую дипломатическую практику связей кочевников с главным гегемоном их ойкумены – Китаем. При этом у монголов не было различения в функциях посла, вестника (обе функции были проявлением «голоса хана») и шпиона. Характерным является сообщение сунского хрониста Ли Синь-чуаня от 1214 г. о таких «послах»:
«обнаружились 3 всадника, переплывшие реку Хуайхэ и направлявшиеся на юг. Пристав береговой пограничной службы уезда Лян Ши допросил их о причинах нарушения границы. Эти же трое, достав официальные бумаги из кожаного мешка и одну карту земель, нарисованную на шелке, сказали: “Направлены татарским государем Чингисом, чтобы проникнуть в вашу землю и спрашивать о войсках”» (Цзацзи стр. 848, это текст 1220-х годов).
Русская же дипломатическая практика конечно имела в основном европейские корни – византийские или западноевропейские (скандинавские). Кроме того, у нее существовало, как было ясно показано в истории с Итларевой чадью, четкое разграничение контрагентов на христиан и «поганых». Посольский обычай по отношению к последним зиждился на взаимных клятвах и обмене заложниками, а не на каком-либо посольском праве или «обыкновении». Поэтому по данным двум позициям можно утверждать следующее:
О неприкосновенности послов. И у монголов и у русских неприкосновенность послов не была самостоятельным императивом – отношение к послам было лишь производной от отношения к тому суверену, голосом которого являлись послы. И русские и монголы могли причинить вред послам и даже убить, а наказания за эти деяния не были автоматически предопределенными. Принятие решения о таком наказании монголами проводилось прагматично, на основе ясной оценки сил сторон и наличия возможностей у монголов по проведению карательной акции и ее уместности в данных конкретных условиях. У русских же были только определенные зачатки понимания неприкосновенности послов, но только по отношению к «братье христианской» т.е. только как производная от представления о греховности пролития «крови хрестьянской».
О понимании собственно дипломатии. У монголов это способ донести непреклонную волю каана до будущих подданных и осуществление формальных и ритуальных действий, закрепляющих сюзеренитет монгольского хана над ними. Это четко прописывалось в преамбулах дошедших до нас подлинных посланий каанов к европейским и прочим владетелям. См. например письмо каана Гуюка папе Иннокентию IV от ноября 1246 г.:
«Силою Вечного Неба (мы) Далай-хан всего великого народа; наш приказ. Это приказ, посланный великому папе, чтобы он его знал и помнил… Силою бога все земли, начиная от тех, где восходит солнце, и кончая теми, где заходит, пожалованы нам. Кроме приказа бога так никто не может ничего сделать. Ныне вы должны сказать чистосердечно «мы станем вашими подданными, мы отдадим вам все имущество». Ты сам во главе королей, все вместе без исключения, придите предложить нам службу и покорность. С этого времени мы будем считать вас покорившимися. И если вы не последуете приказу бога и воспротивитесь нашим приказам, то вы станете (нашими) врагами. Вот что Вам следует знать. А если вы поступите иначе, то разве мы знаем, что будет, одному богу это известно».
У русских же это – а). коммуникация суверенных князей, осуществляющаяся в рамках сложившейся феодальной иерархии («старший брат» – «младший брат», «отец» – «сын», «князь старейший» – «князь молодший» и т.д.); б). отдельно существовавшие способы выяснения отношений с «погаными» вообще и со степными соседями (печенеги, торки, половцы), в частности, которые в общем не подпадали в вышеприведенную систему отношений между христианскими владетелями. В итоге первое столкновение русских князей с монгольской «дипломатией» привело к закономерному взаимному непониманию и разрушению всех возможностей мирной коммуникации обеих сторон.

Иван III Великий выгоняет ордынских послов (с известной картины А. Кившенко)





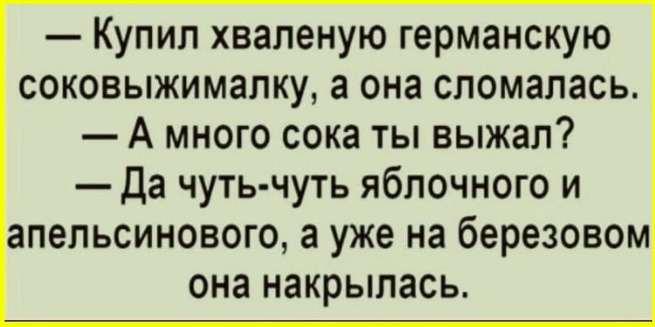



Оценили 10 человек
17 кармы