Тибетоязычный народ тангутов был прочно забыт на протяжении многих веков. Только на картах еще упоминались "Кукунор и Тангут". А также в источниках касательно начала державы Чингисхана упоминались тангуты и их государство Си Ся. Таково было положение дел в европейском востоковедении вплоть до последней четверти XIX в.
Все изменилось с русскими экспедициями в Центральную Азию — Н. М. Пржевальского и его соратников (Роборовского, Козлова и других). Они обследовали земли Синьцзяна и Монголии (вместе с Кукунором и Тангутом), а также окраин Тибета. Помимо военно-географико-статистических изысканий, они также находили затерянные в песках остатки неизвестных городов (часто — неизвестных народов). Именно Петру Кузьмичу Козлову (1863 - 1935), русскому военному географу, принадлежит честь впервые раскопать тангутский город Эдзина (Хара-Хото), где были найдены бесценные книги и рукописи на неизвестном языке, которые позднее были распознаны как тексты государства Си Ся.
Их стали называть тангутскими, что не совсем верно — "тангут" не является самоназванием этого народа, так их называли соседи, тюрки и монголы. Но так уж сложилось, что огромная библиотека, найденная в 1907-1908 гг. капитаном Русской императорской армии П.К. Козловым, в мировой востоковедной литературе стала называться "тангутскими текстами Хара-Хото". Появление огромного количества текстов на забытом языке, причем записанных неизвестной дотоле письменностью, произвело фурор в тогдашней науке, востоковедной и лингвистической. Попытки многих ученых по всему миру расшифровать эти язык и письменность продолжались почти 40 лет. Но удалось это только русскому советскому востоковеду Николаю Александровичу Невскому (1892 - 1937).
Впрочем, это уже отдельная интересная история. Важно то, что только в XX в. тангуты стали по настоящему известны миру — после почти 700 лет забвения. Причем вывели их из забвения русские исследователи. И занятно, что именно русские впервые сообщили о тангутах еще в XIII в. Об этих любопытных пересечениях русской и тангутской истории я написал статью, опубликованную в Пашутинских чтениях. Ее сокращенный и облегченный вариант размещаю тут.
Русско-тангутские пересечения XIII в. (на синхронном материале монголо-китайской канцелярии и русских летописей)
В Ипатьевской летописи в записи о «татарском первом нахождении» (т.е. рассказе о сражении на Калке и событиях ему предшествующих и последовавших вскоре после него, т.е. в 1223–1224 гг.), в ее резюме, приводится и первое на Руси упоминание о тангутах и их стране (в Ипатьевской летописи):
«Ожидая Богъ покаяния крестьянскаго, и обрати и (т.е. их, монголов – Р.Х.) воспять на землю восточноую и воеваша землю Таногоустьскоу и на ины страны. Тогда же и Чаногизъ кано ихъ Таногоуты убьенъ бысть. Их же прельстивше и последи же льстию погоубиша, иные же страны ратми, наипаче лестью погоубиша» (ИЛ стб. 745).
Как известно, протограф ИЛ (в части ее Галицко-волынской летописи) не имел хронологической сетки с датами (она была произвольно проставлена в Ипатьевском ее списке), а потому дата этой записи определяется через terminus post quem, а именно – по известной дате смерти «кано» Чингисхана (25.08.1227 г.). Наиболее вероятно, что автор этих записей в ИЛ был при дворе галицко-волынского князя Даниила Романовича и сопровождал его в поездках в Орду, где и мог получить процитированные сведения о Тангуте, подробностях войны с тангутами Чингисхана и о смерти последнего в Тангуте. Что и дает для них дополнительные временные ориентиры – 1240-е – 1250-е гг. Кроме того, использование этнонима «тангут» говорит, что информаторами по указанным темам были монголы или тюрки – ведь самоназвание этого народа было ми или мияг, а тангутами их звали соседи-тюрки и потом монголы.
Это сообщение галицко-волынского летописца передает синхронную событиям монгольскую версию смерти Чингисхана в ходе его тангутского похода (1225 – 1227 гг.) и является свидетельством знакомства летописца (или его русского информатора – приближенного к Даниилу Галицкому) с монгольскими источниками высокого ранга. На это указывает не только точность в деталях событий войны с тангутами и обстоятельств смерти Чингисхана в ее ходе, но и интересное замечание, что монголы «прельстивше и последи же льстию погоубиша» тангутов. Дело в том, что данный вывод вполне совпадает с тем рассказом монгольского «Сокровенного сказания» (1240 г.), где приводится завет-завещание Чингисхана (перед его смертью) касательно судьбы остатков тангутского государства и предательского уничтожения его последнего владетеля (см. Козин, С. 191). Название «Сокровенного сказания», несмотря на его условность, тем не менее указывает на главные его цели – служить для монгольских каанов и других чингизидов книгой наставлений и секретным собранием сведений о событиях и делах, которые не должны быть широко известны (о системе сохранения текстов «Сокровенного сказания», «Алтан дэбтэр» и прочих документов монголов в так называемых «золотых сундуках» и в тайных хранилищах см. Храпачевский 2021). Для сравнения – Рубрук, побывавший и в Сарае у Батыя и в Каракоруме у Мэнгу-каана в 1253–1254 гг., не знает версии «Сокровенного сказания», а передает совершенно фантастическую историю, а точнее легенду о Чингисхане и его «пленении тангутами» (см. Рубрук, С. 130). Т.е. он, будучи довольно неплохо осведомленным по разным вопросам монгольской политики, не был все же допущен к сведениям о тангутской войне Чингисхана – в отличие от людей Даниила Галицкого.
С другой стороны, и тангуты в это же самое время познакомились с Русью. Наиболее полным свидетельством этого является юаньская эпитафия знатного тангута (он принадлежал правящей фамилии государства тангутов Си Ся), который был на службе у монгольских каанов и участвовал в походе на Русь. Его тангутское имя-титул – Шири-гамбу (жил в 1191 – 18.08.1259 г.), а пожалованное китайское имя – Ли Чжэнь-сянь (фамилия Ли была пожалована китайскими императорами династии Тан членам правящей династии Си Ся). Эпитафия эта была написана в 1308 г. юаньским историографом Яо Суем (1238 – 1313) на основании документов середины XIII в., сохраненных в архиве монголо-китайской канцелярии Мэнгу-каана. Сведения этой эпитафии стали основой жизнеописания Шири-гамбу в «Юань ши» (см. ЮШ, С. 3011), но там использовались также и дополнительные сведения других юаньских первоисточников.
Согласно сообщениям данной эпитафии, Шири-гамбу имел под своим началом зависимых людей (которые скорее всего были тангутами), составлявших его личный отряд воинов (Яо Суй, С. 648-649). Вместе с ними он участвовал в штурме Рязани, а также отличился в других боях с русскими, поэтому за заслуги в этом походе, Батый приказал их подробно записать и специально сохранить в письменном отчете о походе (Там же). Позднее Мэнгу-каан (1208 – 1259) приказал сделать копию послужного списка Шири-гамбу, что и позволило Яо Сую сохранить его содержание в составе текста эпитафии. При всем этом, Шири-гамбу не стремился к военной карьере, так как его жизнеописание в «Юань ши» сообщает, что он, как только получил военное звание тысячника по результатам похода в Европу и на Русь, то сам попросился в отставку и пожелал получить гражданскую должность, став судьей (ЮШ, С. 3012). В указанных источниках подчеркивается конфуцианская ученость Шири-гамбу, а значит можно предположить, что он писал свою «частную историю», а по сути мемуар о своих путешествиях и службе в разных частях империи, как это было принято у чиновников-конфуцианцев высокого ранга. Возможно в них были и его воспоминания о Руси и Европе.

Тангутский воин (деталь фрески)
Приведенные русско-тангутские пересечения XIII в. оказались возможными вследствие создания и расширения Монгольской империи. Таким образом, именно монголы и их подъем в XIII в. были основным объединяющим фактором для их появления. И Тангут и Русь одинаково стали объектами монгольского завоевания, только первый раньше, а вторая – десятилетием позже. А вот дальнейшие их судьбы оказались весьма различными: в русских землях были сохранены местные династии правителей, а сами они оказались периферийными вассальным княжествами Монгольской империи (фактически независимыми в своей внутренней политике), в то время как Тангут вошел непосредственно в ядро имперских земель (значительная часть его территории стала уделами для чингизидов), его правящая династия была уничтожена физически, а оставшаяся в живых тангутская элита была абсорбирована в имперский чиновный аппарат на территориях Монголии и Китая (где и оказалась в итоге ассимилированной).
Но этим не исчерпывается монгольский, объединяющий, фактор для русско-тангутских пересечений – есть еще один любопытный его аспект. Речь идет о монгольском обычае имянаречения, когда сыновьям давались имена побежденных врагов. У чингизидов он трансформировался в традицию использования названий завоеванных стран и народов для имен сыновей ханов. Так, уже у Джучи, старшего сына Чингисхана, имя Тангут получил его шестой сын (РД, С. 75). А имена, означавшие «Русь» – или по-монгольски («Орос») или в тюркской огласовке («Урус») – оказались и еще более популярными: так, например, «Урусами» были правнуки каана Угэдэя и Джучи (см. РД, С. 13-14 и 76, соответственно), а имя «Орос» носил праправнук Тэмугэ-отчигина (ЮШ, С. 2713).






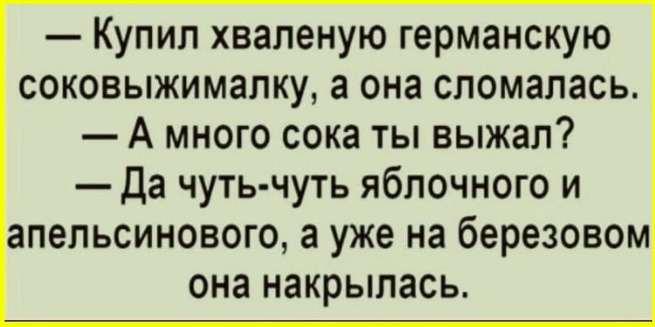





Оценили 12 человек
20 кармы