
Весь мир вокруг ненастоящий. Деревья, реки, города – все это мираж, бутафория.
Вы что, не знали? И я ненастоящая. Я вовсе не девочка, а разведчик 353-й стрелковой дивизии, старший лейтенант П. Мне двадцать пять лет и я смертельно ранен.
Я лежу в сыром овраге с запрокинутой головой, надо мной раскинулось синее небо. Оно такое синее, что больно глазам. Я не вижу ничего кроме этой ослепительной сини, только слышу, как где-то рядом стрекочет кузнечик в траве да шелестит на ветру шиповниковый куст. Скатившись в овраг, я разорвал об него гимнастерку и до крови поцарапал ладонь. Но это ничто по сравнению с болью в ноге.
Галифе мое намокло от крови, мне страшно, хочется пить, клонит в сон. Похоже, я умираю. И чтобы мне не было так одиноко, они придумали весь этот мир.
Я закрываю глаза и вижу себя маленькой девочкой.
Мы с мамой едем в город на Неве Ленинград.
За обедом в детском саду воспитательница говорила нам, детям:
– Ленинград – это город-герой, и люди, выжившие девятьсот дней без хлеба – герои! А вы маленькие никчемные свиньи, вы им в подметки не годитесь. Особенно ты, Михайлова, – воспитательница останавливала на мне злобный взгляд. – Ты опять разлила молоко! В Ленинграде бы тебя за это расстреляли…
***
И вот мы с мамой едем в Ленинград на поезде.
Я всю дорогу реву: за что? Ну за что? Мне нельзя туда. В шесть лет не очень-то хочется умереть лишь за то, что терпеть не можешь пенки в молоке.
В черном от сажи тамбуре пахнет гарью и табаком, в лучах заходящего солнца струятся пылинки. Колеса стучат чу-чух-чух-чух – ду-дух-дух-дух, а за окном мелькают телеграфные столбы, березовые рощи и умытые дождем деревеньки.
Мелькайте, мелькайте, это все не взаправду. Я погибаю, а вы зачем-то нарядили меня в девичье платьице, усадили в плацкартный вагон и качаете его взад-вперед.
Сколько времени у вас ушло на то, чтобы настрогать игрушечные избушки, расставить вдоль дорог картонные деревца и пустить гулять по улочкам актрис, переодетых в крестьянок. Эй, кто ты там, а ну покажись! Хватит изображать летний ливень – окатывать из шланга бутафорских коров, я же знаю, что внутри них засели статисты. Они крутят рогами, отгоняют веревочным хвостом мух и, понизив голос, делают: «му-у».
Думаете, я вам поверю?
***
Я устал, хочу спать, я потерял много крови. Но когда я проснусь, они подстроят все так, что я вновь стану глупой девчонкой. Они не могут меня спасти, но и смерти моей не хотят. Им кажется, жить в придуманном мире гуманней, чем медленно и мучительно угасать. Но ведь я все равно умру, какая разница, сейчас или через пятьдесят лет.
Спи, спи, – шелестит на ветру куст шиповника. Не-ду-май ни-о-чем, – щебечет лесная птаха, и я послушно закрываю глаза.
***
Мы уже в Ленинграде.
Остановились в общежитии у маминой сестры и ее мужа, моряка дяди Саши. Но я-то знаю, дядя Саша никакой не моряк, иначе, где его морская форма и бескозырка? Где боевые медали и ордена? Почему он сидит дома и пьет коньяк, вместо того, чтобы бороздить моря-океаны. Нет, он только прикидывается моряком. Его подослали, чтобы покончить со мной. И как это я сразу не догадался.
Они нарочно запихнули меня в девчоночье тело и привезли в город, где не церемонятся с маленькими детьми. Разлил кисель? Не доел за обедом суп? Приставят к стеночке и баста.
Интересно, где дядя Саша прячет свой пистолет – в заднем кармане, а может, за поясом?
***
Я подбегаю к окну. Внизу на улице змеится длинная очередь. Ее всасывает в себя тяжелая дубовая дверь, хвост змеи исчезает за углом в переулке.
– Хочешь мороженое? – спрашивает меня моряк.
Ну вот, началось…
Он уверяет, что это очередь за эскимо. Так я ему и поверил!
– Ты пробовала когда-нибудь эскимо? – не унимается дядя. – На палочке. Шоколадное.
Нет, я не пробовал эскимо.
– За мороженым таких очередей не бывает! Это очередь к дедушке Ленину, в мавзолей.
Дядя Саша, кажется, удивлен:
– Ты путаешь, малыш. Ленин в Москве, а мы с тобой сейчас в Ленинграде.
Он что, ничего не знает? Или только делает вид?
– В том-то и дело, – горячо шепчу я, – Ленина в Москве нет. Он был там когда-то, когда еще был живой, но потом его перевезли и спрятали в магазине под вывеской «Соки-воды». Стали бы иначе город называть в честь вождя!
Дядя Саша хватается за живот и сгибается от приступа смеха.
Все ясно, он мне не верит.
***
Целый день я ничего не ем. На все мамины просьбы съесть бутерброд, ну или хотя бы откусить яблочко, мотаю головой:
– Спасибо, не хочется.
Не могут ведь они пристрелить меня просто так, ни за что.
На третий день такой голодовки я уже едва держусь на ногах, и родственники силой тащат меня в столовую. Я сажусь за стол и вижу, что он весь в хлебных крошках. Мимо меня уборщицы несут тарелки с рисовой кашей и вываливают объедки в мусорный бак.
Значит, дядя Саша меня не убьет? Ну конечно! Никто не желает мне зла, они просто морочат мне голову. Ведь стоит мне умереть и показывать придуманный мир станет некому, пропадут декорации, маски, грим… Без девочки Наташи все это потеряет смысл.
***
Эй, долго мне еще тут валяться, глядеть ваше глупое кино про себя?
Это же не я, слышите вы меня или нет? Как я могу быть шестилетней девчонкой, приехавшей в Ленинград, когда я солдат Красной армии, погибающий в грязном овраге. За рекой гремят пушки, рвутся снаряды, строчит пулемет. Это война, здесь все не может быть понарошку.
Слушайте, а может, это только сон? Тогда почему мне так больно, откуда столько крови? И кто эти люди, бегущие по склону оврага ко мне. У них автоматы, они машут руками и что-то кричат, но я не понимаю из их каркающего грубого языка ни слова.
***
– Наташа, что ты там делаешь?
– Играю, мамочка. Смотри, я красноармеец, меня ранили немцы, и теперь я лежу вниз головой и вижу все вверх тормашками. Ты хочешь меня спасти?
– Не выдумывай, быстро вылазь из шкафа!
– Но мам…
– Я кому сказала!

***
Я в немецком плену. Завтра утром меня поведут на казнь, все будет кончено.
А девочка – как же она? Хотя зачем я об этом спрашиваю, никакой девочки нет. Она лишь плод моей воспаленной фантазии. А, может, даже не моей. Тогда чьей?
***
– Наташа, хватит реветь! Всю подушку уже промочила. Я же говорила, не надо было ей смотреть этот фильм, да еще на ночь глядя. Она чересчур впечатлительна.
– Мамочка, они убили его…
– Кого, дочка?
– Красноармейца Аркадия. Он был сильным и смелым, а фашисты его повесили-и-и.
– Глупенькая, это же кино. Там все неправда. Твой красноармеец обыкновенный актер.
– Не актер! Не актер! Он настоящий, я знаю!
– Миш, подай градусник. Похоже, она простудилась. Вон какой лоб горячий…
***
Вчера ночью они говорили со мной. Я их не видел, они стояли за моей спиной, но я слышал их голос. Они сказали, что ничем не могут мне помочь, из нас двоих кто-то должен уйти. Из нас? – переспросил я. Да, сказали они – либо ты, либо девочка.
***
– Боженька, миленький, сделай же так, чтобы красный командир выжил. Он хороший, пусть наши солдаты его спасут. Я тебя очень прошу, ну пожалуйста…
– Что она там бормочет?
– Бредит, наверное. Жар.
Я проваливаюсь в глубокий, пылающий огнем колодец. Лечу вниз и слышу голос доктора. Он говорит кому-то: сердце не выдержит, с такой температурой не выживают. Чье сердце? – хочу крикнуть я, но не могу, горло обожжено пламенем.
***
– Если ты умрешь, с ней все будет в порядке, – говорят они. – Останешься в живых, она погибнет.
– Она не может умереть, – возражаю я. – Ее не существует. В этом мире есть только я.
– Ты так думаешь? – отвечают они. – Хочешь правду? Тебя тоже не существует. Чтобы один из вас стал живым, другой должен исчезнуть, уйти навсегда.
– А она знает об этом? Вы ее спрашивали? Ведь если все, что вы говорите, правда, она тоже должна знать обо мне.
– Да, она о тебе знает, – кивают они. – И она уже свой выбор сделала.
– Какой? – затаив дыхание, спрашиваю я. – Что она выбрала?
– Она согласна уйти.
– Вот как? А я не согласен! Она несмышленыш, как она может решать? Забирайте меня. В конце концов, я так долго ждал смерти…
– Мы не можем забрать вас двоих, – говорят они. – Но и оставлять вас вместе опасно.
– Почему? Разве мы с ней не одно и то же?
– Конечно, нет! Вы как день и ночь в одних сутках. Если все оставить как есть, вы оба так и будете жить во сне. Ты станешь засыпать, она просыпаться, и снова засыпать и видеть сны о тебе. А пока она спит, ты будешь тенью блуждать в ее сновидениях. Это не жизнь.
– Но разве с другими людьми не происходит то же самое?
– Происходит. Сплошь и рядом.
– Тогда в чем опасность?
– Опасность в том, что если один из вас обо всем догадается и пробудится по-настоящему, другой сойдет с ума или покончит с собой.
– И что же нам делать – ждать? Хотя постойте, если девочка жива, значит, я уже мертв?
– Это ничего не значит, – отвечают они.
– Скажите, какой сейчас год, – требую я.
– Неважно. Времени как такового не существует.
Я ослаб. У меня больше нет сил. Я закрываю глаза.
***
– Мама! – девочка спрыгивает с кровати. Слабые после болезни коленки дрожат, но девочка не обращает на это внимания, бежит вприпрыжку на кухню.
На кухне горит яркий свет, аппетитно пахнет уксусом и репчатым луком. Родители о чем-то тихо шепчутся за столом.
– Мама, папа, я есть хочу!
– Вот как? – удивлены они. – А как ты себя чувствуешь, зайка? Горлышко не болит?
– Ни капельки!
– У тебя была ангина, сильный жар, ты три дня звала какого-то красного командира. Это, наверное, из-за того фильма, помнишь?
– Я не знаю никакого красного командира. Я хочу пельмени!
***
– Очнулся? Живой? Ну, слава Богу! Тихо-тихо, это свои, свои. Эк, тебя, брат, угораздило. Ну ничего, ничего, потерпи, сейчас я тебя перебинтую. Пить хочешь? Тебя как звать-то?
– Аркаша.
– Ну вот, другое дело, а то заладил: Наташа, Наташа. Жену что ль так зовут али сестренку?
– Не знаю. Не помню.
– Ну и Бог с ним. Лежи, отдыхай. Натерпелся. Можно сказать с того света вернулся. Фашисты, сволочи, тебя почти повесили. Помнишь?
– Нет…
– Ну ничего-ничего, может, оно и к лучшему. Ты лежи, вот так. Удобно тебе? Сейчас наши подойдут, отправим тебя в госпиталь. Все будет хорошо. Мы, Аркаша, с тобой еще повоюем, верно я говорю? То-то же. Ну спи-спи. Отдыхай. Спи.









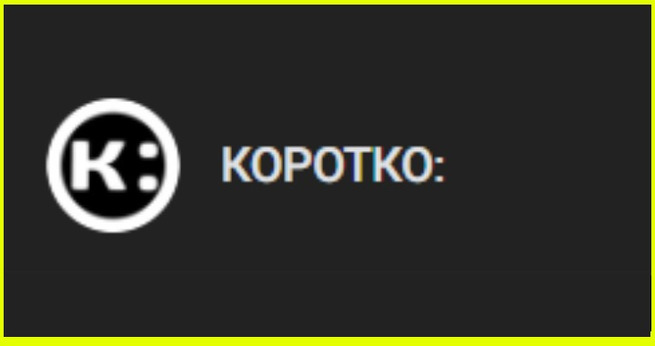




Оценили 26 человек
48 кармы