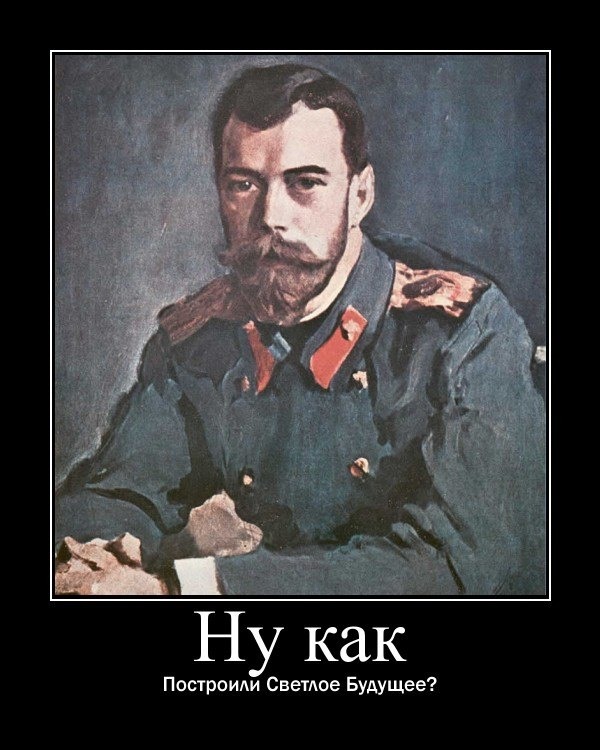
Идеология и реальность
Ныне в части российского общественного сознания сохраняется идея некой «правильности», или хотя бы «оправданности» советской плановой экономической модели. Ведь теоретически, если все производства управляются из одного центра, то это, по-видимому, должно бы снимать противоречия между ними, делать экономику предсказуемой и гарантированной от кризисов.
И тут опять мы имеем дело с очередной иллюзией. Ничто не способно заменить экономическую инициативу снизу. Если людей целенаправленно лишать стимулов к работе на благо себя и своей семьи, постоянно бить их по рукам и требовать безоговорочной и самоотверженной преданности системе, то руки вскоре неизбежно опустятся. Как выглядела работа спустя рукава при развитом социализме мы прекрасно помним. Да, кризисов в этом случае не будет. Всё будет предсказуемо. Всё рухнет в одночасье.
Если мы представим себе экономику страны в виде большого корабля, то рыночную экономику можно уподобить кораблю со множеством водонепроницаемых переборок, и если такой корабль получает пробоину в виде кризиса перепроизводства, обвала фондовых рынков или иных катаклизмов, то в нём, как правило, затопляется всего несколько отсеков, то есть разоряется только часть кампаний, фирм и предприятий, однако сам корабль остаётся на плову. Плановая же экономика подобна кораблю без переборок, состоящему всего из одного отсека, который называется «государственный бюджет», и если такой корабль получает пробоину, то есть если бюджет уходит в минус, то результат может быть только один – судьба Советского Союза. В этом случае неизбежно происходит полное «затопление», цепная реакция, все экономические цепочки разом складываются, как составленное в ряд костяшки домино, когда, без достаточного финансирования из госбюджета одни предприятия не могут поставить комплектующие для работы других предприятий, а те, в свою очередь, не могут обеспечить работу следующих. И тогда – спасайся, кто может. Люди, которых Советская власть лишила возможности создать себе экономическую «подушку безопасности» в виде земли, недвижимости и активов, становятся крайне уязвимыми, и, оставшись без средств к существованию, вынуждены выживать сдачей металлолома и челночным бизнесом. Для народа тогда надежда на спасение от массовой безработицы и голода может быть только в личной экономической инициативе. А для спасения остатков производства единственным возможным выходом остаётся только масштабная приватизация. А поскольку состоятельных покупателей нет – откуда бы им при социализме было взяться? – то бесценные государственные активы распродаются либо иностранцам, либо своим гражданам, но за символическую плату, либо… банально разворовываются.
Правда есть ещё две возможности. Плавно перейти на рыночную экономику, сохраняя при этом государственные инструменты регулирования в некоторых важнейших отраслях, как это сделал Китай, или же и дальше упрямо продолжать строительство коммунизма, затянуть гайки и превратить свою страну в один большой концлагерь, как это случилось в Северной Корее. Последний вариант особенно импонирует большинству российских энтузиастов красного проекта.
Но вот Сталина не стало. Что же произошло дальше? А то, что коммунистическая идея после него со временем выдохлась. Она и не могла быть вечной, ведь людям свойственно уставать и эмоционально выгорать. А ведь была ещё Великая Отечественная война и послевоенное восстановление, которые тоже потребовали от народа колоссального напряжения сил! Страна устала. Того пряника и двух кнутов, которыми располагал Сталин, уже почти не было у Хрущёва и совершенно не было у Брежнева. Имя Никиты Хрущёва ныне неразрывно ассоциируется с понятием «оттепель». Только с ослаблением железной хватки репрессивной машины и с некоторым поворотом руководства страны к нуждам народа наши люди вздохнули с облегчением. В эти годы у населения появился доступ к некоторым социальным благам – начали выплачиваться пенсии, появились оплачиваемые отпуска, колхозники стали получать паспорта, началось массовое переселение семей из бараков в пресловутые «хрущёвки». Страх перед государством стал уступать место надежде на лучшую жизнь. Но именно эти послабления и стали причиной сначала замедления темпов экономического роста, а затем и вовсе спада экономики. Социализм может быть продуктивным только в условиях чрезвычайщины и всенародной мобилизации сил, иначе люди из стальных строителей коммунизма очень быстро превращаются в обычных людей, со своей личной жизнью и бытовыми заботами, и тогда бурный рост перестаёт быть бурным. Чтобы скрыть эту закономерность, сталинисты изощряются в изобретении всевозможных иных объяснений ухудшения экономических показателей. Придумываются хитрые теории о каком-то «госкапитализме», о «троцкизме» Хрущёва, в общем, всё сводится к тому, что Хрущёв-де рассадил квартет неправильно, поэтому у него музыки не получилось, а Сталин-то рассаживал правильно, поэтому при нём всё ух как росло! Но, для не искушённого в сложных науках обывателя всё и без этих объяснений стало понятно, но по другой причине: у Сталина усы красивые и китель белый, а Хрущёв – лысый и несимпатичный, значит, понятное дело, во всех бедах виноват плешивый кукурузник! Поэтому Победа в Великой Отечественной – это заслуга лично товарища Сталина, а полёт Гагарина в космос – это заслуга всего советского народа. Но это теперь, а тогда, в начале 1960-х, хрущёвская оттепель вызвала волну энтузиазма и веры в обновление, веры в то, что социализм может быть с «человеческим лицом». Впрочем, ненадолго. Наступил застой.
Что же приводило в движение советскую экономику в поздний период её истории? Только зарплата в 140 рублей. Но этого было явно недостаточно, экономика хирела, и занявший в 1985 году пост генсека Михаил Горбачёв принялся разъезжать по стране с вдохновляющими речами о необходимости добросовестного труда на благо Родины. Он выступал с ними в трудовых коллективах на заводах, в колхозах, на фермах и в городских скверах. Мужики его внимательно слушали, кивали, соглашались с тем, что нужно засучить рукава и работать, работать… а когда он уезжал, расходились по своим дворикам дальше «забивать козла» в домино и пить пиво. Идея была мертва, и оживить её было уже невозможно, ибо не вливают вино молодое в мехи старые. Энтузиазма она уже не внушала. Капитализма уже никто не боялся. Репрессивная машина обеззубела. И потому начались необратимые процессы.
К концу 1980-х годов, когда провальность советского коммунистического проекта стала всем очевидна, взоры части партийных функционеров от КПСС и большинства комсомольских вожаков обратились в сторону западных демократических моделей. Они стали горячими поклонниками европейской социал-демократии, воплощённой в «шведской модели» и в либеральных политических системах Запада. Переход к рынку в России был болезненным, сопряжённым с тяжелейшими потерями, но, в целом, успешным. Однако в России за годы Советской власти сформировался и разросся класс мелкой (вернее, мельчайшей) паразитарной буржуазии, способный существовать только за счёт паразитирования на государственном бюджете, в каких бы формах это ни выражалось, и, увы, именно этот класс, в силу своей многочисленности и социальной активности стал способен формировать общественную повестку и определять умонастроения в обществе. Все девяностые и нулевые годы этот класс надеялся на то, что рынок наполнит госбюджет и позволит ему существовать за счёт щедрых социальных программ и дальше, но ещё богаче, чем в «совке», нужно только подождать, когда у нас всё станет так же, как «у них». Не дождались. Социализм, как бы он ни назывался и какие бы виды не принимал, долго не живёт нигде. Посыпался он и на Западе. И тогда в России поднял голову необольшевизм. Паразитарии решили, что если у нас не может быть всё так же прекрасно и бесплатно как в Швеции, то тогда пусть всё будет так же прекрасно и бесплатно, как в СССР! Ну а если в СССР всё и не было так прекрасно, как бы нам того хотелось – ну так на что нам фантазия!? И разлился по всей Руси великой ностальгический вой на тему «ах, какую страну мы потеряли!» На волне мечтаний о бесплатных образовании, медицине, квартирах и путёвках была создана настоящая религия, буквально обожествившая потерянный советский рай и самого успешного из советских вождей – Сталина. У этой религии есть своя «святая» троица – Маркс, Ленин, Сталин, – три божества, которые, как и любые божества, всегда вне критики. Их критика, даже самая мягкая, есть богохульство. Есть своя эсхатология – учение о неизбежной победе социализма над силами тьмы, есть свои многотомные священные писания, свои идолы по всей стране и главная святыня в виде мавзолея, есть свои демоны, и – обязательно! свои Иуды. Символ веры состоит из четырёх основополагающих догматов:
А.) Божественно непогрешимый Маркс гениально предсказал социализм;
Б.) Божественно мудрый Сталин гениально воплотил его в жизнь;
В.) Подлый предатель Горбачёв развалил социализм;
Г.) Социализм обязательно будет восстановлен и станет вечным.
Ересью и предательством считаются разговоры о репрессиях, застое, нищете и дефиците в СССР, а также любые предположения о том, что Советский Союз распался в силу объективных и логичных причин, а не в результате подлого предательства.
***
Автор: oragda
Дата оригинала: 15 января 2023 г.
Источник оригинала: https://oragda.livejournal.com...





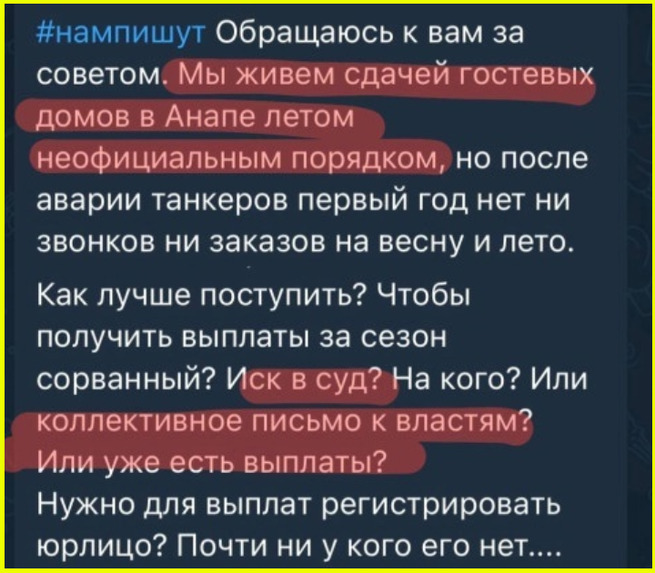







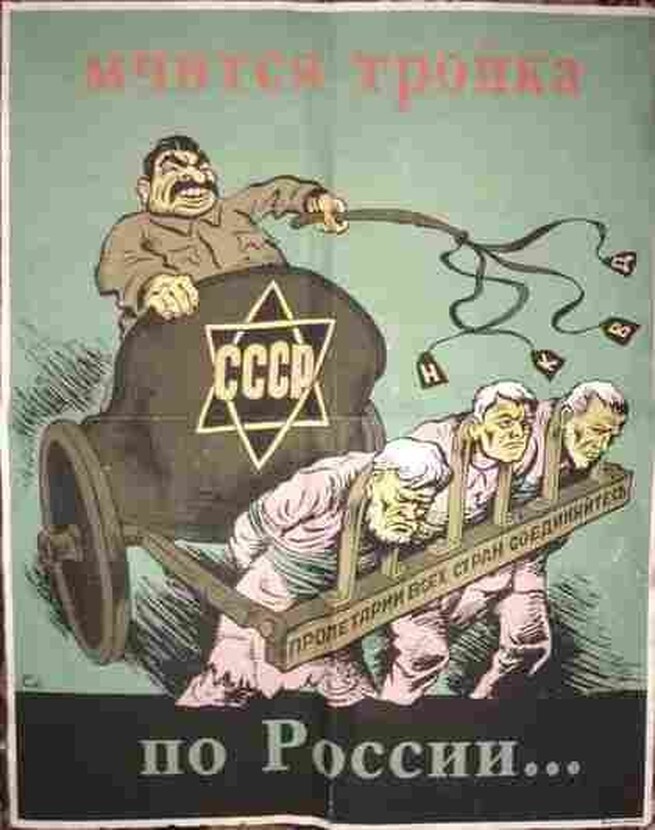

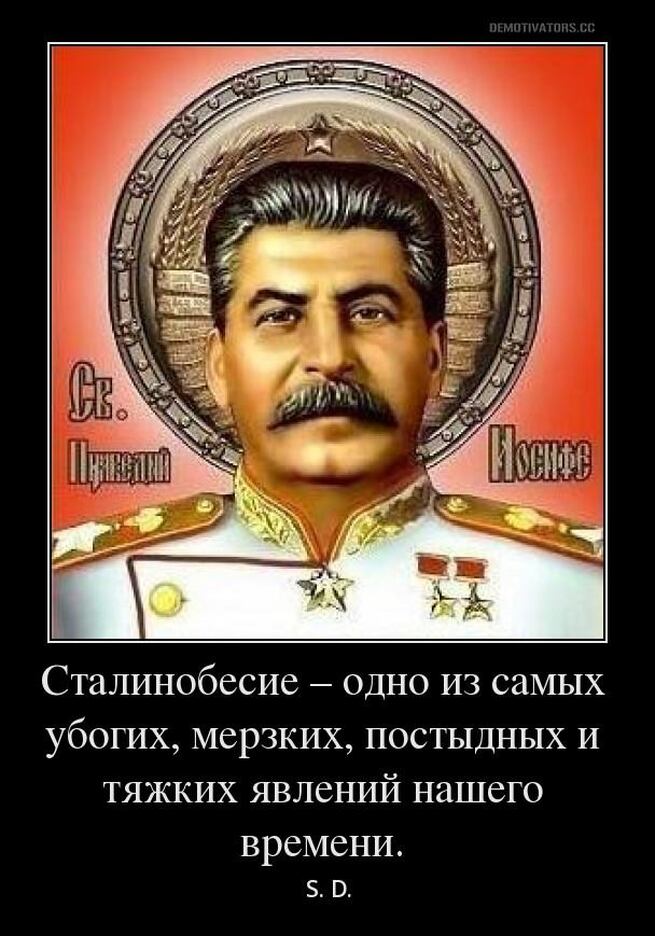

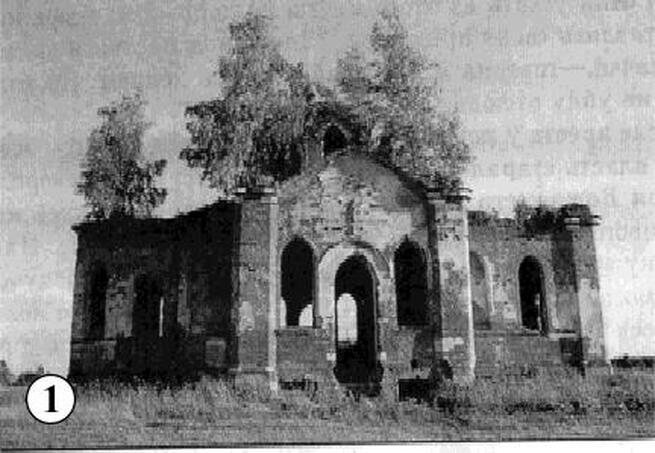

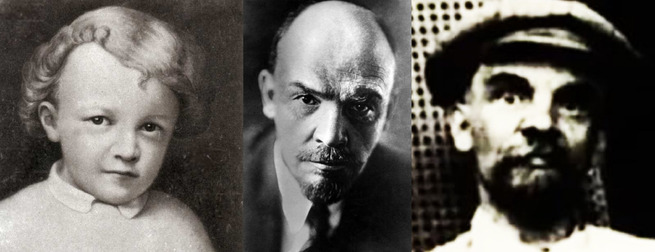

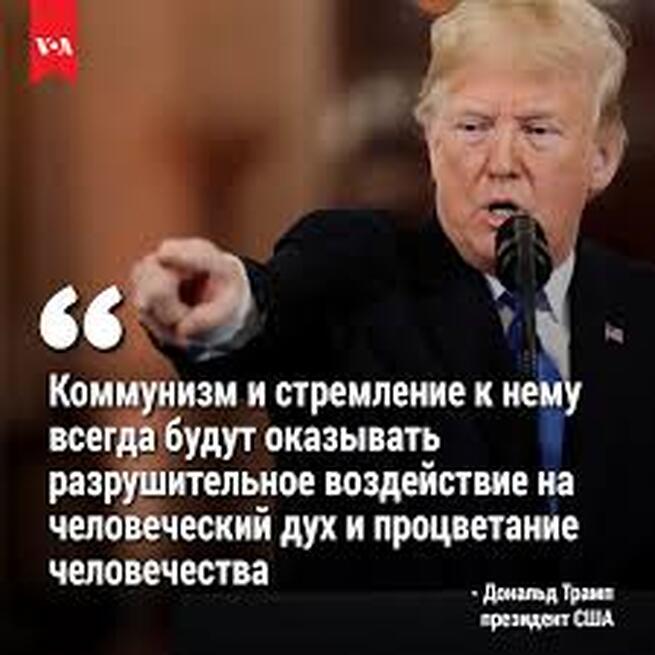





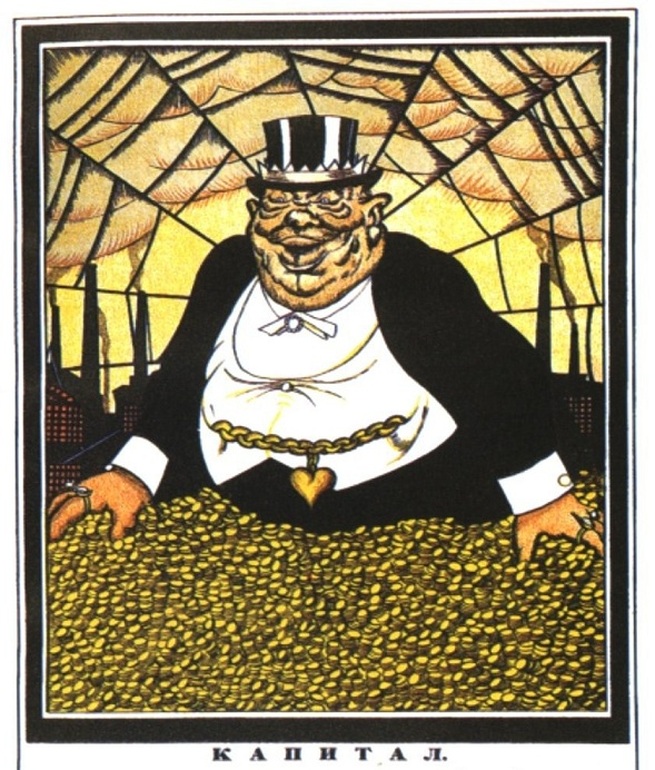
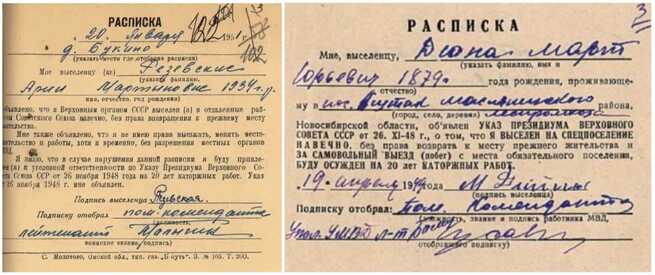

Оценили 0 человек
0 кармы