
Для тех, кто знаком с моей работой, неудивительно, что я с большим интересом освещаю забытые голоса тех, кто в годы становления микробной «теории» и вирусологии был критически настроен и наблюдал за развитием этих псевдонаучных дисциплин.
Эти люди были в первых рядах истории и своими глазами видели ненаучные, противоречивые основы, сформировавшие наши современные представления о здоровье, болезнях и благополучии. Они распознали манипуляции со стороны корыстных интересов и предостерегали от искусственного принятия микробной «теории» испуганной, неинформированной публикой. И они высказались, пытаясь предотвратить то, что они предвидели как серьёзную катастрофу.

Одним из первых таких голосов был великий французский химик Антуан Бешан (Бешам), соперник Пастера и сторонник теории конкурирующих территорий. (Фамилия переводится на русский как Бешан или Бешам с одинаковой частотой. Прим.ред.) Он проницательно распознал, как общественность была введена в заблуждение, в предисловии к своей публикации 1867 года «Теория микрозимов» (перевод из книги "Бешан или Пастер: утраченная глава в истории биологии"):
«Широкую публику, как бы умны они ни были, поражает лишь то, что не требует особого труда для понимания. Им внушали, что внутренняя часть тела более или менее похожа на содержимое сосуда, наполненного вином, и что эта внутренняя часть не подвержена повреждениям – что мы не заболеваем, за исключением тех случаев, когда микробы, изначально созданные болезнетворными, проникают в тело извне и затем становятся микробами.
Публика не знает, правда ли это; они даже не знают, что такое микроб, но принимают это на слово; они верят этому, потому что это просто и легко понять; они верят и повторяют, что микроб делает нас больными, не вдаваясь в дальнейшие исследования, потому что у них нет ни досуга, ни, возможно, способности исследовать до глубины того, во что их просят верить».
За десятилетия до того, как микробная «теория» стала общепринятой, американский врач доктор Эдвард П. Хёрд выразил обеспокоенность по поводу её ошибочной логики. В своей статье 1874 года « О микробной теории болезней» Хёрд усомнился в том, являются ли микробы действительно причиной болезни, а не просто её побочными продуктами. Он, в частности, критиковал заблуждение утверждения следствия — ошибочное убеждение, что если причина A (микроб) всегда обнаруживается со следствием B (болезнью), то A должно было вызвать B. Хёрд указал, что простая демонстрация того, что микроб всегда присутствует вместе с болезнью, не доказывает причинно-следственную связь. Чтобы установить достоверную причинно-следственную связь, нужно ввести микроб в здоровую среду и наблюдать, последует ли болезнь — то, чего не смогли сделать теоретики микробов:
«Нет никаких доказательств того, что всё, что было обнаружено до сих пор, не является сопутствующими или следственными факторами, а не причинами патологических состояний, с которыми они связаны.»

Другим ярым критиком был Лайонел С. Бил (Lionel S. Beale), пионер микроскопа для медицины, который в 1878 году предупреждал, как спекулятивные утверждения — например, о микробах, вызывающих болезни, — могут быстро набирать популярность благодаря повторению и институциональной поддержке. Несколько «авторитетов» утверждают, другие повторяют, официальные лица поддерживают, и внезапно мир начинает верить в то, что никогда не было доказано:
«Любопытно наблюдать, как легко в наши дни несостоятельная доктрина может быть навязана общественности и преподаваться повсюду, как будто это действительно доказанная истина. Некоторые авторитеты, возможно, в Германии наглядно изображают то, что им угодно называть результатами наблюдений, и, выстроив перед читателем некоторые факты и аргументы, отмечают, что доказательства совершенно неопровержимы в пользу, скажем, точки зрения, что некоторые инфекционные заболевания вызываются микрозимами. Вскоре следуют статьи с «новыми наблюдениями», подтверждающие первоначальное утверждение во всех подробностях. Ученики, друзья, поклонники принимают и распространяют новую доктрину. Рефераты и мемуары множатся, а выводы, сделанные за границей, поддерживаются и публикуются здесь, под покровительством правительственного чиновника, и публикуются в синей книге. Те, кто не знаком с искусством и тайной превращения произвольных утверждений в научные выводы, легко убеждаются, что весь научный мир единодушен, по крайней мере, по этому одному вопросу, в то время как на самом деле спекулятивные и надуманные аргументы не выдержали бы тщательного анализа. и интеллектуальное исследование».

Известный британский хирург доктор Лоусон Тейт, считавшийся величайшим абдоминальным хирургом своего времени, открыто отрицал страх перед микробами, однажды заявив, что предпочёл бы массу микробов влажной губке во время операции. В статье 1887 года «Обращение к развитию хирургии и микробной теории» он заявил:
«Позвольте мне только сказать, что лучшим доказательством ошибочности их утверждений является тот факт, что каждая попытка возвести микробные факты гниения в микробную теорию болезней с треском провалилась, и нигде она не потерпела столь очевидного провала, как тогда, когда ее вторгали в сферу лечения болезней».
В статье 1894 года «Критика микробной теории болезней», основанной на методе Бэкона , доктор Тейт писал, что микробная «теория» не была ни теорией, ни даже гипотезой. Это был просто набор фактов — некоторые из них были верны, многие — ложны — без какого-либо последовательного объяснения. Никакой рабочей гипотезы. Никакой настоящей теории. Это была просто догма:
«Микробная теория болезней — это вообще не теория . Это даже не гипотеза. Это просто набор фактов, некоторые из которых верно изложены, но перемешаны с гораздо большей их частью, изложенной неверно (точнее, неверно), на основе которой до сих пор не предложено даже рабочей гипотезы, не говоря уже о построении теории».

В 1913 году доктор Герберт Сноу — хирург, медицинский писатель и исследователь рака — опубликовал статью «Микробная теория болезней» (которую я перепечатал здесь с дополнительными комментариями ), в которой он разоблачил отсутствие научных доказательств того, что любой микроб вызывает болезнь. Его вступительные слова были язвительными:
«Микробная теория болезней, столь заметная в медицинской литературе и практике, началась с попыток химика Пастера применить к человеческим болезням, которые он, не будучи врачом, знал лишь академически, выводы, сделанные им на основе явлений, наблюдавшихся им при брожении. До сих пор не было ни одного, хотя бы отдаленно напоминающего научное доказательство причинной связи микроорганизмов с болезнями; и в большинстве случаев, когда такая связь подразумевалась, имелись многочисленные свидетельства, решительно противоречащие этой точке зрения. Однако, к величайшему сожалению, эта неубедительная и ошибочная теория стала основой обширной системы шарлатанства, в поддержку которой вкладываются миллионы капиталов и не жалеются средства на то, чтобы обмануть общественность и более доверчивых членов медицинского факультета. Поэтому, возможно, будет уместно как можно более подробно рассмотреть нынешнее положение микробной теории; и пагубные последствия, вытекающие из её преждевременного принятия в качестве доказанной научной аксиомы, весьма очевидны».
К 1920-м годам игнорировать трещины в микробной «теории» становилось всё труднее. В книге «Принципы и практика натуропатии » (1925) доктор медицины, натуропатии и амбулаторного лечения Э. У. Кордингли (Cordingley) отметил, что микробная «теория» болезней слабеет и её пора отбросить:
«Врачи работают над микробной теорией болезней... Но микробная теория уже слабеет и должна быть отброшена. Доктор Фрейзер из Канады и доктор Пауэлл из Калифорнии экспериментировали с миллиардами микробов всех видов, но им не удалось вызвать ни одной болезни путём введения микробов в организм человека. Доктор Уэйт годами пытался доказать микробную теорию, но ему это не удалось. Во время Второй мировой войны на острове Гэллоп, штат Массачусетс, был проведён эксперимент, в ходе которого миллионы микробов гриппа были введены более чем ста мужчинам в государственной больнице, и никто не заболел гриппом. Микробы — падальщики.»
Доктор Кордингли сослался на эксперименты доктора Томаса Пауэлла и доктора Джона Б. Фрейзера, которые оба ставили эксперименты на себе и других с миллиардами чистых культур самых «опасных» микробов всех видов и не смогли с помощью этих усилий вызвать ни одной болезни.

Доктор Пауэлл, утверждавший, что он полностью противоречит «величайшему заблуждению в мировой истории» и что «ученые мира ошибаются в своих теориях о микробах», заявил:
«... Я утверждаю, что болезнетворные микробы совершенно неспособны успешно атаковать ткани живого организма; что они являются результатом, а не причиной болезни; что они ни в коей мере не вредны для жизни или здоровья тела; что, напротив, их особая функция — спасать живой организм, будь то человек или животное, от неминуемой травмы или гибели. Они достигают этого, разлагая препятствующую материю, которая предрасполагает к болезни, и вызывая её выведение через кровь».
Доктор Фрейзер в ходе своих экспериментов несколько десятилетий спустя пришел к аналогичному выводу: микробы являются результатом, а не причиной болезней:
«Если вы изучите общепринятые труды по бактериологии, вы не найдете в них никаких положительных доказательств того, что микробы, попадающие в пищу или питье, вредны».
« Предположения о том, что, поскольку микробы присутствуют при болезни, они являются ее причиной , и что если введенные в организм микробы вызывают болезнь, то вдыхаемые или проглатываемые микробы сделают то же самое, несомненно, являются «фундаментом из песка».
Доктор Фрейзер представил краткое изложение фактов:
1. Микробы появляются вслед за началом болезни.
2. Многие болезни имеют химическое происхождение.
3. Микробы можно вдыхать или проглатывать без вреда.
В книге 1933 года «Золотой телец: разоблачение вакцинотерапии» Чарльз У. Форвард утверждал, что ни одна гипотеза не строилась на столь шатком фундаменте, как микробная «теория» болезней. Он утверждал, что она разрушила медицину как искусство, не смогла восстановить её как науку, а вместо этого превратила её в коммерческое предприятие, систематически эксплуатирующее как болезни, так и страх перед ними ради прибыли:
«Сомнительно, чтобы когда-либо была воздвигнута какая-либо надстройка в форме гипотезы на более шаткой фактической основе, чем теория о специфическом «микробе» как причинном факторе болезни, теория о том, что каждая болезнь имеет свою собственную конкретную бактерию и что, по словам Флоренс Найтингейл, цитируемым Тиндалем, возбудитель каждой заразной болезни воспроизводится так же неуклонно, как если бы это была собака или кошка».
Эта так называемая «теория микробов» произвела революцию в медицине. Она уничтожила медицину как искусство, но не смогла восстановить её как науку. Благодаря ей медицина стала коммерциализированной, а болезни и страх перед ними систематически эксплуатируются ради наживы.
Американский врач доктор Уильям Говард Хей высказал схожую критику в своём эссе 1940 года «Кто такие шарлатаны?» – восьмистраничном разоблачении, критически анализирующем медицинскую индустрию и одновременно оспаривающем микробную «теорию» Пастера и Коха. Он указал, что ни один микроб никогда не удовлетворял постулатам Коха – общепризнанным критериям, необходимым для признания микроба причиной конкретного заболевания, – и утверждал, что продвижение Пастером микробной «теории» отбросило медицинскую науку на шестьдесят лет назад:
«Эта теория о микробах как причине болезни была проанализирована профессором Робертом Кохом, который сформулировал аксиому, принятую учёными его времени, которая должна быть соблюдена для того, чтобы определить микроб как причину болезни.
Согласно этой аксиоме, если микроб вызвал болезнь, он должен присутствовать в каждом случае этой болезни; он не должен присутствовать, за исключением случаев, когда он связан с болезнью; он должен быть поддающимся отдельному культивированию в подходящей среде вне организма и, наконец, он должен быть поддающимся повторной трансплантации в организм человека, где он неизбежно вызовет ту же болезнь.
Микробная теория не удовлетворяет ни одному из этих условий безошибочно: микроб часто отсутствует при болезнях, которые ему приписывают; он обычно присутствует в тех органах, где приписываемое ему заболевание наиболее заметно своим отсутствием! И хотя микробы поддаются культивированию вне организма, в подходящей среде, они подвержены мутациям по мере изменения свойств среды, и, будучи вновь введенными в организм, они не всегда безошибочно вызывают болезнь. Предполагается, что они вызывают, а не вызывают вообще никаких заболеваний.
Пастер уже отбросил нас на шестьдесят лет назад своей пропагандой микробной теории, и если мы вернёмся к учению Бешана, признав микрозимы первопричиной, а микробы – продуктом биохимического развития, результатом состояния организма, превратившимся в необходимые падальщики для удаления из него нежелательных веществ, мы, возможно, вернём себе позиции, утраченные более чем на шестьдесят лет, и сможем сосредоточить наше внимание на почвенных условиях в организме, а не на безобидных микробах-падальщиках.»
В книге «Вред медицины, вы говорите!: Дегерминация микробной теории» был перепечатан отрывок из «Гомеопатического обзора» 1947 года , написанный доктором медицины Ройалом Э. С. Хейзом. Хейз не сдержался, назвав микробную «теорию» «величайшей пародией на науку», «ужасным медицинским фарсом» и «величайшим обманом», когда-либо принятым медицинской профессией:
«Микробная теория болезней — величайшая пародия на науку , когда-либо спотыкавшаяся в эту полуцивилизованную эпоху; самый отвратительный медицинский фарс, в котором когда-либо играла свою роль человеческая масса; величайшая мистификация, которую медицинская профессия когда-либо воспринимала без малейших колебаний и раздумий».
Даже в рамках официальной науки сохранялись сомнения. К 1950-м годам известный иммунолог Рене Дюбо, сам сторонник микробной «теории», предостерег от её чрезмерного увлечения в своём эссе «Вторые мысли о микробной теории» (которое я рассматривал здесь ). Дюбо утверждал, что эта «теория» была чрезмерно упрощённой и редко соответствовала реальным фактам заболевания. Он сравнивал её с культом, который игнорировал противоречия и мало обращал внимания на слабые или противоречивые доказательства. Он также отмечал, как историки часто замалчивали тот факт, что многие клинические наблюдения врачей и гигиенистов не могли быть полностью объяснены микробной «теорией» заболевания:
«Микробная теория болезней обладает такой очевидностью и ясностью, что она одинаково удовлетворяет и школьника, и опытного врача. Вирулентный микроб достигает восприимчивого хозяина, размножается в его тканях и тем самым вызывает симптомы, поражения, а иногда и смерть. Какая концепция может быть разумнее и понятнее? В действительности, однако, этот взгляд на отношения между пациентом и микробом настолько упрощён, что редко соответствует фактам о болезни. Более того, он напоминает культ, порождённый несколькими чудесами, не тревожимый противоречиями и не слишком требовательный к доказательствам.
Историки обычно предвзято освещают жаркие споры, предшествовавшие триумфу микробной теории болезней в 1870-х годах. Они почти не упоминают аргументы тех врачей и гигиенистов, которые считали, что клинические наблюдения невозможно полностью объяснить, отождествляя микроб с причиной болезни. Критики Луи Пастера и Роберта Коха указывали, что здоровые люди и животные часто оказываются носителями вирулентных бактерий, и что жертвами микробных заболеваний чаще всего становятся люди, ослабленные физиологическими нарушениями. Разве не может быть, утверждали они, что бактерии являются лишь вторичной причиной болезней – оппортунистическими захватчиками тканей, уже ослабленных ослабленной защитой?»
Аналогичным образом, в 1968 году доктор Гордон Т. Стюарт, профессор эпидемиологии и патологии в Университете Северной Каролины, сам являвшийся сторонником микробной «теории» заболеваний, в своей статье « Ограничения микробной теории » писал , что это грубое упрощение, неспособное объяснить исключения и аномалии. Со временем, предупреждал он, она превратилась в неоспоримую и некритически принятую догму:
«Микробная теория болезней, согласно которой инфекционное заболевание в первую очередь вызывается передачей возбудителя от одного хозяина другому, — это грубое упрощение. Она согласуется с основными фактами: инфекция без возбудителя невозможна и что трансмиссивные организмы могут вызывать заболевание; но она не объясняет исключения и аномалии. Микробная теория стала догмой, поскольку игнорирует множество других факторов, которые играют роль в определении того, приведет ли комплекс хозяин/микроб/окружающая среда к инфекции. К ним относятся восприимчивость, генетическая конституция, поведение и социально-экономические детерминанты».
Это лишь несколько примеров голосов, звучавших на протяжении столетия, и есть множество других, которые были обнаружены . Это были не маргиналы, а опытные учёные, врачи и наблюдатели, которые усомнились в легитимности «теории», быстро ставшей догмой. Они предупреждали — и совершенно справедливо — что корреляция ошибочно принимается за причинно-следственную связь, что авторитет подменяет доказательства и что эта ошибка изменит медицину ради прибыли, а не ради исцеления. Их слова остаются актуальными и сегодня.
Автор – Майк Стоун
https://mikestone.substack.com...
Перевод статьи дан с небольшими сокращениями.
P.S.
Большинство людей считают, что в понятие "микроб" входит также и понятие "вирус". На самом деле, это не так. То, что псевдонаука называет "вирусом", это вообще никакой не микроорганизм, это просто кусок цепочки нуклеатидов, не имеющий никаких органов: ни пищеварения, ни перемещения, ни выделения, ни размножения, ни сигнальной системы - ничего вообще. Т.е. это некая неживая часть живого организма.
Ещё читайте:
"Бешан или Пастер? Утерянная глава истории биологии" https://www.rulit.me/books/bes...
Принятие теории Луи Пастера и методики вакцинации — самая большая научная ошибка всех времен https://cont.ws/@krylovael/277...
«Вирусология — это мошенническая лженаука и умирающая область», — считает учёный- биомедик https://cont.ws/@krylovael/277...
Вирусология – лженаука https://cont.ws/@krylovael/226...










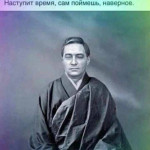



Оценили 17 человек
25 кармы