Посредником в живом общении является живой язык. Тот самый, который способен выразить все оттенки смысла и имеет для этого соответствующие возможности. В живом языке нет слов, обозначающих одно и то же явление просто потому, что не бывает абсолютно одинаковых явлений и двух одинаковых мнений. Они могут быть тождественными или в чём-то схожими, но не ОДИНаковыми. Один – он и в Африке один!
Наличие в языке слов кредитор и займодатель (заимодавец) – это как раз один из симптомов заболевания языка. Признак того, что в организм языка влили «кровь другой группы», которая просто разбавляет, разжижает его консистенцию (густоту), но не обогащает его. Ведь ещё Виссарион Григорьевич Белинский, во времена которого количество равнозначных (не близких, а одинаковых по значению) слов стало заметно увеличиваться, писал, что
«в языке не может существовать двух слов, совершенно равносильных и тождественных в выражении одного и того же понятия».
Язык стремится избавиться от такого балласта, и со временем один из вариантов уходит в небытие, как, например, в парах: аренда и снятие, спикер и гласный (Государственной Думы) - ушли из оборота вторые варианты. К сожалению… «К сожалению» – потому, что остались как раз и именно «непрозрачные» слова, за которыми не виден заложенный в них образ.
Язык – это не только средство выражения мысли, но и средство познания окружающего мира. И помогают нам увидеть и осознать богатство мира, многообразие природы, нюансы жизни как раз те слова, которые отличаются оттенками значения. Передают вроде бы то же понятие, но несколько иначе. Причём богатство языка заключается не просто в наличии таких слов, а ещё и в возможности появления новых единиц в уже имеющемся синонимическом ряду.
Вот, например, отрывок из рассказа Константина Георгиевича Паустовского «Поэзия дождя»:
«Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами — полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).
Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.
Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чём говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке».
От себя добавлю: когда ребёнок с детства сталкивается с дождями, сам(!), он на собственном опыте убеждается, что все они – разные. Ведь в детстве всё впервые и воспринимается особенно остро и отчётливо. И очень важно, если ребёнок при этом слышит, как взрослые именуют, называют дождь в зависимости от его (дождя) особенностей, свойств и качеств. Соотносит (безсознательно, поскольку это – работа мозга, которую ребёнок не контролирует) название дождя с тем, что он сам видит и чувствует во время дождя. В результате он привыкает к тому, что для природных явлений, подобных дождю, не может быть какого-либо одного названия просто потому, что все они разные!
Кстати, заканчивает Константин Георгиевич свой рассказ очень показательным выводом:
«Вот это – только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде».
Повторюсь, язык – это не только средство обозначения явлений действительности. Язык – это ещё и способ познания этой самой действительности. Если ребёнок в процессе взросления и познания – на собственном опыте, который подтверждён соответствующим понятным («прозрачным») названием, – научится (а он научится – можете быть уверены) замечать различия, нюансы, богатство проявлений этой самой действительности, то он, когда вырастет, сможет не только продолжать замечать новые детали и грани в привычных, казалось бы, явлениях, но и непременно научится создавать, творить, делать так, как до этого ещё не было. То есть он будет «плодить и размножать» это самое многообразие и богатство.
И ещё раз: наличие слов, отличающихся оттенками значения, – это показатель здоровья языка! Ведь точно так же, как у двух совершенно разных людей не может быть двух абсолютно одинаковых мыслей, ровно в той же степени различия должны присутствовать и в языке. Но сейчас мы вынуждены общаться на уровне необходимых намёков. Вдумайтесь в эту фразу: «на уровне необходимых намёков»...
Что мы привыкли говорить о дожде сейчас? Как мы его характеризуем? Обычно двумя словами: сильный или мелкий. Реже – затяжной. А если кто-то может вспомнить о слепом дожде, то он уже считается почти эрудитом.
Текст Константина Георгиевича о дожде мне приходилось читать и школьникам, и абитуриентам, и студентам. Причём – даже будущим журналистам. Могу поделиться неутешительным выводом: очень многое из этого текста для них является незнакомым, а потому непонятным и сложным. Они искренне считают такое количество обозначений дождя излишним. Происходит это потому, что их опыт показывает, что обозначений сильный, мелкий, надолго и скоро пройдёт вполне достаточно. Какая там красота?! Какая поэзия?! Тут бы запомнить всё это неимоверное (по их мнению) количество незнакомых и непонятных (потому что не закреплённых собственным опытом) слов – для того, чтобы справиться с изложением и получить оценку! Не до поэзии детям, не до «музыки дождя» и не до «мелодии языка»… Им некогда вслушиваться, как язык звучит и какое в словах содержится богатство смысла. Им бы поскорее всё это закончить и забыть, как страшный сон! И «зачем такое нагромождение слов, когда всё и так понятно»?
Мы все уже почти забыли, что русский язык по сути представляет собой конструктор и имеет ВСЁ для того, чтобы одну и ту же мысль или понятие можно было выразить по-разному – с учётом ситуации, интересов собеседника, целей общения и пр. Сейчас принято говорить о том, что синонимы оправданны в различных функциональных стилях языка. Допустим. Проиллюстрирую хотя бы с этой позиции.
Ну, например, что такое драка? Обычно скажут: это когда двое или несколько человек бьют друг друга кулаками, пинают ногами. А вот какое иронически-шутливое определение драки дал видный русский адвокат Анатолий Фёдорович Ко́ни, причём, в полном соответствии с юридическими понятиями:
“Драка – это есть состояние, субъект которого, выходя из границ объективности, совершает вторжение в область охраняемых государством объективных прав личности, стремясь нарушить цельность ее физических покровов”.
Или вот, например, в повести Валентина Дмитриевича Берестова «Приключений не будет» находим интересное наблюдение, которое, в общем, верно и лаконично отражает способы обозначения предметов в научной и разговорной речи:
“Нельзя предсказать, что именно раскроется при раскопках. Но, конечно же, и на этот раз будут, выражаясь языком науки, широко представлены остеологические материалы и фрагментированная керамика или, попросту говоря, обглоданные кости и битая посуда”.
И напоследок:
“Поэт Афанасий Фет, – писал Владимир Владимирович Маяковский, – шесть раз упомянул в своих стихах слово конь и ни разу не заметил, что вокруг него бегают лошади. Конь – изысканно, лошадь – буднично”.
Другими словами, живой язык может быть только у живых людей! Не у биороботов, которые говорят не то, что думают, и думают не то, что думают, и живут в клетках норм, правил и ограничений. А у творческих, думающих, развивающихся, не боящихся, прежде всего, мыслить и творить. Родившуюся у таких людей мысль – язык, будучи зеркалом, непременно проявит, выразит, представит во всей красе. Язык может нам помочь проснуться и ожить, если мы вглядимся в него повнимательнее и вдумаемся в то, что мы говорим.
Я уже писала ранее, что здоровье языка – это, прежде всего, чистота и прозрачность, которые мешают употреблять слова не по назначению. Однако мы уже настолько привыкли к устойчивым выражениям и всевозможным штампам, что в большинстве случаев не замечаем несоответствий слова контексту (ситуации).
В качестве иллюстрации приведу пример восприятия привычных для нас слов в привычных контекстах – детьми, чьё сознание не замутнено шаблонами и стереотипами, способно разглядеть за словом заложенный в него изначально образ и почувствовать «когнитивный диссонанс» в процессе чтения. Речь пойдёт о недавней публикации в АиФ материала о блаженной Анастасии (электронная версия), в которой есть такие строки:
Вместе с Екатериной Георгий часто ездит на Кукийское кладбище Тбилиси, где покоится прах Анастасии. Место это в последнее время стало настолько популярным, что к могилке есть отдельный указатель.
На кладбище в могилке покоится прах. «И что тут особенного?» - спросит любой взрослый. А ребёнок с незамутнённым сознанием за словом прах – видит образы порох, порошок, порошить. В его понимании прах – это то, что остаётся от человека после кремации. Моё предложение называть это тленом тоже было воспринято в штыки: «Тлен – это то, что тлеет, головешка, например». В общем, сошлись на слове «останки».
Я это всё к чему говорю? К тому, что несоответствие слова-образа контексту, которое видит ребёнок с «незамыленным восприятием», вызывает у него «когнитивный диссонанс» и желание искать слово, наиболее подходящее и по форме, и по содержанию.
Так вот, уважаемые взрослые, предлагаю, наблюдая за детьми, учиться у них свежести, незамутнённости, ясности восприятия и, как следствие, такому же ясному, правдивому (когда внутреннее соответствует внешнему) и нестандартному мышлению. Но, как показывает практика, занятие это не из лёгких...



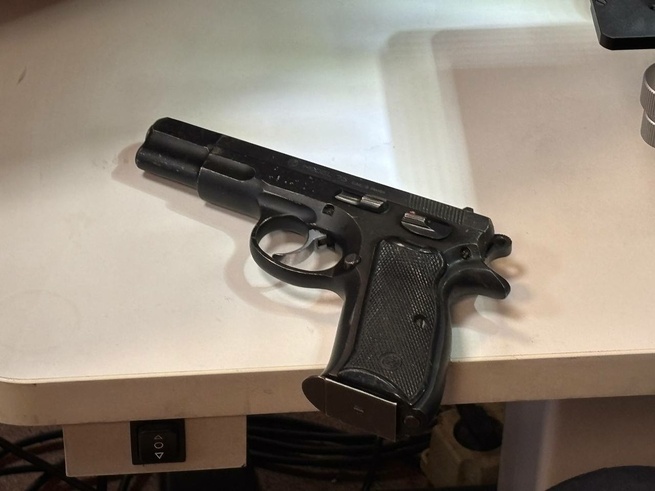
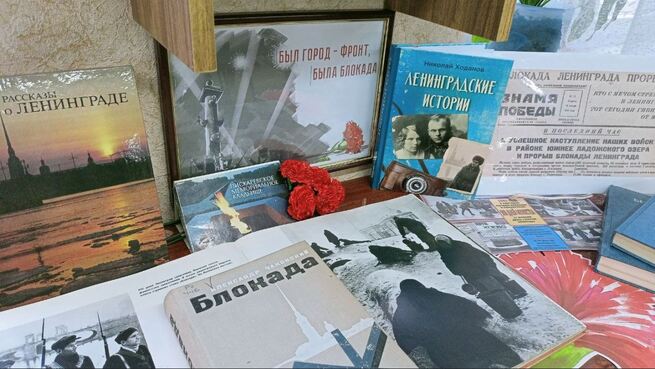





Оценили 3 человека
12 кармы