
Нет, не мушмула меня звала,
не миндаль, не белых два крыла,
не весенний ветер декабря,
не крутая в штопоре дорога.
Ты не доставала до стола,
ты еще спокойным сном спала
в час, когда военная тревога
всколыхнула наши якоря
и рукою жесткой провела
по рядам, в строю застывшим строго.
Разве новогодняя трава,
хмель ветров, лимонная листва,
разве даже моря синева
стали бы причиною разлуки?
Но имеет высшие права
край, где поседела голова.
Он развел на время наши руки,
он тебе вернет мои слова,
полные и радости и муки.
Крымский край! —
пути моих друзей.
Пыль дорог «Семи Колодезей»,
неизвестный лейтенант Варлей,
Эльтиген и ночи Дуванкоя.
Здесь ребенок знает про такое,
здесь земля матросских сыновей,
здесь могила моего покоя
и начало юности моей.
Григорий Поженян
Эти стихи Григорий Поженян посвятил своей матери. Почему "не доставала до стола"? Немного истории.
Осенью 1941 года отряд Поженяна ушел отбивать водонасосную станцию в Беляевке, чтобы напоить Одессу. От предыдущей группы разведчиков пришла радиограмма: «Не высаживайтесь. Мы все убиты. Коля». И восемь почтовых голубей домой, на голубиную станцию, тоже не вернулись.
Вспоминает сам Григорий: "Дать воду городу – значит затопить котлы в машинном зале. Проникли туда, сняв часовых. Пошла вода – пошёл дым из трубы. Так мы невольно себя «обнаружили». Горсточка людей в глубоком тылу врага. А как уходить?! Воду в Одессе давали по карточкам. Нужно было «держать» этот дым. Чем? Жизнями своими. Это самая трагическая операция в моей жизни."
Весь отряд посчитали погибшими. Позже через Сухой Лиман в Одессу пробрались трое выживших бойцов с телом командира.
Поженян был тяжело ранен, его выходила местная жительница, когда он смог самостоятельно передвигаться, вышел в море на лодке и добрался до своих. С отрядом соединился уже в Севастополе. Воевал на Карельском фронте, десанты в Эльтиген, Керчь, Новороссийск.
А матери Григория успели сообщить, что сын «погиб смертью храбрых, похоронен в Одессе на Сухом Лимане»… Недавно потерявшая мужа, а теперь получившая похоронку на сына, кандидат медицинских наук Елизавета Львовна отправилась военврачом на Ленинградский фронт.
Его мама, маленькая женщина, знаменитый военный хирург, настолько маленькая, что не доставала до раненых на хирургическом столе, и для нее смастерили специальную скамеечку, становясь на которую, она делала сложнейшие операции. В сорок четвёртом к ней на стол с легким ранением попал её "погибший" под Одессой сын. Вот такое счастье привалило военврачу в то тягостное время. На этой операции у нее было два ассистента. Одна сестра подавала инструменты, а другая полотенцем вытирала слёзы радости, которые туманили глаза и мешали работать.
Комсомольская юность моя, мы с тобою
наши вёрсты считали от боя до боя;
наши губы немели,
наши мачты горели,
нас хирурги спасали, а мы не старели.
Что я помню?
Дороги,
дороги,
дороги,
столбовые дымящиеся перекрёстки,
часовых у колодца, ночные тревоги,
клещи стрел на подклеенной мылом двухвёрстке,
ночи, длинные, синие, ночи без края,
тяжесть мокрых сапог,
вечный холод зюйдвестки
и смешную мечту об окне с занавеской,
о которой мой друг загрустил, умирая.
Что я помню?
В семнадцать -
прощание с домом,
в девятнадцать - две тонких нашивки курсанта,
а потом трёхчасовая вспышка десанта, -
и сестра в изголовье с бутылочкой брома.
А потом - немота, неподвижность суставов,
первый шаг, первый крик затянувшийся: "Мама!"
И опять уходящие к югу упрямо
бесконечные ленты летящих составов,
и опять тишина затаённых причалов.
Но опять, по старинной солдатской привычке,
хватишь стопку, ругнешь отсыревшую спичку,
обернешься - и все начинаешь сначала.
Всё сначала, как будто бы вечер вчерашний
две судьбы разграничил луною горбатой:
жизнь без риска -
за дальней чертой медсанбата,
жизнь взахлёб -
там, где бой,
там, где риск, там, где страшно.
Комсомольская юность моя,
всё, что было,
не прошло,
не состарилось,
не остыло.
Нас бинтом пеленали,
нас пулей учили,
нас почти разлучали,
но не разлучили.
1963









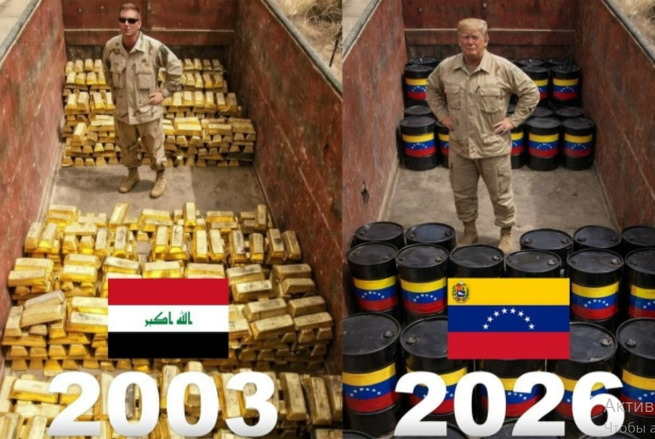





Оценили 23 человека
60 кармы