Когда речь заходит о реформах в правовой системе, особенно затрагивающих институт судебного представительства, в воздухе начинают витать большие и громкие слова: «профессионализм», «качество», «гарантии». И всё бы ничего, если бы за этими словами не пряталась очевидная и тревожная тенденция — монополизация доступа граждан к правосудию.
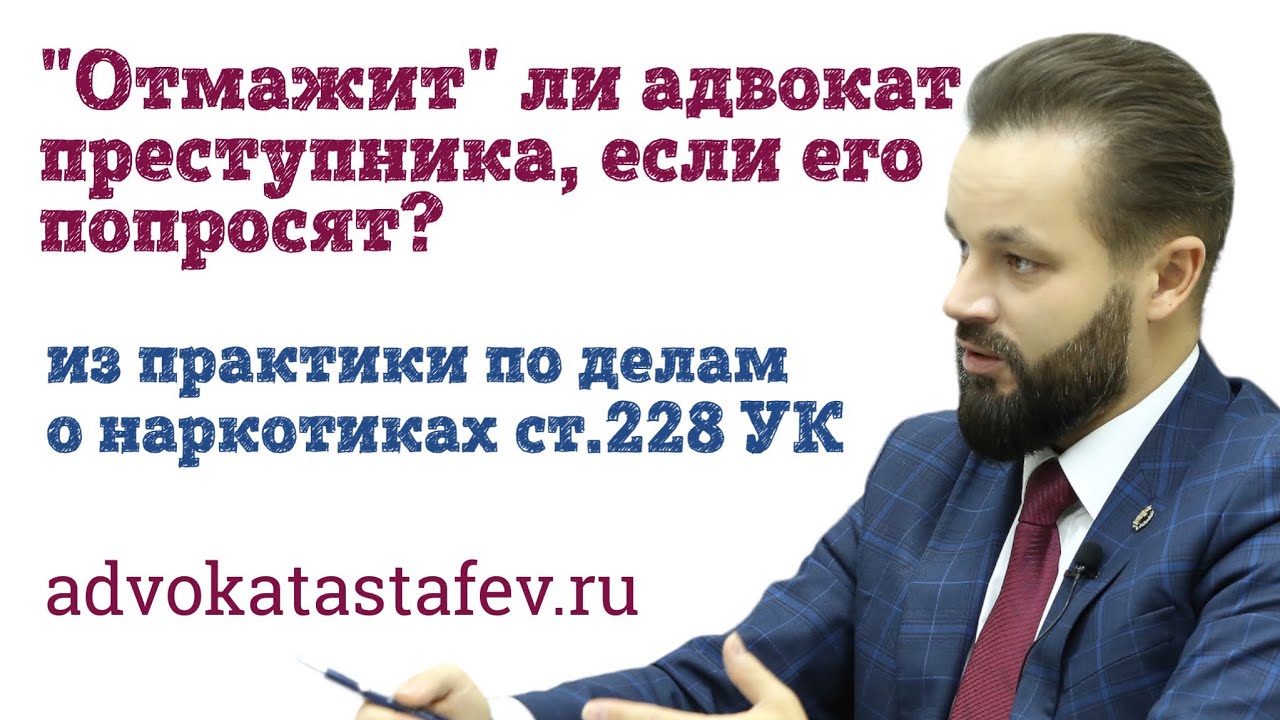
Именно об этом идёт речь в проекте Министерства юстиции РФ, согласно которому в судах представлять интересы граждан смогут исключительно адвокаты.
Под маской заботы — скрытые цели?
Формально, цель этой инициативы — благородная: «улучшить качество юридических услуг». На практике же речь идёт о жестком перераспределении полномочий и рыночной доле в пользу одной, весьма управляемой, профессиональной группы — адвокатского сообщества.
Но разве гражданину нужна элитная адвокатура, если он не может себе её позволить? Если он хочет воспользоваться услугами проверенного частнопрактикующего юриста, с которым работал годами?
Нет. Он будет вынужден выбрать «единственно допустимого» представителя. Даже если тот заведомо слабее, дороже и не вызывает доверия.
Противоречие Конституции и здравому смыслу
Такое ограничение явно вступает в конфликт с рядом конституционных норм:
• Статья 37 — право на свободный труд и выбор профессии;
• Статья 46 — право на судебную защиту;
• Статья 48 — право на получение юридической помощи и выбор защитника.
Получается, гражданин в скором будущем не сможет сам решать, кто будет его представлять в суде. Это не просто юридическая тонкость — это ограничение базовых прав и свобод.
Меньше конкуренции — выше цены, ниже качество
Простой экономический закон: там, где исчезает конкуренция, растут цены и падает качество. Введение адвокатской монополии приведёт ровно к этому. Адвокаты, не сталкивающиеся с конкуренцией со стороны частных юристов, утратят стимул развиваться и бороться за клиента.
Да и рынок давно всё показал: множество успешных, эффективных судебных представителей работают без статуса адвоката, а их деятельность ничуть не уступает, а зачастую и превосходит, представителей адвокатской среды.
Управляемость адвокатуры — это проблема, а не преимущество
Один из ключевых аргументов сторонников монополии — «адвокат под контролем, он надёжен». Но давайте посмотрим, под чьим именно контролем:
• Прокуратура и следствие — особенно в уголовных делах;
• Адвокатская палата — дисциплинарная зависимость;
• Судебные органы — прямая и косвенная зависимость, особенно в провинциальных регионах.
Иными словами, адвокат — самый зависимый участник процесса, у которого связаны руки и язык. В этом контексте идея «чистого и профессионального правосудия» приобретает очень односторонний и политически удобный характер: представитель гражданина в суде должен быть управляемым.
Финансовая дискриминация: 800 тысяч за право говорить в суде
Особое внимание заслуживает вступление в адвокатуру. В ряде регионов стоимость вступления превышает 800 000 рублей, и это не считая изматывающих экзаменов и годами усложняемых процедур. Это не путь к правосудию — это платный вход в закрытый клуб, построенный на привилегиях и допусках.
???? Повышенная налоговая нагрузка и отсутствие ответственности перед клиентом
Интересный парадокс: адвокатура освобождена от действия Закона о защите прав потребителей. Если юрист ошибся — его можно привлечь. Если адвокат — увы, только дисциплинарка в палате, где всё решается за закрытыми дверями. Никаких процентов, штрафов, компенсаций морального вреда.
Монополия — это не путь к справедливости. Это путь к системе ручного правосудия
Введение адвокатской монополии — это не забота о гражданине, не развитие профессии и не борьба с «юристами-шарлатанами». Это инструмент контроля над судебной системой, очередной шаг к ограничению реальной правовой конкуренции и возможности граждан иметь независимую защиту.
Мы против. Мы за свободу выбора, за равенство профессий и за здоровую конкуренцию. Потому что если завтра каждый, кто не адвокат, будет признан «непригодным» — послезавтра в зале суда не останется ни граждан, ни справедливости. Останется только мундир.
Мы — профессиональные юристы. Мы — граждане. Мы — налогоплательщики.
И мы имеем право на участие в правосудии не меньше, чем «избранные».











Оценили 8 человек
11 кармы