
Так называемое Кенгирское «восстание» было не столько «протестом против сталинского ГУЛАГа», — но свидетельством опасного кризиса власти в СССР после смерти Сталина.
Предельно кратко события в Кенгирском лагере вблизи казахского города Джезказган описываются, особенно в либеральных источниках, почти одинаково. Да и как иначе — если практически все они черпают информацию почти исключительно из обширной главы «Кенгирское восстание».
Помещенной в печально известном романе «Архипелаг Гулаг» — не менее, хм, широко известного российского писателя (и по совместительству агента влияния США) Александра Солженицына. 16 мая 1954 года лагерная охрана открыла огонь по нарушителям границы между мужской и женской зоной лагеря — при этом было убито и ранено несколько человек. В ответ заключенные быстро самоорганизовались — и отказались выходить на работу, выдвинув массу требований. От сокращения продолжительности рабочего дня и снижения норм выработки — до пересмотра уголовных дел. Проще говоря — досрочного (вплоть до немедленного) освобождения. Затребовав в качестве «гаранта» ни много ни мало — аж «члена ЦК партии». Попутно «зеки» организовали образцово-показательное управление жизнью лагеря, наладив быт, досуг, местные радиопередачи, наглядную агитацию, — заодно создав прям-таки настоящее «правительство». Включающее в себя ответственных и за «оборону», и за пропаганду, и за хозяйственные дела — и даже за «контрразведку».
Власть медлила с применением жестких мер, требования все возрастали. Пока, наконец, в Москве паре министров не надоели перебои с поставками добываемой близ Джезказгана медной руды — и они не потребовали от союзного МВД навести, наконец, порядок в этом вопросе. Заручившись поддержкой и главы правительства СССР Георгия Маленкова. Лишь после этого милицейские генералы дали отмашку на силовую акцию. 26 июня присланные в Кенгирский лагерь войска подавили сопротивление заключенных. Несколько организаторов получили по итогам суда «высшую меру», — впрочем, реально было расстреляно лишь двое из них. А «рабовладельческая империя Гулага вскоре была расформирована», — конечно же, «благодаря героическому восстанию содержавшихся в Кенгирском лагере невинных людей».
***
Рассмотрим эти тезисы поподробнее. Для начала — о якобы «невинных людях», лишенных свободы, конечно же, исключительно «благодаря произволу сталинских сатрапов». Краткая цитата из далеко не пророссийского (не говоря уже о «просоветскости») ресурса из Казахстана: «Этнические русские (то есть, возможно, бывшие военнослужащие РОА и прочие предатели) составляли всего 12 % «населения» Степлага. Они были на третьем месте после украинцев (46 %) и литовцев (13 %)». Так что не зря в украинских СМИ, особенно после окончательной победы нацизма на Майдане 2013—14 годов, «Кенгирское восстание» превозносится до небес — в ряду «героических деяний ОУН-УПА» и прочей нацисткой швали в западных областях Советской Украины. Удивляться тут нечему — именно из украинской «западенщины» и состояла «львиная доля» заключенных Кенгирских лагерей. При этом не стоит удивляться и почти половине отбывающих наказание женщин. А также спекулировать на их якобы «невинности» в плане того, что все те же «сталинские сатрапы» просто решили «отыграться» на этих якобы «невинных овечках» — за их мужей и братьев, состоящих в рядах бандеровских «отморозков».
Во-первых, очень часто местная бандеровщина занималась своими кровавыми делами, так сказать, «на семейном подряде». Женщинам, девушкам же вовсе не обязательно лично участвовать в убийствах комсомольских активистов — или там поджогах сельсоветов. Наблюдение, слежение за будущими жертвами, объектами диверсий — это ведь тоже важнейшая сторона для успеха подобных акций. А женщины для такой работы — едва ли не наилучший выбор, так как при прочих равных условиях вызывают меньше подозрений.
А еще ни в 40—50-е годы (как, впрочем, и сейчас) никто не отменял уголовную ответственность за недонесение о готовящемся преступлении. Разве что со времен «перестройки» была внесена поправка, разрешающая не свидетельствовать против себя и ближайших родственников. Но все равно, если «кровные узы» хотя бы неофициально могли послужить хоть каким-то «смягчающим обстоятельством» за недонесение — то как назвать молчание какой-нибудь селянки из Прикарпатья, которая регулярно наблюдает, как к ее соседям приходят обвешанные оружием «хлопцы из лесу»? Притом что уже сам факт наличия, владения, ношения боевого оружия не официальными государственными «силовиками», а «гражданскими» — является уголовным преступлением? О котором законопослушный гражданин тоже должен сообщать правоохранительным органам.
Не менее важный момент — снабжение что бандеровцев, что «лесных братьев» из Прибалтики продовольствием. Их бандитская деятельность продолжалась многие годы после окончания войны — ясно, что на старых запасах еды они бы столько не протянули. Значит, им помогали — те же сочувствующие им селяне. За что, при выявлении, и отправлялись в «места, не столь отдаленные». Только при чем здесь «сталинские репрессии» — сейчас тоже и за довольно-таки мелкий перевод средств на счет террористических организаций вроде запрещенного в России «ИГИЛ» тоже можно сесть на немалый срок. И за «донат» в пользу мало ушедших от террористов «вояк ВСУ» — тоже. Потому что это все — соучастие в преступлении! При этом не имеет особого значения, куда конкретно пошла та или иная пожертвованная сумма — на теплые носочки для украинского снайпера или гранату, которая будет сброшена с украинского же дрона. Да хоть на банку консервов, — благодаря которой сытые враги будут с куда большей точностью пытаться убить российских бойцов.
Недаром не так давно даже убежденный сторонник «великой и незалежной», включая и ее «вийско», предатель-иноагент Андрей Макаревич публично объявил о прекращении «донатов» на украинскую армию. Дескать, «не хочу, чтобы на эти деньги украинский дрон долетел до Москвы и убил там моего племянника». К сожалению, до этого «истинного русского патриота», почему-то находящегося в Израиле, рука российского правосудия пока не дотянулась. Но вот в отношении соучастников преступлений нацистских пособников что в Галичине, что в Прибалтике правосудие советское, как минимум до смерти Сталина, действовало куда более оперативно и неотвратимо. Отсюда — и немалый процент якобы «невинных» галичанок и прибалтиек в Кенгирском лагере…
***
Теперь коснемся расхожего тезиса либеральных страшилок о «страшном Гулаге» относительно тамошнего «рабства». Под которым их авторы подразумевают принудительный труд заключенных. Похоже, они не удосужились ознакомиться хотя бы с трудами своих коллег-иноагентов из Википедии. А то бы знали, что к этому самому «принудительному труду» даже в «цитадели демократии» за океаном не относится труд и заключенных, — и просто в наказание по приговору суда. Это даже в 13-й поправке к Конституции США записано. И в местном обществе не без злорадного удовольствия воспринимают сообщения образца того, что какую-нибудь юную миллионершу за вождение автомобилем в нетрезвом виде приговорили к нескольким десяткам часов «общественных работ». Да, не в каменоломнях, — но подметать улицы для той, кто на свои только карманные деньги могла бы нанять целый батальон дворников — это ведь тоже, наверное, довольно унизительно. И по сути тоже является формой все того же «рабского (ибо принудительного) труда». Пусть и не круглосуточного, а ограниченного 8 часами в день, с возможностью отдыхать в комфортабельных условиях собственного дома, а не в казарме для невольников, — но все-таки. Ну, а преступников посерьезнее уже заставляют не только работать на благо общества несколько (а то и несколько десятков) лет, — но еще и жить вне привычных комфортных условий, в тюрьме или колонии. При этом их принудительная работа оплачивается, мягко говоря, намного дешевле, чем даже самый неквалифицированный труд свободных граждан.
В подтверждение можно привести справку на этот счет из относительно свежей статьи в «Коммерсанте» — издании однозначно либеральной направленности. О том, как обстоят дела с использованием и оплатой труда заключенных на «гуманном и демократическом Западе». С включениями автора статьи — относительно уровня оплаты труда в тех же странах на воле:
«В США тюремный труд допускается 13-й поправкой к конституции. Заключенные федеральных тюрем работают на госкорпорацию UNICOR. Вся ее продукция продается госучреждениям, прежде всего Минобороны. UNICOR имеет более 150 предприятий на базе тюрем, в которых производится около 60 видов продукции (электроника, одежда, офисная мебель и др.). Доход компании за 2019 год — $531 млн. В 2021 году заключенные зарабатывают в компании от $0,23 до $1,15 в час. Частные тюрьмы страны заключают соглашения с крупными компаниями. В разное время трудом заключенных пользовались Motorola, Compaq, Honeywell, Microsoft, Boeing, Revlon, IBM, Hewlett-Packard, Nortel и другие.
Справка. Согласно данным американского Федерального бюро статистики средняя зарплата в США в начале 2024 года равнялась 28,26 долларам в час — то есть 4 521,6 доллару в месяц. Это примерно на 5 % выше, чем в конце прошлого года. Тогда средняя часовая ставка оценивалась в 27,33 доллара. Минимальная зарплата в США в час — 7,25 долларов. Это равно 1 160 долларам в месяц и 13 920 долларам в год.Что интересно, такая ставка была предложена правительством еще в 2009 году.
В Германии обязательной трудовой повинности в тюрьмах нет, однако работа считается неотъемлемой частью реабилитации заключенных. Это узаконено в 12 из 16 федеральных земель. В среднем заключенные в Германии работают 37 часов в неделю. К примеру, в мужской тюрьме в районе Тегель в Берлине, где расположены 12 мастерских, осужденные в среднем зарабатывают €250 в месяц. (Минимальная зарплата в стране 12,82 евро/трудовой час.) Они работают либо на предприятиях самих уголовно-исполнительных учреждений, либо на предприятиях частных компаний при тюрьмах. В первом случае вся продукция находится в собственности федеральной земли, во втором — в частной. Наиболее распространенные сферы деятельности — слесарное, столярное дело, пошив одежды и обуви, выпечка хлеба, прачечные, строительство, садоводство. Многие крупные компании используют труд заключенных, например, Siemens, Mercedes Benz и BMW.
В Японии заключенных привлекают к работам в обязательном порядке. Администрация тюрем учитывает профессиональные навыки, возраст и состояние здоровья при подборе рода деятельности. Узников используют на предприятиях, занятых, к примеру, в сфере деревообработки или полиграфии, выпуске электроники, изделий из кожи и детских игрушек. Обычно заключенные трудятся пять дней в неделю по восемь часов в день с тремя перерывами. За работу получают символическую заработную плату. В ходе выполнения работ арестантам запрещено разговаривать(!). Вести беседы допускается в свободное время, которое наступает после 18 вечера».
Ну как — еще кому-то хочется посочувствовать «несчастным рабам советского ГУЛАГа» — при этом в упор не замечая минимум 20-кратной недоплаты привлеченных к принудительному труду в интересах самых высокотехнологических компаний «самых свободных заключенных самых свободных стран»? И США — и мало чем отличающихся по этому пункту Германии, и особенно Японии? И что-то как-то не слышно о «восстаниях рабов тамошних ГУЛАГов» — с требованиями повышения зарплат (при таком-то гигантском резерве!) и снижения норм выработки. Что и составляли основу чисто «экономических» требований заключенных Кенгирского лагеря…
***
Кстати, требования эти были не только в экономическом «ключе». Примечательная цитата из одного, увы, не так уж частых в освещении этой темы адекватных источников: «Заключенные опять не вышли на работу, потребовав предоставления заключенным права свободного проживания в местах работы вместе со своими семьями, разрешить свободное общение с женской зоной, сократить сроки наказания для осужденных на 25 лет лишения свободы, выпускать заключенных 2 раза в неделю в город». — Так и тянет спросить: а это вообще о чем?! Нет, в отдельных странах (даже в «ужасно-тоталитарном» Иране) действительно существует практика с отпусканием заключенных (во всяком случае, находящихся на хорошем счету у администрации) на выходные домой, — когда тюрьма де-факто становится для них «местом круглосуточной работы» лишь в рабочие дни. Но даже там совместное проживание семьями (надо понимать, и с детьми тоже?!) как-то не практикуют. И лишение заключенных обоих полов возможности, эээ, «межполового общения» на срок заключения, в принципе, неофициально тоже является одним из видов наказаний что для осужденных мужчин, что для женщин. Отменяемым (и то не для всех и не всегда) лишь на период редких свиданий с приехавшим супругом — опять же лишь в случае примерного поведения заключенного. Но, похоже, находящиеся в Кенгирском лагере бандеровцы и «лесные братья» так соскучились по своим «боевым подругам», содержащимся рядом, что всерьез рассчитывали на выполнение властями своих просто-таки шокирующе немыслимых для пенитенциарной системы — практически любой страны: — требований.
Собственно, и весь сыр-бор загорелся из-за того, что охрана подстрелила нескольких слишком уж «истосковавшихся по женской любви» зеков. Что, в общем-то, имело вид предотвращения не только нарушения лагерного режима, — но и вполне возможного изнасилования сексуально-озабоченными «женихами» попавшихся им под руки «невест». Но, конечно же, начиная с Солженицына, на основе этого эпизода подобные этому лжецу авторы бесконечно спекулируют на теме «еще до восстания лагерная охрана озверела — и начала стрелять в заключенных по любому поводу». Тем более — ее ж за это «поощряли отпуском домой»! Спору нет, часового-срочника, исполнившего свой воинский долг при охране что склада, что комендатуры, что лагерного периметра, во все времена было принято поощрять в том числе и отпуском. Но вот насчет «массовой охоты на невинных заключенных»… Очень интересное и на удивление объективное мнение из уже цитировавшейся выше статьи казахского сайта, объясняющее необычно долгую задержку с применением против бунтующих заключенных адекватных силовых мер:
«Ввод войск на территорию лагеря привел бы ко множественным жертвам среди зэков. А в послевоенное время рабочая сила по СССР вообще, а в ГУЛАГе в частности, ценилась достаточно высоко. Без нее просто невозможно было выполнить производственные планы. Видимо, поэтому руководство МВД решило искать компромисс с восставшими, затягивать переговоры, пытаться решить проблему несиловыми методами».
Ну, а теперь давайте подумаем, как с этим, в общем, вполне логичным тезисом соотносятся солженицынские и пост-солженицынские бредни насчет «озверевшие охранники почем зря ложили несчастных зеков целыми штабелями»? Притом что генералы МВД что Казахской ССР, что всего СССР целый месяц, что называется, больше «пылинки сдували» с бунтовщиков, — официально запрещая охране применять оружие? Прям «левая рука не знает, что делает правая», что ли? Ну да, допустим, испугались массовых волнений, — но до этого-то что, якобы имевший место «массовый отстрел» работников горнодобыывающей промышленности, пусть и в лагерных робах, начальство ну совсем-совсем не волновал? А ведь если верить Солженицыну и иже с ним, что число жертв «зека» от пуль рядовых охранников должен был составлять десятки, если не сотни ежемесячно, — а ведь каждый такой случай должен документироваться, с последующим сообщением по инстанциям.
***
Вообще просто потрясающий разнобой в цифрах погибших при подавлении мятежа между официальными источниками и «сведениями от очевидцев» (которыми и пользовался Солженицын) сам по себе должен настораживать минимально критичную аудиторию. Первые оперируют 37 погибшими — и 9 умершими потом от ран. Ну, а вторые — тут уже «кто больше». Стартуют обычно от цифры в 7 сотен трупов минимум. Естественно, как и подобает «кровавой гебне», тут же «зарытых в братской могиле», без счета. Вот просто интересно — как подсчитали эту ужасающую цифру «очевидцы»? Если даже официальное лагерное начальство каждый день узнает точные данные о числе заключенных по результатам «утренней» и «вечерней проверки», — когда точно ясно, кто там сбежал или, например, умер ночью. После разгрома сопротивления самых активных бандеровцев сотоварищи — заключенных тут же разделяли на группы, не сообщающиеся друг с другом, многих вывозили в другие лагеря. Тут и у владеющий официальными списками «зека» администрации возникнут сложности, — а у никогда не имевших таких списков носителей лагерных роб, да еще перемешанных со своими соседями из других бараков, — и подавно.
Но самое смешное — это ходульное представление либеральных источников, идущее еще от Солженицына, о якобы «никем точно не подсчитываемых жертвах в ГУЛАГе». Это ж полный бред! Не только для «страшных сталинских лагерей», — но и любого тюремного учреждения мира. Заключенный не может просто так исчезнуть! Он может либо сбежать (и тогда охране и лагерному начальству не позавидуешь от последующих проверок) — либо по каким-то причинам умереть. Ну — пусть даже от пули охраны. После чего составляется соответствующий акт, — подписываемый несколькими людьми, не только начальником тюрьмы (лагеря), — но и врачом, начальником оперчасти и проч. В противном случае, при наличии даже минимальной коррупции, многие «умершие» могли бы оказываться на свободе — реально туда неофициально отпускаемые.
Но конечно, можно заранее вооружиться подходом относительно «80 миллионов жертв ГУЛАГа» от «исследователей» образца «трубадура перестройки» Александра Яковлева. Притом что даже на «пике» «ежовских чисток» число заключенных не превышало 2 млн человек — столько же, сколько находится вот уже несколько десятилетий минимум в тюрьмах США. То конечно, тогда стоит удивляться скорее тому, что якобы «убитых» в Кенгирском лагере всего 700, — а не, например, 7 тысяч. Хотя общее количество взбунтовавшихся «зеков» не превышало 3 тысяч….
Так что если даже комиссии в «перестроечную» эпоху не смогли найти в официальных архивах МВД данных о «свыше семистах убитых» — значит, их действительно не было. А душераздирающие истории о «перееханных танками несчастных девушках, пытающихся защитить своих мужчин», — от все тех же «очевидцев» по Солженицыну? Ну, если послушать слезливый репертуар певцов (особенно певиц) блатного шансона насчет «несчастных мальчишечек, которых увозят на зону» — так там можно услышать даже и еще более душераздирающие истории. Что-то подсказывает, что дай волю таким певцам — они бы заставили рыдать аудиторию по поводу печальной судьбинушки обитателей и какого-нибудь «Черного дельфина» — тюрьмы для особо опасных преступников, кровавых маньяков, убийц и террористов, осужденных на пожизненный срок…
***
Кстати сказать, хорошей иллюстрацией «достоверности» «данных очевидцев», на которые опирался Солженицын, может послужить, например, описание им фигуры лидера пресловутого «восстания» фашистских пособников:
«Тут были освобождены из тюрьмы и те, кому предстояло стать во главе восстания: бывший полковник Красной армии Капитон Кузнецов (выпускник Фрунзенской академии, уже немолодой; после войны он командовал полком в Германии, и кто-то у него сбежал в Западную — за это и получил он срок; а в лагерной тюрьме он сидел "за очернение лагерной действительности" в письмах, отосланных через вольняшек); бывший старший лейтенант Красной армии Глеб Слученков (он был в плену; как некоторые говорят — и власовцем)».
А вот во вроде бы вполне антибандеровском издании «Украина.Ру» тот же персонаж описывается даже с куда большим пиететом и симпатией! Правда, и очень отличающимися даже от солженицынской версии якобы биографических деталей:
«Он родился в 1913 году на Дону, и советская карьера задалась еще до войны. Во всяком случае, в Великую Отечественную войну он воевал подполковником Красной армии и даже на Южном фронте одно время командовал полком, имел боевые награды. Но в 1942 году… Кузнецов был тяжело ранен и попал в немецкий плен. За годы плена ему довелось побывать в бараках смерти в Житомире, Перемышле, Ченстохове, Нюрнберге, Флессибурге. Трижды пытался бежать, но каждый раз его настигали немецкие овчарки. Он был освобожден советскими воинами из лагеря военнопленных в Маутхаузене. И вернулся на Дон.
…
На Донщине агрономом Кузнецов работал до 1948 года, даже новый сорт пшеницы принялся выращивать, скрестив ее с рожью. Но как раз подоспела волна новых сталинских репрессий — ГУЛАГу не хватало живой силы. И к тому же "великому вождю" надо было сбивать вольнодумство советских "декабристов" — солдат и офицеров, которые не только с оружием в руках освободили Европу от фашизма, но и насмотрелись, как там живут люди. Бдительный секретарь парткома невзлюбил Кузнецова за то, что беспартийный и не просится в КПСС, а такой же начальник районного НКВД с готовностью обвинил его стандартно — в измене Родине, проявившейся, ясное дело, в пребывании в немецком концлагере. Кузнецову приписали "участие в карательных операциях против советских партизан". И дали 25 лет лагерей. Теперь уже советских. С марта 1950 года по июнь 1953 года он содержался в "Дубровлаге". А с июня 1953 года — в "Степлаге"».
***
Что и говорить — очень душещипательная история на предмет «преступлений кровавой сталинской гебни». Правда, ее авторы, в стремлении сделать ее еще убедительнее, допустили явный «перебор» — сразу ставящий под вопрос всю достоверность этого «перла». В открытых источниках очень непросто найти подробную биографию Капитона Кузнецова. Тем не менее представить, что беспартийный офицер мог дослужиться в Красной Армии до подполковника и даже командира полка — как-то очень сложно. Хотя да, отдельные подобные очень редкие исключения бывали, — впрочем, лишь подтверждая общее правило.
Но вот представить, что командиру полка, попавшему в плен, и после освобождения из него не оставленному в кадрах Советской армии, вынужденному работать агрономом, местное начальство «выламывает руки» на предмет необходимости срочно получить партбилет… Это, право, уже из области ненаучной фантастики. С тем же успехом можно было бы написать, что Кузнецова хотели сделать Героем Советского Союза, — а за отказ репрессировали.
Ну, не принято было в СССР награждать офицеров, попавших в плен! Также как и зазывать вступить в партию. Вот исключить из нее, особенно в случае потери партбилета (а тем более его попадания в руки врага) — это да. Хотя и в «страшный ГУЛАГ» после сортировки отправляли тоже далеко не всех — немало даже генералов оставили в армии, пусть и не на самых важных должностях. Может быть потому, что если офицер, генерал, командуя своими подчиненными, посылает их в бой на очень вероятную смерть — он и сам должен быть готов показать такой пример при необходимости. Личное оружие-то, пистолет, выдается не только для красоты и парадов, — но и чтобы иметь возможность использовать его для своего последнего боя, если твои солдаты уже отдали жизнь за Родину — и враг уже на пороге штаба… Более объективно, хоть и кратко, сообщает о «герое Кенгирского восстания» журналисты из Казахстана: «Председателем (лагерного комитета) был избран бывший подполковник Красной Армии К.И. Кузнецов, перешедший во время войны на сторону врага. Это, в общем, единственный офицер РОА, который стал известен в Степлаге».
В общем, история с Капитоном Кузнецовым все стремительнее становится больше похожей на эпизод из «Место встречи изменить нельзя». Когда Глеб Жеглов в ответ на слезливые жалобы мелкой воровки «Маньки Облигации» насчет «погибшего папы-фронтовика» — не без юмора отвечает: «Папашу твоего знаю. На фронте он, правда, не воевал, — но “шнифер” был знаменитый, громил сейфы, как косточки из компота». Что и подтверждает в отношении «выпускника Академии Фрунзе» и «узника нескольких немецких лагерей смерти» официальная архивная справка:
«Кузнецов Капитон Иванович, 1913 года рождения, уроженец с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области, б/п, образование высшее, работал до 1948 года агрономом райсельхозотдела Ростовской области. Осуждён по ст. 58—1“б” УК РСФСР на 25 лет. В мае 1942 года Кузнецов попал в плен; находясь в Перемышленском лагере военнопленных, вступил в связь с зонденфюрером Райтером, по рекомендации которого в октябре 1942 года был назначен на должность коменданта лагеря русских военнопленных. Занимался вербовкой военнопленных для сотрудничества с немцами. Принимал участие в карательных операциях против советских партизан». (ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 228. Л. 13-17.)
***
Впрочем, что да — то да, лидерские качества этот «полковник-партизан» (и комендант гитлеровского концлагеря) имел действительно не самые заурядные. Наладив со своими подельниками действительно неплохой быт для взбунтовавшихся заключенных. Даже, как с умилением отмечал Солженицын и всего его последователи, «наладив питание даже лучше, чем было до этого». Благо продуктов на складах «зоны», откуда мятежники изгнали лагерную администрацию, было накоплено последней на несколько месяцев. Теперь их с аппетитом поедали вроде бы как должные их зарабатывать своим трудом осужденные — вместо этого с радостью живя за счет труда законопослушных советских граждан. Эдакий «коммунизм лагерного масштаба», — правда, устроенный теми, кто Советскую власть люто ненавидел всеми фибрами души. Что, впрочем, не мешало им с предельно циничной демагогией использовать советскую фразеологию для того, чтобы «вешать лапшу на уши» переговорщикам из числа генералов МВД. Здесь лучше всего снова дать слово самому Солженицыну:
«В первые же часы, еще ночные, обходя все бараки и до хрипоты держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой и еще позже не раз, полковник Кузнецов, встречая настроения крайние и озлобленность жизней, настолько растоптанных, что им, кажется, уже нечего было терять, повторял и повторял, не уставая: “Антисоветчина — была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги — нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога для подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов. Спасение наше — в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями как подобает советским гражданам!” И уже громче потом: "Мы не допустим такого поведения отдельных провокаторов!" (Да, впрочем, пока он те речи держал, а на вагонках громко целовались, не очень-то в речи его и вникали.) Это подобно тому, как если бы поезд вёз вас не в ту сторону, куда вы хотите, и вы решили бы соскочить с него — вам пришлось бы соскакивать по ходу, а не против. В этом инерция истории. Далеко не все хотели бы так, но разумность такой линии была сразу понята, и победила. Очень быстро по лагерю были развешаны крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт:
"Да здравствует Советская Конституция!"
"Да здравствует Президиум ЦК!"
"Да здравствует советская власть!"
"Требуем приезда члена ЦК и пересмотра наших дел!"
"Долой убийц-бериевцев!"
"Жёны офицеров Степлага! Вам не стыдно быть женами убийц?"»
Впрочем, новоназначенный нацистскими недобитками местный «гестаповец» Энгельс (Глеб) Слученков (бывший власовец, подпрапорщик РОА, некогда лейтенант Красной Армии, перешедший на сторону гитлеровцев) насчет истинных целей своих подельников и их планов был куда более откровенно циничен. Даже по Солженицыну:
«А на угрозу военного подавления Слученков отвечал генералам так: "Присылайте! Присылайте в зону побольше автоматчиков! Мы им глаза толчёным стеклом засыпем, отберём автоматы! Ваш Кенгирский гарнизон разнесём! Ваших кривоногих офицеров до Караганды догоним, на ваших спинах войдем в Караганду! А там — наш брат!" Можно верить и другим свидетельствам о нём: "Кто побежит - будем бить в грудь!" — и в воздухе финкой взмахнул. Объявил в бараке: "Кто не выйдет на оборону — тот получит ножа!" Неизбежная логика всякой военной власти и военного положения... И когда голосовали — держаться ли? — большинство голосовало за. Тогда Слученков многозначительно угрожал: “Смотрите же! С теми, кто остается в наших рядах и захочет сдаться, мы разделаемся за пять минут до сдачи!”»
Как говорится в подобных случаях — «такое комментировать — только портить».
***
Впрочем, определенный комментарий здесь все-таки нужен. Хотя бы потому, что даже в большинстве, в целом, объективных источников если не полностью упускается, — то и не подчеркивается следующее важнейшее обстоятельство. Так называемое Кенгирское «восстание» было не просто локальным бунтом справедливо осужденных врагов Советской власти — по большей части нацистских прихвостней из национальных республик СССР. Оно имело все признаки начинавшегося антисоветского мятежа — вспомним угрозы «власовца» Слученкова «ворваться в Караганду». При этом надо учесть, что таких «власовцев», деятелей «Локотской республики», и прочих люто ненавидевших Страну Советов людишек оставалось на ее территории даже после Великой Победы не так уж и мало. Да, в обычной обстановке, при нормально работающей правоохранительной системе, эта публика могла питать разве что «диссидентские» настроения — да поставлять кадры агентов нижнего уровня для иностранных разведок.
Но в том то и дело, что «нормальной» работу государственных институтов в Советском Союзе после смерти Сталина назвать было сложновато. После смерти однозначно признаваемого лидера между его соратниками началась ожесточенная борьба за власть. Во многом вызвавшая ее самый настоящий паралич, — к счастью, в большинстве случаев все же рано или поздно проходивший. Вот еще один отрывок из Солженицына, — повествующий об «уважении» к лагерной администрации, которая якобы просто-таки «затерроризировала несчастных заключенных неспровоцированной стрельбой охраны на поражения»:
«Воровской молодняк развлекался тем, что срывал с надзирателей фуражки, во время вечерней проверки джигитовал по крышам бараков и через высокую стену из 3-го лагпункта во 2-й сбивал счёт, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки. Они бы дальше и на женский лагпункт полезли, но по пути был охраняемый хоздвор. Когда режимные офицеры или воспитатели, или оперуполномоченные заходили на дружеское собеседование в барак блатных, воришки-малолетки оскорбляли их лучшие чувства тем, что в разговоре вытаскивали из их карманов записные книжки, кошельки, или с верхних нар вдруг оборачивали куму фуражку козырьком на затылок — небывалое для ГУЛага обращение!»
Представим на миг, что на фоне такой растерянности правоохранителей на улицы советских городов вырываются тысячи не просто бандитов, — но заклятых врагов Советской власти, многим из которых, и так осужденных на 25 лет, практически нечего терять. Выступая в качестве «запала» для всех, кто этой властью недоволен — и не прочь был установить власть собственную. Как это, в общем, и произошло под конец существования СССР в национальных республиках. Когда, например, в Грузии вполне реальная гражданская война началась еще в сентябре 1991 года — между радикальным националистом-антисоветчиком президентом Гамсахурдиа — и группировками местных «воров в законе».
***
И ладно бы такое отношение к властям отмечалось только в Кенгирских лагерях! Волнения в ГДР в июне 1953 года, например, в первую очередь были вызваны пассивностью местных коммунистов. В свою очередь, спровоцированной настроениями в Москве, — а не стоит ли «сдать» Восточную Германию Западу, зачем на нее тратиться? Кстати, одним из главных сторонников такой идеи был Лаврентий Берия — за что его, при аресте, Хрущев и не без оснований назвал «агентом мирового империализма». Хотя, конечно, главной причиной ареста почти всесильного «силового вице-премьера» была все та же борьба за власть в Президиуме ЦК.
Лидеры бунта в Кенгире, в общем, не без оснований спекулировали в разговорах с переговорщиками от МВД «Абакумова арестовали, Берию арестовали — может, и ваш нынешний министр Круглов тоже «враг народа»? Только ведь во второй половине 30-х годов в стране тоже сменилось 2 наркома НКВД — Ягода и Ежов. Но о таких «кипишах» вроде Кенгирского историки что-то не упоминают. Потому что тогда «на месте» была высшая власть в государстве! А после смерти Сталина наступил почти классический «кризис верхов», когда они «не могут» (управлять по старому). К счастью, не приведший к классической «революционной (точнее — контреволюционной) ситуации», когда еще и «низы не хотят» (по старому жить). Потому что советский народ-победитель в массе своей не хотел рушить великую страну, возвращаться не то к старым царским, не то к новым-«прогрессивным» порядкам уже западного капитализма. Особенно насмотревшись на них в модификации от «арийских сверхчеловеков» — и их пособников, при Сталине по большей части изолированных в исправительных учреждениях. Правда, к сожалению, опять же большей частью выпущенных при «гуманизаторе» Хрущеве.
Так что даже вышеупоминавшийся Капитон Кузнецов, несмотря на вынесенный смертный приговор «за Кенгир», уже в 1960 году вышел на свободу — и даже дожил почти до полного торжества антисоветизма, отправившись в могилу в 1991-м. А уж о «борцах за свободу» из Западной Украины и Прибалтики и говорить нечего — о плодах работы и их лично, и выпестованного ими нацистского молодняка ныне известно, как говорится, «из каждого утюга».
Что ж, история еще раз показала, что «очаги коричневой чумы» нацизма мало «загнать под спуд», — где они будут вроде бы неопасно тлеть, в любой момент готовые выйти из-под контроля. Источники смертельно опасной заразы необходимо уничтожать полностью — во избежание ее новых вспышек даже через десятилетия, как это и происходит ныне на наших глазах…
Николай ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Молдова)





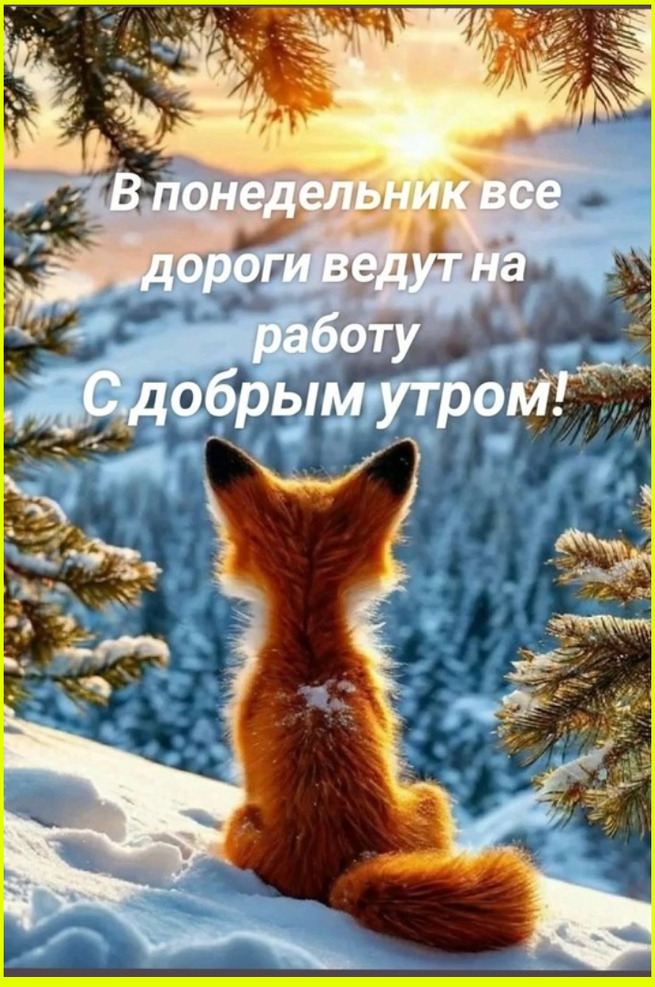





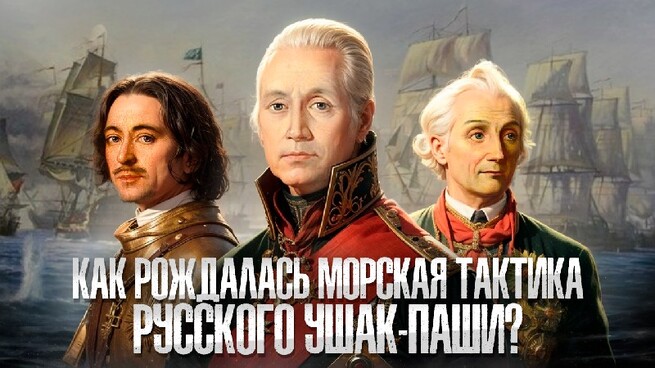

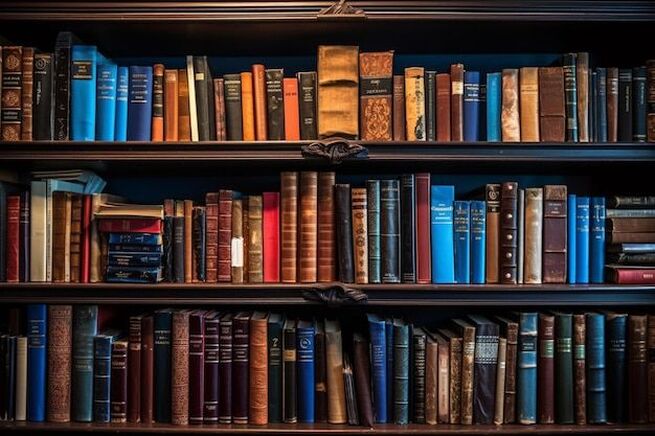







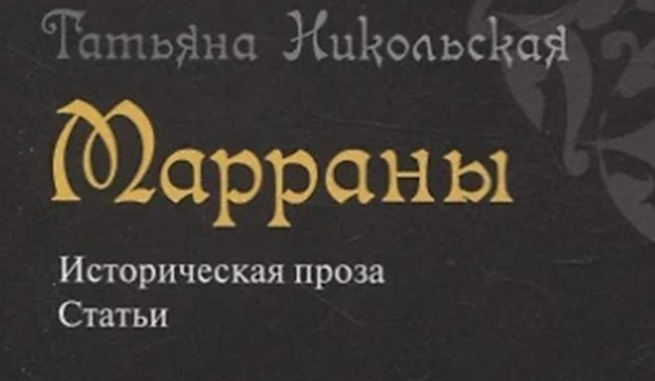






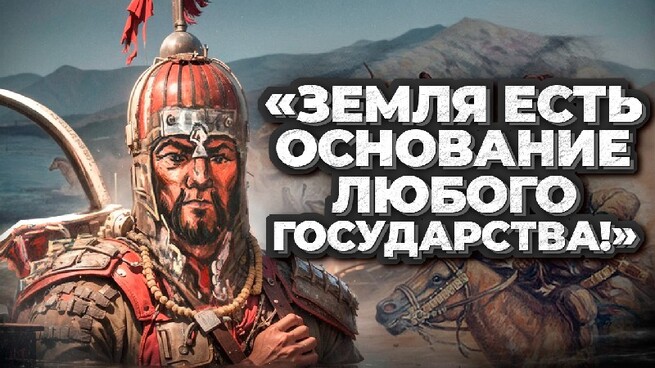

Оценили 10 человек
12 кармы