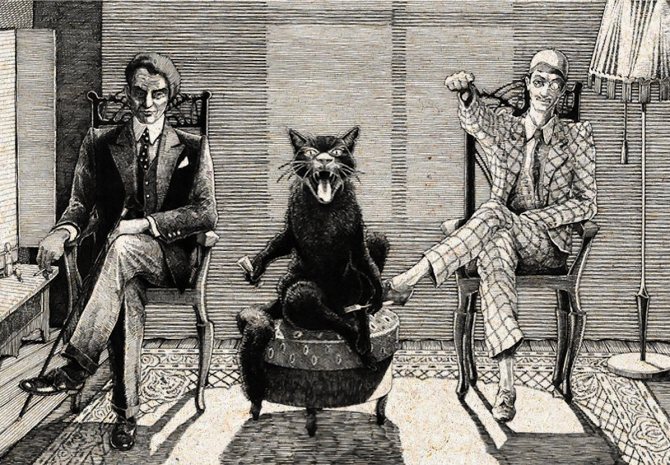
Я простой и конкретный и всегда говорил, что Булгаков в романе "Мастер и Маргарита" просто изложил художественно идеи масонства.
Если вы можете как то что то, к чему то прикидывать, то ... надеюсь...
Ещё не потерял веру в человечество)))
А вот расследование ...
ОТ ООHOO - ознакомиться по крайней мере интересно...
____________________________________________
... Что-то давно мы не гадали про политику по эзотерическим текстам, хотя бы и булгаковского Романа.
А между прочим, события продолжают несколько расслабленно протекать в полном совпадении с атмосферой затянувшейся «праздничной полуночи» из 24 главы.
Собственно, там и расшифровывать особо нечего, и так все ясно, только если знать, что Бегемот – это аватар и дух сообщества финансовой олигархии, «регент» Коровьев – представляет собой интерес и дух «временно управляющих» от имени власти. Азазелло – дух чекистской корпорации «силовиков», а покойный барон Майгель – бывший дух разрушенной корпорации двурушников-«правозащитников». Ну и Маргарита – тоже вам не девочка, а душа столичной культурной общественности.
Культурная общественность у нас, как известно, довольно наивна и пуглива. Вот и в прошлом году она удивлялась, как это чекистам удалось так быстро в одночасье взять и разрушить «протест». А всего-то и надо было конфисковать наличность из сейфов, да запретить зарубежное финансирование.
Немного позже, ближе к зиме наша культурная общественность в лице Маргариты точно так же наивно ожидает, что вот сейчас их всех придут арестовать, то есть властных администраторов и олигархов.
На что Коровьев от лица власти, не моргнув глазом,
обещает: Непременно придут, очаровательная королева, непременно!.. не сейчас, конечно, но в свое время, обязательно придут.
Это вполне совпадает с ожиданиями столичной общественности,
что вот-вот придут и арестуют хотя бы того же экс-министра Сердюкова. Только это вряд ли, а когда кого-то из этих тельцов и дельцов все же арестуют, то уже и не интересно будет.
Верю!
Воспоминания о разгроме, устроенном Маргаритой в доме Драмлита, относятся к 21 главе. С учетом известного булгаковского пристрастия к символически значимым инициалам имен Полина Петровна из 21 главы очень даже подходящий псевдоним для политической партии. Тогда в 2003 году, осенью двум политическим партиям – СПС и его соседке «Яблоку», постоянно ссорившимся на одной электоральной площадке (политической кухне), перекрыли газ. И сделала это не власть, а очень даже культурная столичная общественность, отказавшая обеим в поддержке. Если бы москвичи не отвернулись от либеральных партий, они бы преодолели 5-процентный барьер.
Затем в 21 главе был разгром дома критиков. И в 2004 году после думских выборов тоже был такой случай, когда обширное оппозиционное гнездо имени Ходорковского было изрядно разрушено после приговора по делу ЮКОСа. Для понимания иносказания из 24 главы, где снова вспомнили о Латунском и о разгроме в доме критиков, достаточно и того, что в Верховном суде снова вспомнили о делах ЮКОСа, но главное, что культурная общественность выступила против общего желания чекистов и олигархов повторить разгром дома критиков. Вполне достаточно и рутинных прокурорских проверок, если после этого раздается плач из Госдепа.
Предыдущие воспоминания Бегемота о том, как он сиживал за столом (в 17 главе), тоже относятся к временам разгрома оппозиционного Белого Дома. Так что в целом речь в начале 24 главы, то есть в завершившийся осенне-зимний политический сезон шла о том, что все ветви элиты за кулисами публичной политики друг друга пугали – арестами министров, разгоном парламента, разгромом оппозиции, но все этими подковерными угрозами и интригами ограничилось.
А вот дальше по сюжету пойдет более интересный и эффектный номер Азазелло, не глядя простреливший помеченной Маргаритой очко на игральной карте. Вообще-то, семерка пик имеет довольно устойчивое символическое значение. Это какая-то неприятная неожиданность, внезапно вскрывшиеся обстоятельства. Карта находилась под подушкой, что лишний раз подчеркивает скрытый характер этой угрозы. Однако меткий выстрел чекиста поразил верхнюю правую фигуру этой неожиданной напасти.
Из событий нынешнего сезона только кризис на Кипре подпадает в разряд такого рода неприятных неожиданностей. С другой стороны, этот кризис имеет глобальное политическое значение и должен быть, так или иначе, отражен в сюжете.
Опять же можно сравнить с предыдущим выстрелом Азазелло, когда были изъяты и частично конфискованы суммы в иностранной валюте из сейфа оппозиционеров. Так что и второй выстрел тоже должен означать что-то в этом роде. Верхняя фигура справа, оставшаяся при пиковом интересе, означает, скоре всего, либеральное крыло кремлевской элиты.
В политике традиционно «правыми» называют сторонников исполнительной власти. Тот факт, что именно правительство и его председатель громче всех ругались во время кипрского кризиса, подтверждает наши догадки.
Судя по всему, «силовики» не дали «либералам» из правительства спасти свои кипрские заначки за счет государства.
Так что и этот эпизод вполне объясним.
Но дальше следует столь же эффектная эскапада со стороны Бегемота, одним выстрелом подстрелившего сову и часы, показывающие полночь.
Мне, как владельцу обоих аватаров,
совмещенных в символике имени «oohoo», этот эпизод особенно интересен. Тем более что только что объявлено о слиянии компании СУП с Афишей-Рамблером. А этот факт однозначно указывает на опустошение сейфов и урезание бюджетов информационных проектов. Сдается, что уже в апреле мы заметим последствия этого олигархического «выстрела».
2. Продолжаем разговор
Должен разъяснить, что одной из главных тем этого журнала является толкование всего, только не в мистическом, а в философском смысле. Впрочем, если кто-то истинно верует в картезианскую картину мира, где социальные атомы стохастически и статистически образуют классы и движения, тому лучше дальше не читать.
Хотя, в блаженные «минуты роковые» сего мира даже «язвенники и трезвенники», то есть атеисты, верующие в отсутствие Бога, хотя бы на минуточку, но тоже захотят заглянуть если не в конец Книги жизни, то хотя бы в конец текущей главы. Чем все это закончится?
Вопрос только, где и как считать.
В стародавние времена,
когда История только-только начинала быть сложносочиненной, заглянуть в скрытые планы богов можно было с помощью пифий и пророков. За тысячи лет скрытый от сознания План превратился в огромный Свиток с массой разделов, героев и «линий жизни». Пророков, наоборот, поубавилось, после Нострадамуса и назвать особо некого, да и пророчества все больше темные и невнятные. Поэтому пришлось зайти с другой стороны – если некий План (глобального развития) все же существует, как вывел беспокойный старик Кант, то где он хранится?
Это раньше, в докомпьютерную эру ответ был затруднителен. А сейчас понятно, что одна и та же управляющая программа (ОС) может и должна быть загружена во все компьютеры, связанные в единую сеть. То есть План Канта (или Селдона, или Воланда, как будет угодно) находится где-то в глубинах психики каждого цивилизованного человека (насчет малокультурных народностей не уверен).
Следующий шаг рассуждений связан с проблемой психологии художественного творчества, на которой обломали зубы мудрости даже такие корифеи как Выготский или Юнг, не говоря уже прочих.
Между тем, если признать, что гениальные творцы видели образы и сюжетные линии своих произведений, интуитивно проникнув в этот самый План, то этим объясняется и тот эффект, который произведения гениев оказывают на читателей, слушателей, зрителей.
Символические образы, видимые нами привычным способом – вовне, резонируют с содержанием нашего коллективного бессознательного, и это совпадение высвобождает тонкую психическую энергию, необходимую для работы – нет, не мозга, а более тонких психических механизмов на уровне так называемых «мобильных генетических элементов» в крови. Именно поэтому мы принимаем решения в виде наших желаний сердцем, а разум – только инструмент достижения целей. Впрочем, эти подробности сейчас к делу не относятся.
Собственно, из этой философии вытекает интересная гипотеза о том, что всякое действительно гениальное произведение содержит в себе притчу – символический сюжет,
представляющий собой часть скрытого Плана, той самой Книги Жизни. Осталось только научиться правильно воспринимать и истолковывать эти самые символы. Естественно, что первым кандидатом на символическое истолкование стал тот самый Роман, в первой главе которого главный герой рассказал нам о существовании многотысячелетнего Плана, сославшись при этом именно на Канта. Далее
В апреле 2021 года на фоне организованных Фининтерном взрывов в Бостоне и Техасе прошли «смотрины пустого места» в лице Медведева на посту премьера. В сюжете 24 главы Бегемот (аватар финансовой олигархии) рассматривает на просвет пустое место во главе пиковой семерки. Пиковая политическая карта, потому что означает одни неприятности, а символическое число «семь» означает закон, законников, из которых эта команда и состоит.
К середине лета символика стрельбы в сову стала более понятной и глобальной: Никто не станет отрицать, что в праздничную новогоднюю полночь часы «Живого журнала» остановились по воле олигархического сословия (Бегемота). Но все же душевные травмы, нанесенные всему журналистскому сословию (Гелле) были быстро залечены. Но это лишь буквальная иллюстрация, а не глубокое толкование.
Сова символизирует мудрость, умение видеть скрытые темные смыслы. Слово «стрелять» имеет переносный смысл «одалживать», причем без гарантий взаимности. Предшествующий по эпизод с «выстрелом Азазелло» мы и без этой подсказки истолковали как глобальную спецоперацию по безвозвратному одалживанию финансов из кипрского оффшора. Здесь все очень даже укладывается в смыслы «семерки пик» (неприятная неожиданность), пустого места вместо знаковой фигуры во главе «семерки», то есть сословия законников, лидером которого является ДАМ.
Есть только одна формальная несообразность.
Выстрел Азазелло случился после новогодней полночи, а иллюстрация к выстрелу Бегемота вроде бы была на Новый год. Хотя и на другой, майский праздник ЖЖ еще раз отключали.
Тогда получается, что соревнование в глобальном масштабе между сословием спецслужбистов и финансистами было достаточно длительным, началось еще до Нового года, а завершилось после майских праздников. Сначала нужно парировать давление и угрозы перед инаугурацией Обамы, чтобы укрепить глобальную вертикаль финансового контроля.
Затем последовал «выстрел Азазелло» по кипрскому оффшору и тем самым по лондонскому центру финансовой олигархии.
Ответный «выстрел Бегемота» не задел знаковые фигуры в правительстве «законников», хотя и был нацелен в них.
Вместо этого был за полсекунды остановлен механизм, отсчитывающий время до «полночи». Речь, очевидно, идет о глобальной долларовой пирамиде и ее накачке.
Во всяком случае ЦБ России был по итогам этого раунда политической игры выведен из вертикали Фининтерна ФРС-МВФ-ЦБ и переподчинен системе глобального финансового контроля под Обамой.
В таком случае убиение «совы», то есть системы наблюдения за всеми скрытыми от глаз процессами, вполне может ассоциироваться с разоблачениями Сноудена. АНБ – вполне себе «сова» глобальных масштабов, а одолжившие без возврата Сноудена лондонские финансисты смогли убить эту «сову», чтобы лишить опоры финансовый глобальный контроль. В свою очередь, спецслужбистское сословие охотно одолжило все необходимое против чрезмерно усилившихся коллег. А то иначе зачем нужны прочие службы? Такое глобальное толкование соревнования в стрельбе по скрытым мишеням более соответствует масштабам эпического пророчества. А что там у нас дальше?:
«Веселый ужин продолжался. Свечи оплывали в канделябрах, по комнате волнами распространялось сухое, душистое тепло от камина. Наевшуюся Маргариту охватило чувство блаженства.»
Иронию Автора насчет веселого времяпрепровождения столичной культурной элиты (Маргариты) можно уловить и без подсказок. Напомню читателям «MMIX» и «Бала!», что Булгакову пришлось, кроме употребления библейских и евангельских символов, изобретать новые для современных реалий. Так, технология распространяемого волнами телевидения обозначена в Романе символом камина. А канделябры означают компьютеры. Помните, с гнездами в форме птичьих лап для USB?
Символика свечей с библейских времен не изменилась, речь идет о светильниках разума, то есть ученых книжниках. Похоже, в Романе учтен и этот актуальный сюжет с оплывшими, то есть утратившими форму академиками, чье недовольство транслирует Интернет, но не ТВ.
«Ей никуда не хотелось уходить, хотя и было, по ее расчетам, уже поздно. Судя по всему, время подходило к шести утра».
Что уж тут скрывать, культурная общественность склонна к отношениям с властью по расчету. Но выборные кампании все реже и скоротечнее, и можно опоздать со своими желаниями и просьбами. Вот и сейчас, похоже, культурная общественность, несмотря на сытость и даже минутное блаженство, не получит морального удовлетворения, не говоря уже об исполнении заветных желаний. С этим все тоже ясно, осталось понять, что значит символическое число шесть в таком контексте. Вообще-то библейская шестерка означает разделённость, отчуждение. То есть по расчетам московской культурной общественности ее веселое времяпрепровождение с нынешней политической элитой близится к концу, к взаимному расставанию и окончанию «темных времен».
Что и говорить, подтверждаем: именно такие желания и настроения имели место в светских кругах Первопрестольной! Однако, судя по дальнейшему сюжету 24 главы, эти ожидания не сбудутся, как не сбылись недавние ожидания, что вот-вот всех этих властных администраторов и олигархов начнут сажать. (Иначе зачем же за ними так усиленно следили?)
«Ее нагота вдруг начала стеснять ее.» В библейских и евангельских притчах символ одежды означает знания о добре и зле, а нагота – соответственно, их отсутствие. И в самом деле, раньше отсутствие знаний о социальной реальности столичную общественность особо не тяготила – «зачем география, когда есть извозчики» в лице власти, которая щедро оплачивает ее соучастие в политических играх.
Итак, мы собрали в одном месте все толкования за прошлый год. Теперь можно будет перейти к нынешним бурным событиям.
3. Дым кольцами
Самое сложное в толковании притч и пророчеств – не забегать вперед и не пытаться следовать буквальным или упрощенным прочтениям. Некоторые из таких пророчеств (Апокалипсис, Нострадамус) нарочно устроены с двойным дном – сверху ужасы, а в глубинном символическом слое – наоборот. Те, кто верит в торжество смерти и в силу страха, кто движим Танатосом, а не Эросом гарантированно попадают в эту ловушку, как Наполеон, Гитлер. Или тот же Чубайс в 1999 году дожидался ровно до 11 августа, чтобы выйти в эфир со своим ФЭПом. Тут его и обошли на повороте.
Когда же важные события случаются, толкование пророчества становится легким. А до этого момента не всегда ясно, насколько значимым будет даже запланированное мероприятие. Так, еще за пару месяцев до сочинской Олимпиады отношение к ней было скептическим – ну, проведут, ну, выступят на троечку с плюсом, хорошо, если на 4. Но выступили на пять с плюсом, и плюс в виде мирового шоу в честь России и русской культуры оказался чуть ли не весомее спортивных и организационных баллов. И все это на фоне украинского и глобального кризиса, тоже пока складывающегося удачно для России, тьфу-тьфу.
Вот теперь нам не уйти от обязанности найти в 24 главе символику, которая на эти важные события указывает. Иначе никакое это не пророчество. Если там что-то похожее на олимпийскую символику? Пожалуй, только кольца в этом фрагменте:
«Она глядела, как сизые кольца от сигары Азазелло уплывали в камин и как кот ловит их на конец шпаги».
Напомню, что символ камина мы опознали как телевидение – такой же экран прямоугольный, где происходит горение – в библейской символике это толкование. И в самом деле – именно из «ящика» транслируются всевозможные толкования информации для большей части публики, включая культурную общественность.
Сизые кольца имели место быть в телевизионной картинке открытия Олимпиады. Символ сигары не встречается ни в Библии, ни в литературном контексте Романа, так что придется толковать его в общекультурном контексте как символ крупного капитала, как правило, американского происхождения или образца. Акцент на американском кольце в церемонии открытия был сделан, но вероятнее другой смысл. Олимпийская корпорация и вообще крупные госкорпорации обеспечили проведение Игр, находясь под контролем, то есть в руках чекистской части политической элиты (аватар – Азазелло).
Что означает шпага, да еще в лапах Бегемота? Во-первых, это оружие, во-вторых – используется внутри камина, то есть в информационном поле. То есть подтверждается уже известное нам толкование шпаги в руках Воланда, она же – исходящий из уст обоюдоострый меч в иных пророчествах. Бегемот – аватар финансовой олигархии, которой принадлежит большая часть СМИ, ловивших каждую новость из Сочи для комментариев и интерпретации в нужном ключе, ну и чтобы заработать на рекламе тоже.
Во время Олимпиады, между церемониями открытия и закрытия все внимание почтенной публики было к спортивным состязанием, а не к культурной общественности столицы (аватар – Маргарита), хотя сама при этом присутствовала. «Ей никуда не хотелось уходить, хотя и было, по ее расчетам, уже поздно. Судя по всему, время подходило к шести утра». Эту символику мы уже, слегка поспешив, но разобрали. Можно лишь уточнить, что для столичной культурной публики успех Олимпиады выглядел, скорее, как выход из кризиса на пути приобщения к западной цивилизации, где для нее до сей поры восходило солнце. Пора, пора, размежеваться и расстаться с этой властной элитой.
«Воспользовавшись паузой, Маргарита обратилась к Воланду и робко сказала:
- Пожалуй, мне пора... Поздно».
Пауза в олимпийском представлении действительно имела место с 24 февраля по 6 марта. Именно в этот период в Киеве произошел захват власти прозападными силами, и для московских либералов это тоже был сигнал к робкому, но все же самоопределению. Но было уже действительно поздно.
«- Куда же вы спешите? - спросил Воланд вежливо, но суховато. Остальные промолчали, делая вид, что увлечены сигарными дымными кольцами».
Молчание Путина и всей российской политической элиты действительно было одним из самых показательных эффектов этой многозначительной паузы. Все и в самом деле делали вид, что увлечены исключительно итогами Олимпиады.
Вместо слов политиков заговорил Творческий дух Истории, его мысли и слова воплощены в реальных событиях, говорящих всем и все, как надо – вежливо(!), но суховато. Нужно напоминать кому-либо, что слово «вежливые» стало одним из самых востребованных в СМИ и блогах во время кризисной паузы в связи с событиями в Крыму. Слово «суховато» тоже вполне характеризует эту выдающуюся военно-политическую операцию – совсем без крови, и даже без единого выстрела. Везде бы так.
« Да, пора, совсем смутившись от этого, повторила Маргарита и обернулась, как будто ища накидку или плащ. Ее нагота вдруг стала стеснять ее. Она поднялась из-за стола. Воланд молча снял с кровати свой вытертый и засаленный халат, а Коровьев набросил его Маргарите на плечи». Эту символику мы тоже успели разобрать еще в прошлом году, безотносительно к событиям. Но более точная привязка соответствует реальному психологическому состоянию московской культурной публики. На нее и на ее реакцию действительно перестали обращать внимание. И более того, понятия добра и зла (то есть символически – одежда), без которых она уже привыкла обходиться, вдруг понадобились, чтобы сориентироваться в создавшейся ситуации. Если пролистать все написанное записными столичными публицистами и культурными блогерами, то вряд ли найдем что-то, кроме «мы за все хорошее и против всего плохого, обосновать не можем, но власть поддерживать не будем из принципа». Так сказать, встали из-за стола, неплохо их кормившего до сих пор. Обращение к ветхозаветному тезису «не убий» стало временной накидкой. Очень правильное слово у Автора, ну не постоянно же к десяти заповедям обращаться? Только когда нужно спрятаться за одной из них от самих себя.
Почему набросил накидку именно Коровьев – аватар властных администраторов? А разве «марш мира» не по соизволению АП и мэрии состоялся. И разве Макаревич и Ко, кормящиеся за столом у властей, настолько смелые? Нет, конечно.
« Благодарю вас, мессир, чуть слышно сказала Маргарита и вопросительно поглядела на Воланда. Тот в ответ улыбнулся ей вежливо и равнодушно. Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Маргариты. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды за все ее услуги на балу никто, по-видимому, ей не собирался предлагать, как никто ее и не удерживал».
Такое прямое обращение к Творческому Духу уместно лишь в религиозные праздники. Если это указание на конкретное время, тогда и «поднялась из-за стола» может указывать на начало Великого Поста. Самый заметный из ближайших праздников, обычно отмечаемых московской культурной публикой, – это Пурим 16 марта. В этом году этот праздник был чуть слышен вовне, но вопрос в глазах публики читается. Тут снова повторяется слово «вежливо», как бы намекая на завершение операции с участием «вежливых людей» в Крыму, при полном равнодушии к мнению этой столичной публики.
Что касается «услуг» культурной общественности на балу, созвучном Болотной, то этой публике и в самом деле несложно почувствовать себя проигравшей и обманутой. Ждать в марте 2014 года награды за антипутинские настроения в 2012-м даже странно.
«А между тем ей совершенно ясно было, что идти ей отсюда больше некуда. Мимолетная мысль о том, что придется вернуться в особняк, вызвала в ней внутренний взрыв отчаяния. Попросить, что ли, самой, как искушающе советовал Азазелло в Александровском саду? "Нет, ни за что", сказала она себе.»
Тут даже особых комментариев не нужно к настроению столичной публики. Символы особняка – возвращения к автаркии советского образца или к верноподданнической монархии, тоже понятны.
« Всего хорошего, мессир, произнесла она вслух, а сама подумала: "Только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».
Снова прямое обращение, намекающее на религиозный праздник, связанный с прощанием (исходом), возможно, Песах, то есть 15 апреля. Но это опять догадки. Желание выбраться отсюда, да еще и утопиться, тоже намекает на праздник Исхода. Но кроме библейских ассоциаций, есть и более современные, если связать желание нырнуть в реку с уже случившимся купанием Маргариты в 21 главе. Других купаний у нее не было, и вообще купаний было два, еще у Иванушки в 4 главе.
Полет Маргариты в 21 главе мы разбирали в тексте «MMIX», точно вычислив его направление в сторону Киева. В 24 главе нам встречался такой же намек Бегемота на события другой, 17 главы «сиживали за столом». Соответственно, направление мечты «выбраться отсюда» вполне совпадает с таким же интересом московской публики времен еще не «коричневой», а только «оранжевой» «революции».
« Сядьте-ка, вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?»
Опять же, даже насчет событий апреля-мая пока приходится гадать. Но если часть культурной общественности действительно изойдет в сторону Киева или далее к югу и к западу, то лицо московской культурной общественности изменится.
« Нет, ничего, мессир, с гордостью ответила Маргарита, кроме того, что если я еще нужна вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно предоставила бы мое колено для того, чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц, Маргарита глядела на Воланда, как сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.»
Опять прямое обращение и намек на религиозный праздник скорбного содержания, то есть на православную Пасху, кажется, в этом году 20 апреля. Однако, готовность столичной публики к участию в мероприятиях типа «Болотной», да еще с участием тысяч висельников и убийц, то есть как в Киеве, несколько настораживает. Кроме того, в таком контексте «изменение в лице» угадывается весьма вероятно – от либеральной фронды к националистической, других вариантов нынче и нет.
Пожалуй, на этом предупреждении стоит остановиться, чтобы не залезть в дебри пустых гаданий. Единственное, там дальше будет знаменитое «Никогда ни о чем не просите!» Может быть, речь идет о том, что желания изменившейся столичной публики будут удовлетворены и без всякого бунта? Поживем – увидим!
4. Вид из Зазеркалья
Даже в толковании пророчеств торопиться и забегать вперед – вредно, обязательно ошибешься в интерпретации символики. Просто потому, что примериваешь на реалии сегодняшнего дня, а они могут измениться в считанные недели, как ситуация в отношениях великих держав вокруг Киева и Крыма. С другой стороны, очень хочется узнать, как все сложится, потому и пытаемся угадать, как в целом понятные символы сложатся в новую мозаику в ближайшем будущем.
Скажем, резкий разворот от показного равнодушия к благосклонности Воланда после фраз «Никогда ни о чем не просите!» и «Сами предложат и сами все дадут» в целом понятен, потому что при толковании можно опираться на существующие тренды. Все четыре олимпийских шоу на стадионе «Фишт» в Сочи указывают на особое значение культурной политики. Публичное, на весь мир обращение Путина к понятию «Русский мир» в контексте ранее заявленной на словах политики тоже опирается на культурную общность. Кроме того Путин заявил об условной поддержке киевского майдана в цивилизованной части его требований, что тоже не случайно. Поэтому разворот судьбы к московской культурной общественности неизбежен, хотя и обусловлен для нее изменением лица.
После того как Маргарита и в ее лице московская общественность станет «соображать что-то», первым ее желанием станет амнистия для Фриды, которой перестанут подавать платок. В приложении «Бал!» мы уже разъясняли, что Фрида – это аватар широкой либеральной партии, к которой за двадцать лет до болотного Бала декабря 2011 года принадлежала вся московская культурная публика. То есть в лице Фриды Маргарита узнала себя двадцатилетней давности. Задушенный в декабре 1991 года либеральной партией новорожденный конфедеративный Союз, порожденный именно московской группой депутатов СССР, был тогда всего трех месяцев от роду. А средство, которым новорожденный был удушен, это беловежский договор, он же сговор. Этим сговором и убийством великой страны Фриду, то есть либеральную общественность, попрекают, действительно, ежедневно.
Получается, изменившаяся в лице столичная общественность способна сама решить вопрос с платком? Возможно, речь идет о денонсации Беловежья? Гадать на эту тему рановато, но кое-какие звоночки уже прозвучали. Сначала стала известна позиция Путина о не вполне законном выходе союзных республик из СССР. Затем уже «революционный» Киев сам заявил о выходе из СНГ, то есть об отказе от собственного детища. А в этом случае беловежский договор становится уже никому не нужным.
Повторю, при всех очевидных трендах, все это пока гадания, а не предсказания. И двигаться далее по тексту пророческого Романа с детальным разбором нет смысла. А не детальное, самое общее истолкование уже было сделано в «MMIX». Однако, как кто-то может быть помнит из приложения к этой книге, у нас есть еще запасной вариант пророчества в виде трилогии Азимова «Основание» (“Foundation”), в других редакциях перевода – «Академия». Тогда же, в 2009 году мы основную линию этой притчи раскрыли в приложении «Appendix B» и нашли множество совпадений с узлами и сюжетами истории США.
В этой связи важно вот еще что: булгаковский Роман – это притча и пророчество о судьбе России, и повороты сюжета, каждое слово отражает отношения между основными общественными силами России, сосредоточенными в Москве. Внешний контекст, даже события в близком Киеве остается на периферии внимания. Аналогично в азимовской Трилогии спрятана притча и пророчество о судьбе американской элиты, но хотя бы в силу экстравертности этой элиты, действие происходит не только и не столько в столице (на Терминусе), а во внешнем политико-экономическом пространстве Галактики, где есть место плоским, типично американским проекциям Киева и Москвы (или Питера, не сразу поймешь). Но начнем мы не с последнего «императора Галактики» на Неотренторе, а с Калгана и Мула.
Когда мы в 2009 году впервые обратили внимание на параллели сюжетов Трилогии и американской истории, Обама только-только начинал свое правление. Поэтому, несмотря на очевидную ассоциацию мулата с именем Мула, надежных параллелей не было. Разве что неясное происхождение с курортного острова, ранее бывшего экзотическим королевством, а потом после революционной диктатуры местных «республиканцев» присоединившихся к Штатам. В этом смысле штат Гавайи вполне соответствует Калгану из «Основания».
Сегодня, пять лет спустя, вполне можно говорить о большем числе совпадений в характеристиках правления и поведения фантастического Мула и реального мулата Обамы. Экзотическая для президента США внешность, привлекающая всеобщее внимание – это само собой, но политика важнее, как и умение влиять на политиков, перевербовывать и подчинять влиятельные группы и центры силы непривычному для Америки стилю и методам.
Мул появляется в «космическом» пространстве внезапно, ниоткуда, и захватывает корабли, переподчиняет себе боевые порядки. Но и Мулат тоже выскакивает, как чертик из телевизионного ящика, захватывает пространство масс-медиа, оттеснив сильнейшие из старых политических кланов. Сначала захватывает демократическую электоральную машину, а потом при помощи «чайной партии» подрывает изнутри и побеждает на выборах «великую старую партию». При этом сила мулата в «виртуальных войнах» заключается в его видимой политической слабости, тщедушности, отсутствии явных связей с сильным кланами. Однако никто не отрицает его ораторских способностей, умения играть на эмоциях не только публики, но и политической элиты. Но эти большие способности мулат включает лишь изредка, в критические моменты.
За пять лет Обама успел подмять, подчинить своей линии не просто политиков, но огромные сектора экономики, как ВПК. Ну, или наоборот, экономические элиты нашли в его лице кризисного менеджера. Азимовский Мул прекращает реальные войны, хотя и поддерживает военную тревожность, внешнеполитическую напряженность, но взамен отказа от милитаризма продолжает сполна финансировать ВПК. И то же самое делает мулат в Белом доме. Мул не следует за интересами элит Академии, а сам ведет активные поиски во внешней политике. Но точно такой же стиль изначально был и у Обамы, искать союзников вовне, чтобы преодолеть раскол элит у себя дома. Кстати, да, раскол элит на грани гражданской войны – это тоже сходство моментов появления Мула и мулата.
В ходе активных внешнеполитических действий Обама, как и Мул, столкнулся с «партизанским» противодействием собственных спецслужб, что выразилось в побеге и откровениях црушника Сноудена. Однако в конечном итоге общий язык удалось найти, американские чекисты следуют курсом Обамы, а может быть наоборот – Обама обошел их на повороте и теперь ведет за собой. То же самое сделал и Мул с капитаном Притчером.
Конечно, есть и несовпадения. Мулат не имеет фантастических способностей, он женат и имеет детей, а Мул бесплоден. Но в том-то и дело, что мулат Обама – это лишь лицо, представляющее некую общественную силу, обладающую всеми свойствами своего аватара Мула. Если трактовать символические образы так же, как и в булгаковском Романе, то все сверхъестественные для человека качества для сообщества будут вполне понятными.
Однако сначала еще раз посмотрим на сходство и немного различий в команде корабля или даже эскадры с участием Мула со свитой Воланда. У Мула тоже есть в свите, кроме чекиста Притчера (визави нашего Азазелло) муж и жена, Торан и Байта. Точнее, это сам Мул в качестве одного из пассажиров находится в свите уважаемого ученого Эблинга Миса. Муж, он и в Америке – аватар властного сословия администраторов. А вот жена – немного отличается от московской непостоянной Маргариты, и ближе к постоянной спутнице Фагота – Гелле. Наверное, это потому, что в Америке культура массовая и де факто слита с масс-медиа. Собственно, поэтому там нет надобности хвататься за пистолет при этом слове, культура там не выпускает из рук оружия и привыкла к голливудскому антуражу типа звездных войн.
Американский творческий дух вполне исчерпывается образом солидного ученого, психолога. С учетом контекста поисков законов науки будущего – психоистории, этот персонаж составляет неплохую пару московскому историку. Впрочем, в Москве не только спутницы две, но и историка тоже два – мастер и Воланд.
Ну и, наконец, осталась всего одна пара – это Мул и Бегемот. Оба, между прочим, лучшие шуты в своих мирах, оба могут принимать человеческий облик, но все равно оба – не вполне человеки, как минимум – мутанты. Сам же Мул о себе распространяет эти слухи как о диком звере, к тому же прозвище у него тоже зверское. Так что мы можем смело предположить, что Мул – это аватар если не финансовой олигархии, то некоего порождения таковой. Опять же в природе мул – это помесь лошади и осла, а раньше мулом называли вообще любой гибрид, до широкого употребления слова «гибрид».
Что касается Обамы, то как политик – он действительно некий гибрид «осла» и «слона», демократов и республиканцев. Его восхождение в качестве лидера «третьей силы» связано, прежде всего, с финансовым кризисом и глубоким расколом в элите США. Милитаристы, до того тесно связанные с рокфеллеровским крылом финансистов, попытались взять реванш за поражение в начале 1990-х, после распада СССР. Для милитаристского крыла элиты выборы 2008 года были чуть ли не последним шансом вернуть себе инициативу, но развязанная война в Южной Осетии не задалась, а финансисты – и ротшильдовцы, и рокфеллеровцы впервые сделали общую ставку на «темную лошадку» во главе государства и спецслужб для решения общих кризисных проблем.
То есть на самом деле Мул, в смысле команда Обамы – это политический гибрид, объединивший интересы финансистов из обеих ведущих партий. С их помощью стали возможны маневры в стиле Обамы – формирование широких политических коалиций для решения антикризисных задач и переподчинения «объединенному штабу» финансистов всех административных, масс-медийных, спецслужбистских ресурсов. А поскольку именно финансовые круги вместе с масс-культурой и научными кругами первыми проникают и начинают влиять на политические элиты других стран, предваряя спецслужбы, то символическая картина экспансии этого авангарда описана Азимовым достаточно полно и точно.
5. Недоимперия
Судя по очень даже символичным совпадениям сюжетных линий Трилогии и характера «героев» - движущих сил американской истории, Азимов – тоже один из пророков современности, как и Булгаков для России. При этом не стоит забывать разницы в условиях их работы. Булгаков писал в стол для себя, точнее – для Творческого духа, поэтому каждое слово Романа имеет символическое значение. Азимов писал для массового читателя, стремился привлечь его научно-фантастическим антуражем, так что символическими являются лишь основные образы и повороты сюжета. И тем не менее, из-за экспансионизма и гегемонизма Америки эти повороты достигают границ России.
Еще добавим о природе азимовского пророчества, скорее неосознанного – он начал писать футуристическую историю фантастической Академии, используя как образец историю Штатов. Первые повороты и узлы развития повторяют сюжет образования государства, созданного энциклопедистами 18-го века под влиянием федералистских идей и гуманистических пророчеств Иммануила Канта. «План Селдона» имеет поэтому однозначный прототип в виде философского «плана Канта».
Но в том-то и дело, что план всемирной истории, включая американскую, - это объективно существующее содержимое «коллективного бессознательного». Писатели и художники, как и пророки древности, видят вовсе не будущее время, а планы истории на будущее, «книгу судьбы». Зацепившись внутренним взором за начальные сюжеты американской истории, Азимов и далее, во второй и третьей книге продолжил следовать этому плану в «свободном» полете фантазии. Свободном от сознательных установок, но не от бессознательных программ. Теперь, когда описанные семьдесят лет назад повороты истории начали сбываться один за другим, мы можем убедиться в правильности этих выводов о природе пророчеств и великих романов.
Только нужно помнить, что символический мир Трилогии Азимова описан строго на основе коллективных психологических установок американского народа и его элиты. Для них весь Старый Свет – это далекая и архаичная Империя, не различая Европу, Россию, Ближний Восток. Не очень-то интересует их и такая подробность, что именно Российская империя своим вооруженным нейтралитетом способствовала независимости Штатов. Наоборот, после выхода Терминуса, то бишь САСШ из вековой изоляции, они обнаружили Россию в центре имперских противоречий Старого Света, а в 20-м веке именно Россия под именем СССР стала главным соперником заокеанской Антиимперии. Однако американской элите было недосуг разбираться в философских тонкостях и в том, что именно СССР был второй Антиимперией, выстроенной по «Плану Селдона», то бишь Канта.
Фантастический образ Трентора – имперского центра, зашитого в стальную броню, где в подземных тоннелях бдят миллиарды имперских бюрократов, военных и чекистов – вполне соответствует представлениям американцев об «имперском» СССР. И точно так же образ постсоветской России, якобы проигравшей в холодной войне, вполне совпал с образом «побежденного» Трентора в упадке, ставшего экспортером металлолома и превращающегося в отсталый аграрный мир. И тем не менее, авангард элиты США снова стремится сюда, на Трентор, в лице Мула в упряжке финансовой олигархии, цифровой (Байта) масс-культуры, международных чиновников (Торан), политически ангажированной части ученого сообщества (Мис).
Политические характеристики России с точки зрения американцев – это главный признак для сопоставления с символикой Трентора. Но есть и определенные созвучия – название обитаемого мира латинизированное, предыстория Трентора – от республики к империи тоже навеяна Римом. Самая близкая из исторических аллитераций – это Тренто с его Тридентским собором и Контрреформацией. Однако и Россия является нынче центром контрглобализации, консервативной культурной революции. Тринити (Троица) и Третий (Рим) тоже вполне различимы в обертонах имени Трентора.
Однако, на пути к Трентору и к тайне «Второй Академии» Мул с компанией делает вынужденную остановку на Неотренторе, где сохранился осколок старой имперской династии. Мы и в прошлый раз обнаружили схожесть этого деградировавшего до аграрно-промышленного мира с Украиной. Опять же, если Трентор – Россия, тогда Неотрентор – это «Новороссия», хотя это совпадение может быть случайностью. Более важны именно политические характеристики постсоветской Украины. Деградация до аграрной державы – не самый значимый признак, ибо таких стран в Восточной Европе много.
Более значимым совпадением является, как раз, амбициозное сохранение имперских форм. Во-первых, сама Украина – это порождение Российской и Советской империй, объединивших воедино этнически разнородную мозаику регионов. Во-вторых, методы внутренней политики постсоветской Украины – однозначно имперский диктат центра над отчужденными окраинами. На Украине, как и в Прибалтике или Молдавии, сохранились советско-имперские пережитки в виде «позитивной дискриминации» русских. В самом Союзе это троцкистское наследие было компенсировано централизованным ВПК и союзной вертикалью экономики и образования, куда канализировалась энергия русского и смешанного населения, формируя новую современную русскую культуру. После роспуска Союза на Украине и в других имперских осколках сохранилась самая дурная часть традиции «совка» ущербная дискриминация носителей русской культуры.
В-третьих, и это значимо только для Украины – именно здесь у власти сохранялся до 2010 года «днепропетровский клан» наследники брежневского руководства СССР. Пара образов – старый маразматик на троне и брутально наглый регент-наследник вполне соответствуют двум поколениям местной элиты. Поклонники Азимова безуспешно пытались понять смысл имени последнего императора династии Дагоберта IX. А вы сами попытайтесь воспринять и транслитерировать на любой другой язык слово «Днепропетр…» ну, в общем, вы поняли.
Не менее важной политической характеристикой является олигархический характер политической системы – всем от имени власти заправляет и манипулирует крупнейший землевладелец. Ну и, наконец, после политической операции с участием Мула (то есть администрации Обамы) в 2010 году власть поменялась. Ставленником обоих крыльев англо-саксонской финансовой элиты стал бывший наемный менеджер при богатейшем олигархе страны. Даже его имя – Инчни, вполне созвучно имени Януковича, а уж его профессия – руководитель автохозяйства совпадает на все сто.
Конфликт на Неотренторе возникает из-за грубости и самоуправства молодого поколения «днепропетровской элиты». В нашей реальности такой конфликт тоже есть – один из видных представителей клана попал в американскую тюрьму, а его протеже по прозвищу «оранжевая принцесса» вступила в сговор с «Газпромом». По этой причине в 2010 году американцы из стана «рокфеллеровцев», стоящие за Ющенко, сделали вынужденную ставку на союз с «донецкими», за которыми стоят интересы Лондон-сити («ротшильдовцы»). Так что реальный сюжет вмешательства объединившейся финансовой олигархии (Мула) в дела ближайшего к России осколка империи вполне соответствует. Хотя речь в этой главе «Смерть на Неотренторе» идет о делах четырехлетней давности. Однако именно ставка империи Мула на Инчни-Януковича была стартовым условием нынешнего кризиса.
6. В поисках отмычки
Последние четыре главы второй книги Трилогии, если наша гипотеза верна, соответствуют периоду 2010-12 годов, когда Россия (Трентор) была не просто в фокусе внимания Мула и американской элиты, но все они орудовали здесь, как у себя дома.
Небольшая 23 глава не слишком содержательна, просто описывает политическую ситуацию на Тренторе (в России) глазами американцев. Здешняя элита расколота на группы, утилизирующие остатки былой мощи в ходе деградации от промышленного уклада к аграрно-сырьевому. При этом каждая группа состоит на связи с внешними силами в рамках торговых и политических сетей на месте бывшей империи. Но эти сети, хотя и автономны, все – так или иначе под контролем Основания.
В радушно встретивших прибывших лидеров сверхдержавы аборигенах во главе с Ли Сентером легко угадать «либеральный центр» российской элиты во главе с Медведом. Тот факт, что эта либеральная группа состоит в той же сети, что и неонтренторский (новороссийский) Инчни-Янукович, строго совпадает с политическими реалиями. Не менее впечатляющим является и то совпадение, что именно в этот период правления Медведева и после визита Обамы в Москву в 2009-м начинается известная затея с центром «Сколково», главной задачей которого было обеспечить доступ американских партнеров к интеллектуальным ресурсам России. В сюжете Трилогии интерес экипажа флагманского звездолета ровно тот же – единственной значимой целью посещения были знания, хранящиеся в запущенном, но все еще бережно хранимом и авторитетном имперском Университете.
Следующая глава повествует поначалу о трудностях налаживания быта ученого в странных условиях Трентора. При президенте Медведеве стартовал этот новый для России тренд – приглашения ведущих ученых из-за рубежа на высокооплачиваемые должности и мегагранты, сначала в Сколково, потом в ведущих университетах. Вообще российская или постсоветская научная диаспора на Западе стала одним из главных объектов и каналов влияния на российское общество, поскольку либеральные ценности и прочие их носители резко потеряли свою привлекательность после 2008 года. Так что символическая фигура ученого, работающего в университете на Тренторе, отражает, скорее, эту заинтересованную в России часть в целом космополитичного ученого сообщества, лояльного США и Западу в целом.
Основной сюжет 24 главы связан с присоединением к работающему на Тренторе авангарду полковника Притчера как образа спецслужб, ставших лояльными Мулу. Бравый шпион докладывает о тайных технологиях, составляющих секрет влияния Мула. Если совсем коротко – то это манипулирование элитами и публикой на основе управления эмоциями. Ничего фантастического в этом нет, поскольку так называемый «демоспик» - это эмоционально окрашенный словарь политического жаргона, обязательный к употреблению всеми журналистами, публицистами, политиками, если они не хотят выпасть из «обоймы» и не числиться маргиналами.
Другое дело, что для эффективности такой технологии нужно при помощи спецслужб обеспечить единообразие «демоспика», а потому нужен негласный контроль над всеми олигархическими медиа-холдингами. Как раз в конце 2010 года и весь 2011-й в Британии разгорался скандал вокруг таблоида News of the World, вторжения в личную жизнь граждан, но больше в политическую жизнь Даунинг-стрит этого дрендноута медиа-империи Мердока «News Corporation». По итогам скандала с показательной поркой богатейшего медиа-магната вся западная пресса по сей день ходит строго в ногу с идеологической линией Госдепа.
Однако, разумеется, этому выстраиванию в стройные ряды масс-медиа должна были предшествовать аналогичная консолидация в рядах западных спецслужб, которые раньше вовсе не горели желанием ходить строем под единым командованием. Но кризис – не тетка, для политического выживания глобальные элиты следуют заветам либералов из России: «возьмемся за руки, чтоб не пропасть по одиночке». Привести все западные спецслужбы к единому знаменателю удалось в ходе «арабской весны», и особенно кризиса в Ливии летом 2011 года, где именно контакты европейских спецслужб с разными частями клана Каддафи обеспечивали дивиденды для правящих элит Старой Европы. Так что убийство в Бенгази посла США в январе 2012 года можно считать запоздалой местью этих спецслужб. И кстати, ливийский кризис напрямую связан с позицией Кремля при президенте Медведеве, то есть отражает факт политического контроля Мула над этим, либеральным сектором «Трентора». Последовательность перехвата контроля ровно та, как отражено в сюжете 23-24 глав книги «Foundation and Empire».
Воссоединение всех членов команды Мула, включая полковника, на Тренторе, под сводами университетской библиотеки символически отражают направленный интерес всей американской элиты к России и к московской культурной публике перед президентскими выборами 2012 года. Это вылилось в тот самый болотный Бал, напророченный в Романе Булгакова. Однако из сюжета азимовского пророчества, отражающего расклад сил и отношения в американской элите, видно, что лояльность спецслужб весьма условна, она работает, пока есть господство «демоспика» в глобальном информполе. Отношения между спецслужбами и международными чиновниками (Госдепом) оставляют желать лучшего. Мешать спецслужбы не стали, но и помогать тоже. Возможно, это и стало той главной причиной, по которой Путину и местным олигархам удалось договориться, а потом слить протестную волну, несмотря на открытые угрозы госсекретаря Х.Клинтон сорвать инаугурацию.
Финальная глава второй книги повествует о поисках следов Второй Академии и ключей к ее тайне. Толковать символику «Second Foundation» можно двояко: во-первых, речь идет о будущей науке психоистории и ее носителях, в отличие от естественных наук и ее адептов-энциклопедистов, бывших основателями Первой Академии. Во-вторых, через эту связь с основателями вытекает, что именно США, основанные масонами, являются первым Основанием, первой попыткой реализовать «план Канта» всемирной федерации народов и граждан. Однако, в таком случае второй попыткой, Вторым Основанием или Федерацией такого рода стал исторически Советский Союз.
По правилам толкования притч, если есть две или больше логичных интерпретации, то верны обе – каждая в своем контексте. Причем первый контекст – о судьбе новой гуманитарной науки практически совпадает с основным слоем скрытого смысла булгаковского Романа. Если верно толкование в «MMIX», то верен и скрытый смысл поисков «Второй Академии» на Тренторе (то есть в России). Это мы уже давно и подробно разбирали в приложении «Основания Истории».
Что касается второго, геополитического подтекста, то страх американской элиты перед возможным возрождением конкурента, реинкарнацией СССР очевиден. Та же Хиллари тому порукой, проговорилась. Казалось бы – братья-масоны все, что могли, уже разрушили из того, что сами помогали выстроить – и компартию, и советскую власть, и ВПК с КГБ, а уверенности никакой. Советского Союза уже четверть века как нет, а судя по реакциям не только русского, но и других народов, его ценности по-прежнему живы. И то, что в предыдущей главе паяц Магнифико (то есть Мул) занимается просмотром старых «имперских» фильмов и телепрограмм: не в них ли тайна «Второго Основания»? – свидетельствует в пользу второй версии.
Не случайно сюда же приурочен рассказ Притчера об информационно-психологических технологиях обработки и манипуляции, как и его осведомленность о поисках «Второго Основания». Проблема «однополярного истеблишмента» из Первого Основания в этом и заключается, что «новые русские», вышедшие из горнила советской истории – не поддаются в массе своей психологической обработке, которая действует на все другие более или менее цивилизованные народы. Неоимперская политика «разделяй и властвуй» работает лишь на лимитрофных стыках с другими цивилизациями, и то отчасти. На столичных деятелей из потомков лимитрофной партноменклатуры действует, а на русских не действует. События вокруг Крыма и Киева тому прямое подтверждение, но геополитические конкуренты эти нюансы отслеживали еще и в 2004-м, и в 2008-м во время грузинской агрессии в Южной Осетии. Так что было от чего волноваться.
Фактически от былого советского величия в России к 2013 году оставалась только Академия Наук как важнейший институт и как символ. Так что конкуренты очень много внимания уделяли научному сообществу – и напрямую, и через ставленников в Кремле и правительстве. От такого внимания и «стимулирования» лояльная Западу и вполне космополитичная наука только хирела и загибалась, как ученый Мис в 26 главе. Но даже и в таком разобранном («оплывшие свечи» - символ у Булгакова) состоянии постсоветская академическая наука конкурентам казалась опасной, таящей в себе секрет Второго Основания. Поэтому весной-летом 2013 года, пока Кремль был занят разминированием сирийской войны, был осуществлен информационный штурм и политический блицкриг против РАН. В финале главы у Азимова выстрел из бластера уничтожает верхнюю часть символического образа ученого сообщества. При этом налицо также раскол и разногласия между частями американской или, точнее, англо-саксонской элиты. Та часть, которая ближе к масонам, считает, что, разрушив ветхую Академию Наук, она наоборот, спасает «Второе Основание», то есть приближает и возрождение Союза, и появление новой науки. Может быть она и права, ибо нельзя влить новое вино научного откровения в старые мехи.
7. Промежуточный финиш
Финал последней главы средней части Трилогии полностью посвящен внутренним разборкам англо-саксонской элиты между собой. Та ее часть (европейско-масонская), что контролирует цифровые масс-медиа (Байта – весьма подходящее имя), а через них и международную бюрократию (Торан – анаграмма НАТО), рискуя многим, сумела сорвать планы утверждения однополярного миропорядка. Тактически она, вроде бы, проиграла Мулу (политический мутант межпартийное объединение с опорой на спецслужбы), но стратегически сыграла ставка на «Второе Основание» на возрождение нового Союза на месте бывшего СССР.
Возможно, важную роль сыграла опора на психологию (Мис), позволившую предсказать, что грубое разрушение оставшихся от бывшего Союза и уже почти умерших символов (Академия Наук и «российско-украинская дружба») сможет вызвать обратный импульс возмущенного народа России, вынудить Кремль сделать решительные шаги по восстановлению статус-кво и формированию тренда на возрождение былого единства и славы, общих символов наших народов. Если бы не такая встряска и перевод в острое течение, все эти ценности могли увянуть в режиме безнадежной хронической болезни.
В этой финальной части герои еще раз вспоминают, прокручивают заново события на Неотренторе – это и есть косвенное указание на «революционные» события в Киеве, повторяющие оранжевый путч. Причем Мул признает, что он несколько увлекся, ревнуя к вниманию масс-медиа, и таки совершил роковую для своего будущего ошибку. Только после этого Байта подводит стратегический итог – у Мула (двухпартийного мутанта) не будет политического наследника, это сугубо временный и ослабленный лидер на период преодоления глобального кризиса. И кстати, судя по кратким отсылкам и в Трилогии, и в булгаковском Романе – украинский кризис стал всего лишь эпизодом в глобальной игре, и быстро уходит из фокуса внимания.
Следующая глава Трилогии относится уже к третьей книге «Second Foundation», описывающей мир спустя «пять лет» после предшествовавшего острого кризиса. Мир этот весьма изменился, несмотря на формальное господство Мула (объединенного кризисом сословия финансистов). Спецслужбы в лице генерала Притчера еще более повысили свой статус в политической иерархии до послушного визиря при некоронованном владыке. Но при этом «Первое Основание», то есть США оказываются на периферии политики. Новый, он же старый центр финансовой элиты перемещается на Калган, который описан как отдельный фешенебельный мир (остров), где предпочитает отдыхать глобальная аристократия. Этот остров расположен ближе к имперскому центру, и сложно не узнать в нем на этот раз Британию. При этом бывший королевский дворец расположен на большом расстоянии от ближайшего мегаполиса, то есть речь идет об Эдинбурге.
С учетом предстоящего осенью референдума об отделении Шотландии вполне любопытный вариант размещения глобального финансового центра. Однако Мул рулит не империей и не Первой Академией, а Союзом, охватывающем 10 процентов стран (около 20-ти) и 15 процентов населения. Возможно, намек на Большую Двадцатку, но скорее речь идет об англо-саксонских странах и сети финансовых центров вроде Кипра, Гонконга, Сингапура.
В относительно спокойный переходный период, наступивший после острого кризиса, речь идет о накоплении Мулом новых сил и приготовлениях к новой экспансии. При этом «Вторая Академия», по-прежнему скрывающаяся, маскирующаяся под обычными, экономически слабыми мирами старается стабилизировать ситуацию, аккуратно обезвреживая наиболее опасные экспансионистские элементы в подчинении Мула. То есть в переходный период, до завершения глобальных споров ни о каком скороспелом провозглашении «обновленного Союза» речи не идет. Политическая карта мира остается похожей на прежнюю, чтобы не дразнить гусей. Однако при этом центростремительные силы на постсоветском пространстве наращивают влияние, и достаточно быстро по историческим меркам должно произойти финальное сражение Мула и «Второй Академии». Думаю лет через 10-15 учрежденное нынче состояние «ни мира, ни войны» завершится некоторой определенностью, новыми правилами игры в геополитику.
И кстати, гиперскачки «звездолетов» через гиперпространство от планеты к планете очень даже неплохо ассоциируются с гиперссылками и переходами с сайта на сайт – такая же пунктирная линия, позволяющая охватить всю галактику информационного пространства. Так что всё это фантастика только по меркам 1950-х.
8. Испытание Маргариты
За два весенних месяца произошло много событий, причем событий, решающих для всего мира. Эти события были наверняка отражены в воландовском тысячелетнем Плане, он же Книга Жизни, а значит и в тексте булгаковского Романа. В прошлый раз мы уже практически подобрались к кульминационной для Маргариты фразе Воланда: «Мы вас испытывали, … никогда и ничего не просите!».
Однако истолковать её в контексте текущей политики будет не просто. Или же, наоборот, слишком просто и поверхностно, что не очень соответствует привычной для нас глубине символики Романа. Мессиджу от Воланда предшествует обращение к нему, Творческому духу Истории, самой Маргариты, где она от имени всей культурной элиты Москвы и окрестностей признается, что еще раз с удовольствием повеселилась бы на балу. Между тем Бал в политическом контексте истолкован нами как «Болотная» фронда. То есть речь идет о высказанном вслух желании столичной общественности повторить события зимы и весны 2011/12 года. Между тем на протяжении двух месяцев после присоединения Крыма в информационном пространстве действительно раскручивался сюжет «московского Майдана», назначенного непонятно кем на 18 мая. Ожидания среди столичной фрондирующей публики действительно кое-какие были, и в назначенный час на Манежной даже собралась небольшая толпа журналистов и зевак, не считая ОМОНа. Но, увы и ах, ни одного протестанта или даже намека на протест!
С учетом того, что все это проходило на фоне украинского кризиса и роста вовсе не оппозиционных, а патриотических настроений в обществе, сама по себе инициатива новой Манежки была ни чем иным как провокацией, то есть испытанием для фрондирующей столичной публики. Вопрос только, кто был инициатором испытания? Воланд говорит «Мы», то есть речь идет о высшей власти исторического случая, который готовы использовать все три ветви земной власти – политические администраторы (Фагот), финансисты (Бегемот) и «чекисты» (Азазелло). Каждому из этих сословий хотелось знать, насколько утомилась и готова к продолжению фронды столичная публика.
Однако испытание Маргариты нельзя трактовать так узко, ограничившись лишь эпизодом 18 мая. Нужно обратить внимание и на такие предшествующие детали, как эта: « Верно! Вы совершенно правы! гулко и страшно прокричал Воланд, так и надо!»
Еще лишний раз замечу, что Воланд – это вовсе не аватар власти или властного сословия, как его свита. Сразу же, в первых главах Романа сказано, что он всегда один, и путешествует без жены. Между тем в библейской и евангельской символике, которая используется в Романе для иносказаний, «жена» это душа смертного человека, подчиненная тому или иному наследуемому в поколениях духу, «мужу». Булгаков использует для обозначения всех духов, включая Творческий, божественный дух – слово «гость», возможно, по созвучию с английским ghost. Однако Воланд при этом стоит особняком, он не «муж», а над «мужьями». Это кстати, еще одно доказательство того, что в Романе речь идет именно о «втором пришествии», поскольку в антропологии апостола Павла есть иерархия духовных ипостасей в человеке: плоть (скот), над ней – душа (жена), над ней – дух (муж), над ним – Иисус, а выше только Бог.
Применительно к толкованию вышеприведенной фразы это означает, что речь идет не о действиях какой-то властной инстанции, а о гулких и страшных, кричащих исторических событиях, возможно, стечении обстоятельств или столкновении интересов нескольких, а не одного субъектов политики. Такими событиями в начале мая стали погром и акт геноцида в Одессе 2 мая, а также расстрел мирного Мариуполя 9 мая. Этот момент был главным испытанием для Маргариты, в смысле московской интеллигентной публики, и этого испытания она в целом не вынесла. Чуть раньше прозвучали ее слова о готовности терпеть висельников и убийц, даже несмотря на навернувшиеся слезы.
Вслед за этим испытанием Воланд, то есть сама история в его лице срывает с Маргариты слишком тяжелый для нее халат, оставляя ее снова голой, без одежды. Что за халат, точнее хитон, мы уже разбирали раньше – это евангельские одежды Иисуса, то есть христианские заповеди различения добра и зла. Именно знание о добре и зле – суть значение библейского символа одежды. Если кто-то помнит, после вкушения от древа познания добра и зла, Адам и Ева приобрели первую одежду, а до того ходили неодетыми. Как мы помним, еще в марте столичная фрондирующая публика провела демонстрацию под лозунгами «нет войне», то есть накинула одну из библейских заповедей в качестве обоснования своего политического права судить власть. Однако после майских праздников, когда не прозвучало с той же стороны осуждения реальных, а не мнимых злодейств, дух Истории сорвал с Маргариты эти конъюнктурно одетые, накинутые, но не свои собственные одежды.
Однако, собственно, чего хочет героиня нашего Романа? Чего она добивается? Почему готова подставлять распухшее правое колено под поцелуи убийц и висельников? Чтобы ответить на вопрос, уточним функцию этого столичного сословия, чьим аватаром является Маргарита Николаевна. А заодно напомним толкование ее имени.
Маргарита – это «жемчужина», да, да, та же самая, как и на картине Боттичелли «Рождение Венеры», олицетворение Культуры, нарастающей слой за тончайшим слоем и формирующем чувство прекрасного (добра), для чего необходимо и чувство уродливого (распознания зла). Культура по своему происхождению и функции – есть сложная система табу, которые и отличают человека от животного. Поэтому Жемчужине обязательно полагается оправа, одежды для новорожденной Венеры, которые на упомянутой картине ей вручает олицетворение Города Флора. У нашей московской Маргариты тоже есть заведующая её одеждами служанка, олицетворяющая обычную городскую публику.
Отчество Николаевна намекает на религиозные, точнее церковные истоки светской культуры, и на соответствующие давно отброшенные христианские одежды. Но и светские одежды, подаренные мужем – властным духом материализма, тоже вышли из моды и отброшены. Поэтому тремя абзацами выше по тексту 24 главы Маргарита не желает ни возвращения в особняк, с его автаркическими ценностями «кодекса строителя коммунизма», ни к православно-монархическим ценностям.
А все потому что национальная культура действительно зависит от духовных ценностей, но при этом развивается во всемирном историко-культурном контексте. И если в мире господствуют либеральные «ценности», отрицающие саму необходимость одежды, распознания добра и зла, то и наша московская Маргарита подвержена всемирной моде, и не спешит выбирать себе новый наряд, оставаясь голой.
Однако, вот парадокс, сам высокий общественный статус культурной элиты, равный королевскому по примеру исторической Маргариты Валуа, как льстиво намекает Коровьев, зависит именно от способности столичной общественности воспроизводить и утверждать национальную культуру, в основе которой та самая традиционная система культурных табу, различения добра и зла. То есть, отказываясь от выбора одежды, старой или новой, Маргарита, культурная общественность снимает с себя обязанность и ответственность, прилагаемые к высокому, королевском статусу. Однако при этом ей очень хочется сохранить свои немалые права, в том числе право влиять на власти, судить об их действиях. Судить-то хочется, взойдя на высокий пьедестал, наравне с возвышением, приуготовленным для суда истории, то есть для Воланда. Да вот незадача, различать не получается, «как сквозь пелену».
Не будем голословными и обратимся к недавним образцам суждений вполне реальной столичной интеллигенции, причем к лучшим образцам, а не только к перлам амбициозных, но инфантильных Димы Быкова или Андрюши Макаревича. Вот, например, наш друг по ЖЖ, один из лучших популяризаторов российской истории, вдруг начинает доказывать, что Россия виновата в развязывании войны в Крыму. Просишь назвать хотя бы один пример столкновений или жертв, пусть даже самый мелкий эпизод этой «войны». В ответ – странные конструкции в виде мгновенно выигранного сражения без реальных столкновений и даже выстрелов. Не было никакой российско-украинской войны, как и нет. Но есть острое желание, амбициозная потребность культурной общественности судить власть и даже сам ход истории, несмотря на взгляд «сквозь пелену».
Или масса примеров отстраненности культурных блогеров, вроде бы опирающихся на те или иные ценности, православные или подражающие им сталинистские, но желающих пребывать над схваткой, чтобы иметь возможность возложить ответственность («чума на оба дома»). При этом ситуация такова, что по любым традиционным меркам быть сегодня на стороне украинских властей и киевской общественности никак нельзя, как невозможно и надуманно «держать баланс» посередине между явным нациствующим злом и противостоящей ему стороной, олицетворяемой «полковником Стрелковым», то есть именно российской православно-христианской культурой.
Нет, наши столичные радетели за «христианские ценности» будут подражать лучше интеллигентскому кумиру с его «толстовщиной», а также известному персонажу из трагикомедии (!) «Ромео и Джульетта», тому самому «продвинутому» попу, который собственно из-за политических амбиций и стал главным виновником смерти двух соблазненных им детей. Для этих амбициозных деятелей культура и традиционные ценности – лишь накидка на время до вожделенного политического возвышения, ради права судить власть.
Проблема лишь в том, что, занимая удобную позицию над «добром и злом», без их различения, столичная культурная общественность становится пособником тех самых носителей зла, кого такая релятивистская позиция очень даже устраивает. Ведь можно жечь, убивать, грабить, насиловать, зная, что всегда найдутся влиятельные люди, которые добрую часть ответственности возложат и на противостоящую злу сторону.
Увы, именно такова нынче неприглядная ситуация, в которой неодетая Маргарита сидит на чужой постели и ожидает решения своей судьбы. При этом она так и не узнала в Воланде Творческий дух Истории, а по-прежнему полагает его Сатаной, то есть считает, что все в политике творится по воле земных властей, и выше них никого на свете не существует. Впрочем, эта сервильная позиция гордо именуется «агностицизмом».
И еще – на всякий случай оговорюсь для вновь прибывших читателей, при толковании притч, а тем более – великих романов, обязательно содержащих притчи, нельзя смешивать внешний и внутренние слои («не варить козленка в молоке матери»). То есть если во внешнем, блестящем змеиной чешуей слое «романа о дьяволе», главный герой говорит: «Так и надо», то во внутреннем слое иносказания о втором пришествии Христа, видимо, знак тоже нужно менять на противоположный. «Вы совершенно не правы». Или другое, не противоречащее первому толкование – речь ведь о том, что героиня слышит в кричащих событиях Истории. А наша героиня всегда считает себя правой, даже когда не одета, такова уж женская душа столичной культурной общественности.
9. Страна непроходимой глупости
Напомню читателям, что наши философические путешествия по виртуальным мирам мирового искусства и литературы начались, в общем-то, с пустяка, с небольшой рецензии на советский мультик 1975 года выпуска «В стране ловушек». Вслед за этим были толкования пьес Шварца и только потом случился «MMIX» по Булгакову, продолжением которого стали «Основания Истории» (по Азимову), «Бал!» и нынешний сюжет «После Бала».
Рекомендую еще раз перечитать краткое истолкование сюжета мультика, чтобы обратить внимание на ту его часть, которая в начале 2008-го была только обозначена как ближайшее будущее. Тогда и в России, и в мире переход к сугубо фарсовым методам манипуляции только-только начинался. Только состоялись «выборы» «президента» Медведева, начинавшиеся с фильма «День выборов» и названия предвыборной программы с намеком на «Квартет И». Но значительная часть культурной, как и просто либеральной общественности относилась к этому виртуальному «прынцу» почти всерьез.
И даже моей почти безграничной фантазии тогда не хватило бы, да еще и полгода назад не хватало, чтобы представить себе «Страну непроходимой глупости» из сказочного сюжета мультика наяву. Однако «мы рождены, чтоб былью сделать сказку», и у наших украинских соседей это получилось в буквальном и беспримесном смысле Страны Дураков. Запрягать телегу впереди лошади, носить воду решетом, плевать в колодец, скакать на площади с лозунгами «дважды два = пять, а лучше семь» все эти сказочно-дурацкие метафоры вполне взаимозаменяемы с лозунгами, новостями, заявлениями киевской «элиты» и общественности. Причем сказочные метафоры в силу культурной «ограниченности» авторов даже не дотягивают по дурости до реалий страны непуганых идиотов. Безо всяких кавычек, увы.
Однако нельзя не признать, что бывшая Украина – это всего лишь территория, где фарсовые технологии одурачивания сконцентрировались в масштабах индустриального эксперимента. Во всех западных и прозападных элитах имеет место следование дурацкой логике называния черного белым и наоборот. Так что ограничить толкование сказочного сюжета одной лишь Б/У было бы несправедливо даже по отношению к статысячелетним «древним украм», сохранившим в святости свои неандертальские культурные традиции.
Впрочем, в философическом, а не публицистическом ключе нам важнее тот факт, что сценарист детской сказки очень точно предугадал и отразил текущую ситуацию в мировой политике. А это означает, что его творческий дух был допущен к Книге Жизни, она же «план Воланда» точно так же, как творческий дух Булгакова, Шварца или Азимова. Следовательно, и нам нужно серьезнее отнестись к истолкованию персонажей этой детской сказки, списанных с тех же самых «эгрегоров», духовных ипостасей высшего уровня, что и свита Воланда. Так, имя героини Василиса Петрова однозначно сопоставимо с «королевой» Бала, то есть российской столичной культурной элитой византийских корней, но при этом петровского, вестернизированного воспитания.
А вот второй главный герой – Олег Качалкин – вроде бы и не имеет аналога в сюжете булгаковского Романа? По отдельным деталям отношений между ним и героиней можно догадаться, что перед нами тот же самый Медведь, что и у Шварца. То есть Русский дух. Судите сами – культурная элита ласково называет его «аликом», а он на это возражает гордо: «Я – Олег!». Если бы не украинский, киевский контекст сюжет о стране непроходимой глупости, в которую вторгаются наши герои, можно было бы и опустить коннотации с великим князем Олегом, победителем хазар и основателем русской метрополии в Киеве. Фамилия «Качалкин» в культурном контексте 1970-х, а фильм снят на Свердловской киностудии, тоже вполне однозначно отсылает к «маргинальному» русскому духу, дремлющему «на печи» как Муромец или Иван-дурак, но готовому в любой момент выйти из провинциального подполья на политическую арену, надавать кому надо, а потом снова вернуться в свой качковый полуподвал.
В ходе драматического сюжета прохождения предпоследнего уровня Игры через «Страну дураков» Качалкин, он же Русский дух, несогласный с фальшивыми стандартами мирового сообщества, попадает в «темницу», в изоляцию. В то время как культурная общественность продолжает на свой страх и риск флиртовать с «прынцем Федотом», пытаясь понравиться породившей его «раскрасавице-царице» мирового общественного мнения, за фальшивой улыбкой и напудренной маской которого скрывается хищный оскал и безобразие. Что же до «прынца Федота», речь идет о фальшивом монархическом духе, русское имя которого ассоциируется лишь с поговоркой «Федот – да не тот». И тут мы тоже не ошибемся, если скажем, что эту фальшивую карту пытались разыгрывать еще Ельцин с Немцовым в конце 90-х, да и Медведев в наследники Романовых едва ли не вслух набивался, намекая на портретное сходство. Подлинный Русский дух живет вовсе не в европейских династиях, а в русском воинстве, готовом выступить на защиту Руси и православной европейской русской культуры.
Заметим, что именно культурная общественность, втеревшаяся в доверие к мировой, одержит моральную победу над нею, разоблачив ложь и освободив из изоляции Русский дух. Чтобы затем, используя противоречия и закоулки «страны дураков» уйти от погони и прорваться из-за Стены на волю, к последнему уровню Игры – поиска Книги в дремучем лесу, где так легко заблудиться в трех соснах. Да, и впрямь, какое нам дело до желающих жить по лжи? Главное чтобы не мешали нашему поиску правды. «Вольному – воля, спасенному – рай».
Так что да, очень даже мудрая детская сказка, ничуть не хуже по глубине и смыслу, чем булгаковская сказка для взрослых. И кстати, сопоставление двух этих сказочных сюжетов, списанных из одной Книги Жизни, помогает лучше понять, что за дух скрыт за аватаром Мастера. Тем более что предыстория отношений «королевы» Маргариты с ним однозначно отсылает ко временам Великой Русской революции, когда Русский дух ушел из прежней жизни, разорвал связи с прежней «женой» (платье еще полосатое, забыл как зовут? А я напомню – Аннушка). Да, вступил в невротически разрушительную связь с прекрасной полуевреечкой (булгаковская Маргарита, воплощенная в Елене), новой советской культурной элитой.
Однако времена меняются, и с ними меняется в лице столичная культурная общественность. И речь идет вовсе не об отказе от корней русской культуры, еврейских, как и немецких, греческих, ордынско-китайских, балто-славянских. Речь идет именно о желании героини вернуть своего Мастера, своего Медведя, стать его законной спутницей, а не «женой» идеологизированного, лживого духа земной власти.
Параллель в сюжете детской и взрослой сказки со «свадебным балом», во время которого заглавный герой томится в изоляции, но вскоре окажется на свободе тоже не требует особых комментариев. С учетом этих новых мыслей есть смысл вернуться к истолкованию обращенных к Маргарите слов Воланда, которые нам в прошлый раз не поддались:
«Верно! Вы совершенно правы! ... Так и надо!»
Чем проще толкование, тем оно надежнее, особенно в контексте отношений героини с властными силами. То есть в контексте политики, где слово «правый» имеет вполне устойчивое значение – лояльный власти, но не всякой, разумеется, а именно монархической или подобной ей. Получается, что Творческий дух Истории всего лишь констатирует, что вся столичная общественность, то есть совершенно вся, нынче спорит между собой только по вариантам правого – монархические, просто патриотические, националистические или консервативные политические ценности. Притом что люди, отрицающие эти ценности, просто выпадают, не признаются своими, русскими. Например, когда московский латыш Пельш дает публичную отповедь бывшим русским, заявляющим о том, что «им стыдно за русских» это и есть свидетельство правоты столичной культурной общественности.
Что касается культовой фразы «Мы вас испытывали, никогда и ничего не просите!», то часть ее мы уже разгадали. Только речь идет не об одном конкретном событии, а о некотором периоде, политическом процессе. Была провокация, испытание в мае, когда столичную культурную общественность зазывали на Манежку, сейчас идет похожая провокация по поводу регионального сепаратизма, с тем же нулевым результатом. Есть подозрение, что это будет последняя провокация такого рода, ибо какой смысл испытывать дальше на лояльность, если национализация элит уже в самом разгаре, включая и поправение культурной элиты. А то, что записные провокаторы будут пытаться искать способ вызвать недовольство и возмущение уже по поводу правых ценностей, так без этого не обойтись. Это и есть испытание зрелости культурной элиты.
Не нужно просить у сильных мира сего, если есть право потребовать одной вещи. Автор акцентирует внимание на слове «одной», но в духовном смысле это вовсе не то, что в смысле житейском. Это вовсе не ограничение, а отсылает к предназначению культурной элиты. Библейская символика числа «один», «одна», «первый» однозначна – относится к Богу, божественный. Культурная элита не имеет права просить материального, светского, а только одного – творческого, божественного. И не у сильных мира сего, а только у своего Творческого духа. «А разве по-моему исполнится?» удивленно переспросит она.
«Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!»
Чего у нас хотела культурная общественность и боялась, что никогда не получит? Разрешения на митинги по 31 числам? Пожалуйста, сами предлагают, стоило только известному писателю стать правым. Превращения Кремля из цитадели власти в музей и средоточие культуры? Нет проблем, снесем администрацию и возродим Чудов монастырь. Причем власть сама предлагает. Что там еще в нашем списке? Праймериз на выборах? Нет проблем. Допуск всех партий и кандидатов? Почему и нет, если гражданское общество и его столичная элита во всем правы? Если даже «коммунисты» у нас все сплошь православные и отпрашиваются с партсобраний на крестный ход. Программное заявление Путина на Совбезе о приоритете работы с гражданским обществом вместо закручивания гаек – тоже об этом. Так что пока все соответствует трендам.
Внимательный читатель спросит, ну а где там в тексте спрятаны другие волнения культурной общественности – например, по поводу упавшего Боинга и угрозы войны? А это уже не так важно на фоне происходящих глубинных трансформаций в самой России. Небольшая отсылка к повторению сюжета конца 20-й и начала 21 главы в тексте есть, когда героиня думает насчет: вырваться отсюда и утопиться в реке. До купания был намек на политтехнологического борова, летящего в майданный Киев. После купания в реке было крушение воздушного лимузина у Смоленской дороги в 2010 году. Теперь вполне достаточно намека на повторение и того, и другого.
10. Перехват
Для понимания масштабных политических (психолого-исторических) процессов необходимо обзавестись некоторыми навыками восприятия событий прежде всего, умением отделять важное от неважного, определять уровень и значение событий не по формальным признакам, а по их сути.
Возьмем для примера демонстрацию либералов под лозунгами «мира» в поддержку киевского олигархического по сути и террористического по методам режима (назовем его так, а то аналогичное по смыслу слово «фашизм» уж больно затерто излишним употреблением теми же либералами). Важное ли это событие? Кому-то из телезрителей покажется, что да, потому как в их рядах бывшие премьеры и вице-премьеры, кандидаты в преемники, экс-лидеры списка Форбс и другие вип-персоны политизированного шоу-бизнеса. Опять же за спинами этих людей вроде бы маячат богатые и влиятельные западные фонды и спонсоры типа Сороса, и политические институты типа NDI. Вот только влияния на российскую публику от этого «марша мира» даже не ноль, а сугубо отторжение. И даже отчасти сочувствующая бывшим кумирам и властителям дум столичная культурная общественность, скорее, их жалеет, чем поддерживает. Просто она видит в них отражение самой себя времен перестройки, и жалость эта к себе тоже.
Как уже догадался проницательный читатель, речь у нас снова пойдет о Маргарите и ее отношении к Фриде, олицетворяющей ту самую либеральную партию, когда-то почти полностью поглотившую столичную культурную публику. Однако теперь это лишь ее бледная тень, умоляющая хозяйку Бала сжалиться и поддержать.
Как там было в 24 главе?: «Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. "Фрида! Фрида! Фрида! прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. Меня зовут Фрида!" и Маргарита, спотыкаясь на словах, заговорила: Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?»
Еще лишний раз напомню, что это диалог Маргариты с Воландом, то есть с Творческим духом Истории, которого наша московская культурная публика упорно путает с сатаной и принимает за дьявола. Тем не менее, с точки зрения Автора она все равно обращается к одной из ипостасей Бога, не имеющего постоянного земного воплощения в виде смертных людей или сообществ. Поэтому такой диалог вполне может указывать на великий религиозный праздник, например, день Рождества Богородицы 21 сентября. И вот уж совпадение так совпадение, именно в такой день либеральная тусовка решила напомнить о себе московской публике – одновременно и назойливо, и умоляюще.
А поскольку Автор не позволил себе ни единого слова всуе, без глубокого смысла, то нельзя не обратить внимание на присутствие в этом сложносочиненном пассаже слов «дух» и «душа», лишний раз напоминающих о евангельских посланиях ап.Павла. В его антропологии раскрыты ипостаси человеческой психики – плоть, душа, дух, и над ними Иисус как обращенная к людям, снизошедшая к личности человека ипостась «внутреннейшего», божественного глубинного содержания. Это одно из немногих мест Нового Завета, где символика притч раскрывается открытым текстом. В других местах, как и в тексте Романа, дух спрятан за маской «мужа», душа – за маской «жены», то есть в нашем случае Маргариты. Притом что ее таинственный муж был нами опознан в лице сатаны Коровьева, в чем сама Маргарита Николаевна предпочла себе и нам не признаваться.
Что в таком случае означают слова: «Дух перехватило у Маргариты…»? Ответ должен быть самым простым и надежным, без особых фантазий. Это и означает, что именно сейчас, в этот момент рвется давняя связь московской культурной публики с духом материализма, выступавшем то в марксистском пиджаке, то в либеральном фраке. Именно поэтому и голосит, завывает, умоляет Фрида – ставшая маргинальной либеральная часть общественности, которую уже и московской в полной мере не назовешь (про созвучие имени партии с англоязычной «свободой» Freedom уже было).
Используемый глагол, впрочем, указывает на внешний перехват влияния по отношению к Маргарите, со стороны какого-то иного духа. И если внимательно читать текст Романа дальше, то легко заметить постоянно присутствие Азазелло, ненавязчиво взявшего шефство над героиней и ее возлюбленным. В отличие от сугубого материалиста Фагота не менее циничный Азазелло все же имеет кое-какое отношение к делам духовным, на что намекает и его имя.
Чуть дальше по тексту Маргарита спросит: «А разве по моему сбудется?
Азазелло иронически скосил кривой глаз на Маргариту и незаметно покрутил рыжей головой и фыркнул.»
Вот вы, читатели, можете покрутить головой незаметно для собеседника? А чекистское сословие может, если эта рыжая голова не его. А где здесь сказано, что его? Это ведь только используется стереотип восприятия нами текста, излюбленный прием Автора для своих иносказаний. И самое главное, мы все знаем эту рыжую голову, которой нужно незаметно покрутить, чтобы либеральная тусовка испарилась с политической сцены, по крайней мере – московской.
Кстати, рыжий Толик уже давно, еще в 94-м году был опознан как воплощение Фагота, духа сословия властных администраторов. И его появление на политической сцене как раз и совпало с появлением на ней либеральной Фриды, и с умерщвлением только что рожденного именно либеральной партией «обновленного Союза» с помощью беловежского платочка с голубой каемочкой. И нет даже никаких сомнений, что и тогда тоже рыжую голову незаметно покрутили те же самые. Поэтому и исчезновение Фриды со сцены по доброму желанию Маргариты тоже вполне логично связано с обратным незаметным покручиванием.
Судя по довольно затянутым паузам, процесс освобождения Фриды от груза политической ответственности займет некоторое, пусть и не самое долгое время. Однако уже сейчас понятно, что самое главное значение данного мероприятия заключается именно в демонстрации отсутствия какого-либо серьезного значения, ибо рассчитано на сугубо внешнее предвыборное употребление в Киеве и Вашингтоне, оттуда и оплачено.
Пожалуй, по итогам летнего политического сезона есть смысл вернуться и к параллельному сюжету азимовской Трилогии. Признаться, у меня давно был соблазн идентифицировать символическую пару мужа и жены – Торана и Байты с, пожалуй, самой известной супружеской парой, состоящей из двух политиков первой величины – мужем и женой Клинтонами. Они, кстати, появились на политической сцене практически в одно время с московской Фридой и ее «рыжим» мужем. Да и сам кандидат в президенты, а потом президент США весьма и весьма похож наглыми «рыжими» повадками на принца Администратора. А вот Хиллари олицетворяет весьма специфическую культуру американской столицы, ограниченную юридическими и пиаровскими, имиджмейкерскими стандартами и изысками.
До августовских событий в Фергюсоне, штат Миссури и откровенного заигрывания Хиллари и ее либерально-глобалистского крыла демократической партии с исламистами еще были сомнения в том, что именно она совершит этот роковой политический выстрел. Напомню, в конце второй части Трилогии жена убивает ученого Миса, сносит верхнюю часть его тела, только чтобы его знания не достались Мулу, то есть политическому сословию финконтроля, возглавляемому мулатом Обамой. Те не менее, ставка Хиллари и ее однопартийцев на мобилизацию цветных меньшинств да еще под исламским соусом, не может не привести именно к такому результату – в университетских кампусах Америки останутся только либеральные идеологические надсмотрщики, а та часть научного сообщества, которая работает головой, а не языком политических доносов, покинет ставшие опасными и негостеприимными Штаты. Это и станет стратегическим поражением Мула, самого могущественного политического сословия в мире, у которого нет будущего и не будет наследников. Вот, что бывает, если недостаточно культурную общественность вовремя не остановить и не перехватить над ней шефство.
11. О вещах и тряпках
Бывает, помянешь вот так в мистическом контексте кого-то, как в прошлой главе аватар чекистского сословия «незаметно покрутил рыжей головой». И вот уже на ленты агентств выползает скандальная новость, как некто рыжий от головокружения якобы навернулся с гор иорданских, поломав обе руки. Хотя и не до конца, и только в московской клинике дело довершили. Так что добиться от «рыжего» подписать какие-то сделки в ближайшие недели-месяцы не удастся. В общем «бриллиантовая рука» вышла, и кто-то из «шефов» теперь ждет, когда клиенту снимут гипс.
Ну, это так, кстати пришлось, а нам бы разобраться не со знаковыми событиями, иллюстрирующими внешние формы притчи, а с ее главным содержанием. Автор нам оставил подсказки, на что нужно обратить особое внимание. Если слова об «одной вещи», которую Маргарита должна потребовать за свои мытарства, повторены три раза подряд, наверное, это что-то да значит?
Символическое значение числительного «одна» нам известно – нечто божественное. Осталось разобраться со словом «вещь», которое в Романе использовано более сорока раз, и практически всегда вовсе не в материальном смысле. Пару раз только речь шла об опечатанных «вещах покойного» и о разбросанных и оставленных Наташей вещах ее хозяйки. Однако и в этих случаях нужно толковать о «вещах» как о ценностях, а не материальных предметах. А во всех прочих случаях слово «вещь» означает творение, вещь как произведение, либо некие чудесные явления. Первый раз слово «вещь» встречается в третьей главе и следует как раз за трижды повторенным словом «Один, один, всегда один». Следующий раз в седьмой главе встречается «вещь похуже» в лице Бегемота, ну и так далее. В общем, в сочетании со словом «один», да еще и трижды повторенным – только в третьей главе, после того как Воланд ошарашил Ивана и Берлиоза рассказом о Понтии Пилате.
Сразу после этого Берлиоз спрашивает странного «иностранца» «Где же ваши вещи?», но получает несимметричный ответ насчет того, что будет жить в квартире, где до сих пор обитал дух материалистической гуманитарной науки – Берлиоз. С учетом того, что «дом» в библейской символике означает личность человека, мы еще в «MMIX» догадались, что речь идет вовсе не о материальных вещах и не о встрече смертных людей в аллее на Патриарших, а о внутренней жизни и переживаниях духовных ипостасей, живших в душе писателя. Вообще, любое по-настоящему художественное произведение литературного гения – это всегда притча, история духа, замаскированная под бытовые или лирические подробности.
Так что встреча на Патриарших – это пришествие Творческого духа, вытеснившего дух рационального скептицизма из личности Булгакова. И вопрос о «вещах» к Воланду был несколько глупым, как все сугубо внешнее и материально озабоченное. Во-первых, одну весьма сильную вещь Воланд только что продемонстрировал, а во-вторых, вместе с Воландом в личность (нехорошую квартиру) придут и его вещи, некоторые лучше, некоторые хуже.
Теперь после ретроспекции в начало Романа можно достаточно уверенно сказать и о том, чего хочет Воланд от Маргариты. Он хочет, чтобы московская культурная среда, наконец, потребовала или востребовала настоящего Мастера, способного творить одну вещь, то есть способного к восприятию творческого откровения. До тех пор пока сама культурная публика будет довольствоваться сугубо материальными ценностями или развлекательными суррогатами, «креативом» вместо творчества, нет и не может быть возвращения Мастера, проявления Творческого духа. Есть вещи, которые зависят только от желания человека, в том числе его отношения с Творческим духом Истории. Без его воления, без требования почтенной публики об «одной вещи», то есть об истинном творческом откровении, не будет и воплощения Творческого духа в Мастера. Без этого благоволения не будет пленительных страниц возрожденного, продолженного мастерского романа, то есть такого мирового явления как русская литература. Поэтому Воланд, Творческий дух Истории, даже появившись на улицах столичного города и сопровождаемый мистическими происшествиями и проделками («вещами похуже») свиты, этот самый всесильный Воланд нуждается в Маргарите для того, чтобы вернуть Мастера и его роман.
Однако, прежде чем московской культурной публике вернуть себе прежние высокие смыслы и привязанности, нужно избавиться от навязанных ложных ценностей. Иначе заветные и приготовленные в душе слова так и не прозвучат, перебиваемые назойливым молящим голосом Фриды, либеральной, распущенной, эгоистичной альтер эго Маргариты. Гедонистическое, сугубо внешнее понимание свободы и любви есть проявление Танатоса, стремления к смерти. Освободить себя от этого страха смерти, в смысле «однова живем», «нужно успеть вкусить…» необходимо не только для того, чтобы начать творить, но и чтобы воспринимать истинное творчество: одну вещь. И опять же Воланд, Творческий дух Истории не может принудить ту или иную публику, столицу или страну выбирать между разрушением и развитием, Эросом и Танатосом. Это зависит только и исключительно от воли, то есть запаса духовной энергии публики. Это только сама Маргарита может освободить себя от Фриды.
Что касается иллюстрирующих эту притчу актуальных событий, то реакция либеральных московских радиостанций (а это и есть «ей в уши») на президентское послание – это ровно то самое назойливое «Фрида, Фрида… Меня зовут Фрида». Не вопросы развития, не возрождение сочинений по литературе волнуют Фриду, а только желание быть в фаворе московской публики, владеть ее вниманием, но при этом вся ценность, все достоинство, вся харизма либеральной публики заключается лишь в одном историческом приключении – саморазрушении великой державы, но и более того, в убийстве новорожденного «обновленного Союза». Этим и только этим славен и гордится «рыжий Толик», одно из проходных воплощений Фагота, и его соратник Е.Гайдар, эпизодически воплощавший Бегемота на сцене перестроечного Варьете.
Сейчас, с приближением Нового года, когда с боем курантов вступит в силу договор о новом Союзе, вся харизма либеральной тусовки «обратится в тыкву». Но все равно Маргарите, московской культурной публике нужно самой принять решение, освободив Фриду от ее обязанностей постоянно напоминать себе и нам об уничижении самих себя. Даже если это уничижение Большой России было историческим гамбитом, разрушившим двуполярный мир и подорвавший силы геополитического соперника бременем однополярного.
Напоминание Воланда о присутствии при убийстве отпетого барона-негодяя тоже относится к актуальному контексту. Вообще-то идиома «бароны-разбойники» относится к нуворишам периода первоначального накопления. Разумеется, речь опять не о смерти конкретных людей, а о распаде на части сословия. Опять же в Большой России как пространстве, где происходит формирование центрального контура управления новой эпохи, многие вещи происходят с опережением по отношению к остальному миру. Так что смерть барона Майгеля как аватара сословия местных двурушников-грантоедов была прелюдией к смерти этого сословия в глобальном масштабе. Недавние дергания их лидера Дж.Сороса указывают на то, что оно находится при смерти в отсутствие финансирования.
В этом эпизоде 24 главы есть еще одно троекратно подчеркнутое слово «тряпка», которыми Воланд надеется заткнуть щели в свою комнату. И еще там есть вопрос: «Вы о чем говорите, мессир?», что означает подчеркивание Автором необходимости истолкования этого символа.
В некотором либеральном смысле «тряпка» это тоже синоним «вещи», но только изношенной, ненужной, лишенной ценности одежды. В тексте Романа это слово именно так и используется, а иносказательное значение одежды как знаний, дающих различение добра и зла, мы тоже знаем. Символ тряпки возникает в контексте разговора о Фриде, и о невозможности получения Маргаритой от нее взятки, то есть какой-либо ценности. Вещи, то есть знания, лишенные всякой ценности, годящиеся только в самом узком качестве напоминания против милосердия к либералам. Если учесть, что в этом же контексте Творческий дух Истории говорит олигархическому сословию «Пошел вон!», то картина складывается недвузначная, и вполне отражающее начало жесткого финансового контроля над финансовым сообществом, сразу после рождественских каникул.
Другое дело, что Бегемот, всячески подлизываясь, норовит остаться и добивается этого, но с условием «Молчи!». А что значит – молчать для олигархии? Это означает как раз удаление из информационного поля Фриды, либеральной общественности. И еще там есть намек:
- И я о том же говорю! - воскликнул кот и на всякий случай отклонился от Маргариты, прикрыв вымазанными в розовом креме лапами свои острые уши.
Если органы, через которое бизнес-сообщество воспринимает новости и слухи, это станции, на которые настроены приемники в джипах и лимузинах, то это и есть «уши Бегемота». Прикрыть острые «уши» тут и перевод не нужен. Причем прикрывать будут «лапы», то есть влиятельные люди, «вымазанные» в рекламном бизнесе.
Опять же ни для кого не секрет, что либеральная часть столичной публики – есть всего лишь проекция в московские реалии глобального однополярного порядка. Так что когда Фрида пропала из глаз – это не может не означать финал однополярного мира. Хотя это случится чуть позже, уже после отмены обязательности беловежского платочка.
12. Нескончаемая ночь
Напомню читателям, прежним и новым, что мы в нашем «литературоведческом» анализе исходим из постулата о наличии многотысячелетнего «плана», он же «Книга жизни», который могут подсмотреть внутренним взором пророки или художественные гении. И что каждое истинное произведение литературы и искусства содержит в себе отражение какой-то части этого плана, скрытого в глубинах коллективного бессознательного. Иначе говоря, каждый великий роман имеет в своей сюжетной основе притчу, повествующую об отношениях надличных ипостасей, объединяющих большие сообщества людей. Мужские образы соответствуют духу профессии или сословия, а женские – душе города, страны, либо культурной общности. Так, например, Гелла – это душа журналистики, а Маргарита – душа столичной культуры, а ее служанка Наташа – это обыденная душа Москвы. Та же самая, что выведена под тем же именем и в романе Толстого.
На первый взгляд, все это не очень серьезно. Ну, подумаешь, какой-то странный философ гадает не по картам Таро, а по страницам булгаковского Романа. Однако одно дело случайная комбинация разрозненных символов, в которой всегда можно найти проекцию разнообразия личной или политической жизни. Такое гадание на любом случайном разнообразии помогает спроецировать уже сложившиеся интуитивные связи гадающего. Но совсем другое дело – последовательная, а не случайно выбранная цепочка важных событий, которым по вполне определенным и известным правилам толкования библейской символики соответствует столь же долгая, нескончаемая цепочка сюжетных поворотов и знаков, причем каждое слово из булгаковского пророчества находит свое место в актуальной интерпретации. Можно, конечно, от этого отмахнуться, но только при одном условии – если кто-нибудь повторит этот фокус на материале другого времени-места с той же тщательностью и подробностью. А, кроме того, проделает то же самое и с параллельным по сюжету текстом и подтекстом азимовской Трилогии.
Кстати, у нас есть повод вернуться к азимовскому сюжету конца второй книги и начала третьей – «Вторая Академия». В последней главе «Академии и Империи» мы наблюдали «пиррову победу» Мула, этого кривляки и шута, не то мулата, не то мутанта. Ему и в самом деле удалось победить, переиграть на «гуслях» масс-медиа и подчинить себе все «головы» доминирующей глобальной финансовой элиты, а равно спецслужб, и практически всех миров бывшей империи. Последним из этих миров был аграрный осколок империи, весьма напоминающий по нравам элиты Украину. Даже имена и амплуа тамошних олигархов и политиков (Коммейсон и Инчни) созвучны Коломойскому и Януковичу.
В ходе интриг в самом сердце бывшей империи, завязанных на поиски неких секретов в академической библиотеке, Мул (то есть новое временное сословие финконтроля во главе с мулатом) впервые проявил себя как самостоятельный, а не закулисный игрок, вступивший в открытое противостояние с «четой демократов», в которых угадываются клинтониты. Из-за этого раскола в команде, призванной найти и подчинить противостоящую и скрывающуюся «Вторую Академию», цель оказывается недостигнутой. При этом происходит несчастье с героем, олицетворяющим современную гуманитарную науку. Два синхронных пожара в Москве и Нью-Йорке, в которых сгорает документальная основа для привычных методов ее исследования вполне подходящий символ завершения огромной эпохи сосуществования и противостояния заокеанского и евразийского центров постимперского развития.
Есть и еще более любопытное совпадение с сюжетом начала третьей книги про поиски и попытки уничтожить «Второй Академии» и про аккуратное непубличное подчинение ею атлантического центра. Азимов списал планету Россем, на которой произойдет решающая схватка между Мулом и Второй Академией, со своей первой родины в Могилевской губернии. Узнаваемое описание природного и культурного ландшафта, типажей национального западно-русского характера не оставляет сомнений для тех, кто знаком с белорусами. Так что нынешнее временное смещение фокуса глобальных событий с Киева и Донбасса на Минск, да еще и в символичном формате долгой бессонной и утомительной ночи – вполне себе звоночек на будущее.
Я уже отмечал, что сюжет начала третьей книги относится к немного более позднему времени, лет на пять-десять. Но и по нынешнему развитию политических событий уже можно судить о том, что связка националистических режимов Минска и Киева будет двигаться теперь уже вместе к следующему острому кризису. И этот кризис будет уже фокусироваться больше на Белоруссии как ключевому звену восточно-европейского моста между двумя цивилизациями. Украинский кризис, как и все такого рода процессы, тоже развивался через «оранжевую революцию» к «черному майдану», то есть наращивал амплитуду волнами. Сейчас эта динамика передана соседям и следующий кризис, не сразу, но накроет именно Минск, а его разрешение будет таковым и для Киева.
Это что касается внешнеполитических арьергардных битв однополярщины, напророченных Азимовым. В параллельном сюжете московского Романа белорусский мотив тоже незримо присутствует – в виде платочка с голубой каемочкой, который нам в свое время удалось опознать как символ беловежских соглашений. Фрида как аватар столичной либеральной партии сама родила в 91-м идею «обновленного Союза» ради борьбы за власть (расположение хозяина), и сама же придушила его во младенчестве, чтобы не мешал вдруг свалившуюся на нее власть приватизировать. И вот теперь с нового года эта убиенная во младенчестве идея воскрешена и воплотилась в Евразийском Союзе. А раз детище ожило, то Фриде амнистия вышла – хотя и не по ведомству Творческого духа всемирной истории прощение, но столичная культурная публика готова простить и Фриду, и в ее лице саму себя за прошлые прегрешения. Раз уж история к ней благоволит.
Впрочем, прощение Фриды означает и прощание с ней. В прошлый раз я как-то упустил вполне ясное толкование фразы «пропала из глаз». Если «острые уши» Бегемота – это деловые радиостанции с помощью которых бизнес-сословие слышит новости, то культурная публика, да и вся свита Воланда смотрит на мир через глаза телеканалов. И вроде бы да, с нового года увидеть либерала на федеральном телеканале – большая редкость. Несмотря даже на то, что Фрида упала ничком и простерлась крестом по нынешней православной моде.
«Извлечение мастера» наверное, самый сложный в истолковании момент, поскольку и сам аватар Мастера слишком многозначный, созвучен и мастерам культуры, и даже масонам. В таких случаях, когда однозначного толкования нет, есть правило – все возможные толкования верны. Возвращение литературы в школы в виде выпускного сочинения и объявление «Года литературы» - вполне достаточная иллюстрация к одному из значений. Как минимум, возвращение в культурную жизнь, к Маргарите классиков, мастеров русской литературы. Но это необходимое для полноты частичное толкование, разумеется, недостаточно. Что до масонского истолкования, то сам Булгаков не сильно придавал ему значения, скорее пародировал, но мастера и гроссмейстеры, безусловно, приложили руку к минским протоколам.
Для более глубокого истолкования символа Мастера и его возвращения нужно отметить повторяющийся на протяжении всего Романа мотив пребывания его в лунном свете. И в 24 главе Мастер тоже появляется из зеленоватого платка ночного света. Тоже какая-то шарада – замена голубоватого платка на зеленоватый? В общем, над символом лунного света нужно основательно задуматься и проработать этот вопрос, а равно над символом света вообще, и противопоставлением лунного света солнечному. А там можно будет, глядишь, и символ разлитого Аннушкой подсолнечного масла истолковать. Так что задание на дом для проработки материала у нас уже есть. А пока завершим символическое описание текущего политического момента.
«Извлечение мастера» сопровождалось рядом символичных эффектов, главным из которых явилось обнаружение за распахнутым вовне окном – глубокой полночи, хотя по всем расчетам Маргариты уже должно быть утро. Этот момент, вообще-то вроде как мистический, на самом деле истолковывается легко, если знать, что в чередовании 32 глав Романа зашифрованы фазы развития исторических процессов. А одной из объективных закономерностей является опережение событий в центральном процессе при смене фаз. Поэтому Маргарита, находящаяся в центре событий, субъективно переживает полночь аж три раза – в начале Бала, в конце, когда раздается бой часов, и вот теперь, когда по ее, то есть по московскому времени уже должен бы пропеть первый петух. Но по шкале времени внешнего мира, у них там только начинается «праздничная полночь» Великого Кризиса, он же Страшный Суд в некоторых популярных дискурсах.
На всякий случай еще раз разъясню это «темное место» на конкретных исторических примерах. Так в российской истории в узле Смены Центра в 1917 году сначала происходит смена центра в масштабах питерской политической элиты – октябрьский переворот, а разгон Учредительного собрания означал смену центра в масштабах Большой России. Или в 1991-м смена центра в российской республиканской элите прошла в начале ноября, а в масштабах Союза/СНГ – с нового года. Так и сейчас, но в более масштабном глобальном контексте - смена центра столичной политической элиты произошла в мае 2012 года с победой Путина вопреки желанию однополярного центра. Затем 21 декабря 2012 принятие «антимагницкого» закона стало сменой самого политического центра (элиты) РФ. А в прошлом году 9 мая завершилась смена центра на всем постсоветском пространстве, когда управление политическими процессами было перехвачено Кремлем, в том числе и на бывшей Украине в ответ на прозападный переворот. Поэтому сейчас на уровне, внешнем по отношению к московской элите, стрелка Биг-Бена и часов на Таймс-сквер только-только приближается к «полночи». Толкование вполне объективное и без всякой мистики, а заодно понятно, почему для московской публики эта внешняя полночь – праздничная.
Примечателен и вот этот признак, указывающий на текущие события: «Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло…» Символ свечи имеет точное библейское истолкование – мудрец, ученый, в множественном числе – академия, научное сообщество. Поэтому и у Булгакова значение может быть только это. Но обычно со свечами связан символ света как знания, а вовсе не пламя. Канделябр тоже уже нами был истолкован как устройство, вмещающее информацию. Слово «компьютер» созвучно и даже начинается и заканчивается так же, а Булгаков такие совпадения любил. Так что речь идет о хранилище научной информации, над которым вспыхнуло и легло пламя – и в буквальном смысле, для иллюстрации исторического момента.
Но и в иносказательном смысле – наверняка этому есть истолкование, поскольку горение, сгорание – это и есть символ истолкования. Сгоревший текст означает истолкованный. В данном случае пламя истолкования легло, то есть свечи официозной гуманитарной науки в этом смысле импотентны. Ворвавшийся в комнату ветер истории, отодвинувший тяжелую занавеску, тоже понятен – прорыв внешней изоляции, впустивший полночь глобального кризиса уже внутрь Евразийского союза, которому теперь предстоят кризисы роста на пути интеграции.
13. «Доколь в подлунном мире…»
Любой знак и даже значимый символ обрастает по жизни множеством ассоциаций, употреблений в переносном смысле или вовсе без смысла, поэтому искать возможное значение не слова, но образа нужно строго в контексте источника. Автор, как мы знаем, хотел «чтобы знали», чтобы мы узнали, что он хотел нам сообщить. Поэтому значения тех или иных слов не могут быть иными, как их привык считать сам Булгаков, потомственный богослов и драматург-инсценировщик мировой классики. Если слово встречается в Библии, то оно и толковаться должно по-библейски, а вот если его там нет, тогда нужно искать в широком культурном контексте, но сугубо классическом и связанным с творчеством автора.
Так, например, обращение к Маргарите «Алмазная донна» включает библейский символ алмаза как символа одного из колен Израиля, рода Давидова, но вот слово донна ассоциируется с аристократическими христианскими родами, а в культурном контексте Романа мы уже эту ассоциацию встречали, когда расшифровали значение номер другой нехорошей квартиры 48, в которой до сих пор живет Аннушка-Чума. Парадоксальным образом выяснилось, что речь идет о музе Пушкина в контексте «Маленьких трагедий», где она выведена как донна Анна. Поэтому обращение «Алмазная донна» отражает тот факт, что московская столичная культура вобрала в себя разные источники – не только европейские христианские, но и еврейские. А тот факт, что классическая имперская культура все еще жива и активно воздействует на происходящее, подтверждается хотя бы фигурой православного монархиста Стрелкова. Так что активизация Аннушки в 24 главе имеет вполне ясное соответствие в текущем политическом контексте.
Соответственно изложенному правилу следует истолковать и «зеленоватый плат», образованный лунным светом из распахнутого окна на полу. Если прежний платок – это договор, беловежский, то и следующий платок, буквально сменивший тот, с голубой каемочкой, по ходу пьесы – тоже. Общекультурная символика «зеленого» цвета как символа ислама отчасти подходит и к Евразийскому союзу, где две из пяти стран – тюркские исламские («зеленые»), а две – православные славянские. («Вата» как символ белой чистоты и врачующей мягкости нам вполне не обидна;)
Но я бы не стал настаивать на этом варианте или только на этом варианте, потому что в тексте Романа слово «зеленоватый» встречается еще пару раз, и один из них – это болотистый зеленоватый берег реки, которую по оставленным автором географическим подсказкам мы опознали как Припять, то есть белорусский берег. Таким образом, зеленоватый плат указывает на некое соглашение (пакт) на белорусском берегу, а если учесть что в нашей политической культуре распахнутое окно ассоциируется с возобновлением прямых контактов с Европой, то намек на нескончаемую ночь переговоров в Минске вполне угадываемый. И это начало разворота Европы к России вполне достойно отражения в нашем Романе.
Однако эта разгадка шарады про платок не очень помогает нам понять, извлечение на лунный свет и свет свечей в канделябрах какого сообщества мы наблюдаем в образе Мастера. Поэтому придется поработать еще с символикой лунного света. Вообще-то даже профанам в религиозной символике известно, что свет символизирует знания. Этот древний иносказательный символ давным-давно стал общекультурной метафорой. И так же с древнеегипетских времен, как минимум, солнечный свет ассоциируется с божественным откровением. Именно поэтому в ершалаимских главах солнце и его свет сжигает земную бренную плоть Иешуа и тем приносит страдания его ученикам Пилату и Левию.
Что же касается лунного света, то в Романе, в 22 главе есть прямая ссылка на Аристотеля. Это для тех, кто не опознал Аристотелевой идеи подлунного мира в словах Иешуа о том, что все люди добрые. Зачем же Автору Романа нужно было вложить в уста Иешуа не евангельские притчи, а тезис Аристотеля? Что за смешение жанров? Но может быть, Автор намекает на то, что евангельские притчи и Аристотелева философия имеют много общего? Разве случайно Аристотель был де факто главным философским авторитетом для христианских мыслителей средневековья? Между тем концепция подлунного мира имеет слишком много сходства с притчей о блудном сыне, а сама эта притча иносказательно повествует о пути заблуждений и страданий как единственном доступном смертному пути познания Истины. Нельзя, невозможно узнать что-либо о солнце, наблюдая его невооруженным глазом, находясь рядом. И только в отраженном или преломленном свете можно различить хоть какие-то детали, а то и «пятна» на нем. Только в этом случае Отец может одарить младшего сына одеждами и устроить в его честь пир с изысканной едой, потому что все это символы полученных знаний.
Не стану развивать эту линию слишком подробно, потому как для интуитивных и схватывающих идеи на лету читателей и этого достаточно, чтобы вспомнить еще и понять суть спора Воланда и Левия о пользе света без теней. А для рабов авторитета, как Левий, никаких слов и убеждения не хватит. Хоть сто томов испиши вереницами прочно увязанных силлогизмов.
В контексте событий 24 главы нам будет вполне достаточно этого краткого истолкования лунного света. То есть речь идет о некоем ученом или философском сообществе, которое именно в этот момент возвращается из маргинального небытия. Тем, кто читал эссе «Дядя Ваня и другие» по символике чеховской пьесы, напомню финал, где речь идет о том, что русская философия (а это и есть символ дяди Вани) будет отдыхать долго, три эпохи, но в конце концов они вместе с Софией увидят «небо в алмазах». Тут читатель или зритель пьесы всегда воспринимает, что это небо будет покрыто алмазами, но ведь есть и иное прочтение – это в алмазах, через алмазы можно будет увидеть небеса как символ духовного Космоса, узнать структуру и динамику коллективного бессознательного, управляющего всеми историческими процессами. Как там записано на пергаменте у Левия? «Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл...».
И кстати, притча о талантах (серебряках), лежащая в основе символики чеховской пьесы, тоже о том же самом – о старшем брате, получившем напрямую от хозяина один талант (то есть божественное откровение, число один – это символ Бога, Истины), и о двух других, прошедших каждый по-своему путем блудного сына в подлунном мире. Первый не смог и не мог узнать ничего нового, приумножить свое знание, зарыв его в землю – символ веры. Но мы опять отвлеклись от толкования образа Мастера как философского сообщества.
Разве у нас нет философов, спросит внимательный читатель? В одном только ЖЖ можно назвать десяток имен доморощенных, но вполне качественных философов. Но в том-то и дело, что образы Романа – это не конкретные люди, а символы сообществ, и даже если отдельные философы сами по себе есть, то как сообщество они не существовали, то есть были таковым но латентно, потенциально, этаким расколотым на фрагменты разумом нашей цивилизации. Поэтому Мастер и появляется в таком неприглядном виде, в халате из лечебницы.
Тогда вопрос, почему извлечение мастера связано именно с событиями в Минске, с нынешней ситуацией в глобальной политике? По той же самой причине, по которой в чеховской пьесе дядя Ваня и русская София стали невостребованными. Экспорт заемной мудрости из Европы, не только марксизма, но и либерализма, и национализма тоже – вынудил во время этой долгой зимы русской истории собственно русскую философию бездействовать, отдыхать. Она была не востребована ни властью, ни обществом. А вот сейчас сама ситуация глобального кризиса возлагает на Россию обязанности, которые нельзя выполнить без собственной полноценной философии (не идеологии как упрощенного взгляда на мир ради поиска врагов как оправдания ошибкам). Вот почему извлечение Мастера востребовано именно сейчас. Вот почему Маргарита мечтает о возвращении мудрости в общественные дела. Хотя и с появлением философии, то есть взаимного уважительного общения философов, ее влияние на события не сразу появится и проявится.
14. «Вызывает интерес ваш обчественный прогресс»
Всякий раз при истолковании очередной порции пророчеств хочется забежать вперед, заглянуть за горизонт событий. И всякий раз убеждаешься, что жизнь не то чтобы сложнее, но иначе устроена, чем можно себе интуитивно представить.
Вот и с прощением Фриды получилось так же. Вообще-то в целом и общем было угадано, что речь не о прощении, а о прощании с некогда яркой, буйной и особо приглянувшейся для культурной столичной общественности (Маргариты) партии либералов, лицом которой выступал покойный Немцов. Не стану врать и о том, что фраза: «Послышался вопль Фриды, она упала на пол ничком и простерлась крестом перед Маргаритой», и особенно символ креста сразу навевали мысли о какой-то жертве. Но рука не поднялась написать об этом раньше событий, а вдруг обошлось бы.
Вот и вопрос, нужно ли нам и дальше пытаться забегать вперед или будем следовать строго за происходящими событиями? Тут еще одна закавыка есть в нашем политическом, он же актуальный исторический процесс. Изменения в ситуации и в информполе происходят не одномоментно, а в форме узлов – быстротекущих, но все же имеющих длительность процессов. Какая-то часть общей ситуации проявляется сразу и ее можно быстрее опознать в символике пророчества, а какими-то финальными штрихами и событиями каждый узел завершается.
Но мы все же, дуя на воду, вернемся к ретроспективе и посмотрим, не упустили ли мы чего из уже ставших ясными толкований? Скажем, почему Воланд доверил прощение Фриды Маргарите, а не исполнил ее просьбу? Похоже, именно потому, что Творческий дух истории, во-первых, пожалел московскую культурную общественность, а потому не стал поддерживать в ее желаниях. Да, с одной стороны. Маргарита втайне желает возвращения Мастера, и ее превращение в двадцатилетнюю имело вполне ясный символический смысл: двойка во втором знаке – стремление к мудрости вместо или точнее вместе с прежним стремлением к любви тридцатилетней. Все же отражение в зеркале не отменяет оригинала.
Не будем слишком строги к «малому народу» культурной общественности, который по своей социальной природе призван соединять нашу русскую цивилизацию со всеми прочими. В этих поисках любви по всем азимутам, мечтаниях и фантазиях – сама женская по природе суть столичной интеллигенции, даже хранящей верность властному мужу. Именно поэтому культурной общественности так близка и кажется отражением самой себя женская, но все же блядская, пардон, сущность космополитичной либеральной партии. Сами либералы всячески мимикрируют под культурную элиту, но кроме убогого креатива и провокаций ни на что не способны. Тем не менее, эта тактика привлечения внимания, поиска сочувствия у культурной элиты и наваривания на этом западных грантов до сих пор срабатывала. А сейчас, после самоубийственной провокации с Немцовым вдруг перестала срабатывать – отлучили от псевдокультурных кормушек.
Культурная общественность исторически пестовалась и лелеялась «мужем» духом властной администрации в видах международного престижа и глобального влияния, это факт. Русская литература, академия художеств, классический театр – все это всходы на поле, удобренном из императорской казны. При этом властный дух академического сообщества, выведенный Чеховым в лице профессора Серебрякова, всячески старался удержать в маргинальном положении дух русской философии, то есть цивилизационного, а не европоцентричного политического самосознания. Да-да, чеховский дядя Ваня, влюбленный в жену профессора – это тот же самый персонаж, а булгаковский Роман – это продолжение сюжета мхатовской пьесы, как и сам Булгаков – продолжение сюжета мхатовской истории, в котором философские мотивы самопознания подавлены академическим духом, стремящимся к международной славе и представительности.
Но мы отвлеклись от актуального продолжения этого драматического сюжета, предшествующего возвращению мастера. Обращение Маргариты к Воланду, то есть к Творцу истории с просьбой освободить Фриду от проклятья убийственного предательства – есть просьба, по сути, вернуться к старому, как было раньше, и при царской власти и при позднесоветской. Столичная культурная общественность была лучшей и лелеемой частью либеральной партии, связывающей молодую русскую цивилизацию со старой европейской соседкой. Почему бы и не возжелать возвращения к прежнему высокому не только культурному, но и политическому статусу? Понять такое желание вполне можно.
В ответ Творческий дух не отказывает прямо, но предлагает культурной публике решить вопрос своими силами, без опоры на власть. Раз уж Фрида сделала ставку на заступничество Маргариты, пытается использовать ее для восстановления своего реноме и статуса. Ради этого и титулом королевы можно польстить. Да чего уж там, в общем-то и муж, он же властный распорядитель Бала, не против вернуться в прежние времена. Но что с того, если Творческий дух Истории не желает в этом участвовать. Так что единственное, что остается Маргарите – это распрощаться с Фридой. Все что могла, она для нее сделала.
Любопытно, что почти сразу же после этого прощания культурной общественности со своим околополитическим двойником, хором «дали петуха» два брата Михалкова, олицетворявшие космополитичную и одновременно придворную стороны культурной элиты. Это же надо! Ради возможного профита – взять и публично проассоциировать себя с фастфудом, пусть даже «патриотическим». Ничего против прежних заслуг и творчества не имею, но последние творения – скорее, да, из этой категории.
И вот только теперь, после расставания с мечтами о прошлом и иллюзиями о его возвращении, Маргарита решается вспомнить о давнем тайном воздыхателе – философе. А то раньше как-то не до него было, не до самосознания и премудрости, все балы да балы, внимание публики, политиков, послов и зарубежной прессы. Мало того, даже бывший муж – дух властного администрирования подталкивает ее к этому, хотя бы потому, что ощущает – власть без культурной опоры, без символического капитала – ничто. А весь символический капитал прозападной ориентации, хоть либеральной, хоть марксистской – обесценился. И только тогда культурная общественность нерешительно, но вспомнит и замолвит слово о бедном философе, что «может собственных Платонов… земля российская рождать».
В общем, и в этом эпизоде тоже, как и во всем Романе – внешняя сторона сюжета, сатанинская «змеиная кожа» Романа является обманкой, для отвода глаз. Понятно, что и в сталинские, и в позднесоветские времена протащить не то что в печать, а даже в салоны творческой публики роман о Христе, а тем более пророчество о втором пришествии – было решительно невозможно. Вот о Понтии Пилате как главном герое романа в романе, и о сатане, правящем бал в Москве, сколько угодно.
А между тем, даже сама эта форма сокрытия духовного под сатанинским, когда Автор бьет лукавого его же оружием – тоже пророческая, о наших с нами временах. Когда сплошь и рядом черное называют белым и наоборот, когда можно встретить в ленте новостей и блогах фразы типа «пророссийские террористы всего за неделю восстановили движение по железной дороге» или «проклятые ватники, зомби и быдло создают атмосферу ненависти». Единственное, что интересно в этом потоке лжи – сам феномен полной подмены фактов и выворачивания наизнанку. Впрочем, как и было предсказано все в той же 24 главе: «И интереснее всего в этом вранье то, сказал Воланд, что оно вранье от первого до последнего слова.»
15. Накануне
После затянувшейся паузы вернемся к любимому занятию истолкования притч и пророчеств. Впрочем, и сама эта пауза была в 24 главе Романа напророчена. После трагичного прощания с Фридой (либеральной партией), когда ее олицетворение упало ничком и простерлось крестом (жертвой) на Москворецком мосту, сама Маргарита (культурная общественность), все еще по советской привычке ассоциирующая себя с либералами, тоже было засобиралась:
Благодарю вас, прощайте, сказала Маргарита и поднялась.
Однако, не так уж сложно убедить культурную общественность списать свой страх и обиду на историческую случайность («это не в счет, я ведь ничего не делал»), просто пообещав ей нечто для себя самой: «Что вы хотите для себя?». То есть какое-то время (примерно до 9 мая) ушло на то, чтобы убедить культурную общественность, что она ценна сама по себе, а не в связке с либералами как проводниками западного влияния. И вот после этого пошла пауза: «Наступило молчание…»
Следующее обращение культурной общественности к Воланду, то есть к одной из ипостасей Бога, как обычно, означает какой-то религиозный праздник. Причем участие деятелей культуры произошло по подсказке Коровьева (политической администрации). Это в прошлые годы участие культурной общественности в религиозных праздниках было формой дистанцирования от официоза – в советское время на Пасху, в ельцинское – на католического св.Валентина, в путинское – на Песах. На этот раз деятели культуры пели и плясали в православно-патриотичном гала-концерте на берегу Оки в Муроме по заданию политического руководства. И в обращении героини к Воланду звучит указание именно на этот новейший светско-религиозный праздник «День семьи, любви и верности»:
Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера, сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой.
Других официальных религиозных поводов вспомнить про любовника, пожалуй, и не найдется. Напомню для неофитов, что этот недавний праздник, учрежденный президентской четой Медведевых, стоит в календаре 8 июля. А именно в этот день, на фоне судорожных метаний столичных деятелей, в Уфе происходило важнейшее геополитическое событие десятилетия – саммит БРИКС и ШОС, вновь возобновивший течение политического времени.
Что же касается последующих событий, описывающих, скорее всего, начало активной фазы глобального кризиса, то эти события пока не начались на момент написания этой главы, 19 августа. Хотя желание общественности, чтобы хоть что-то начало происходить «сию секунду», вполне эмоционально объяснимо, но и эти слова, наверняка, имеют какое-то скрытое значение.
Вообще, как показал опыт предыдущих забеганий вперед и попыток досрочного истолкования предсказаний – это самый верный способ попасть пальцем в небо. Потому что по законам жанра мистических пророчеств, они не должны быть однозначно поняты вплоть до события, иначе такая определенность может повлиять на действия участников событий, и пророчество не сможет сбыться. Поэтому настоящее пророчество, как в Евангелии, имеет не только скрытый истинный смысл (цельнотканую нижнюю ризу), но и внешние, доступные сознанию смыслы, имеют разные толкования, так что каждой из четырех частей светского политического процесса достается своя собственная внешняя часть риз, свое собственное толкование.
Поэтому мы на этот раз не станем сильно забегать вперед, а лучше обратим внимание именно на символику слов, в том числе нами пропущенную при досрочных толкованиях. Например, в самом начале 24 главы Маргариту угощают чистым спиртом из лафитного стаканчика, как и Мастера сразу после его извлечения. Между прочим, этимология русского слова «лафитник» восходит к знаковой странице российской истории XIX века, когда произошел поворот от прогерманской к профранцузско-британской политике. Первые финансовые займы, организованные для Петербурга финансовым домом Ротшильдов, сопровождались условием обязательных поставок на русский рынок промышленных объемов красного вина «Шато Лафит-Ротшильд». А мы в курсе, что последние года два-три имена Ротшильдов (и их визави Рокфеллеров) с политологических страниц в Интернете просто не сходили. Кроме того, участие потомков или преемников Ротшильдов в финансовой и информационной политике в России, как и во всем мире, стало пусть и не очевидным, но приоткрылось для многих.
Так что слово «лафитный» является синонимом «ротшильдовский», а вот слово «стаканчик» есть малая форма представления некоторого творческого содержания (вина). Прозрачное стекло намекает на экран компьютера или телевизора, хотя для ТВ у нас уже есть свой иносказательный образ – «камин». Кроме того, на ТВ нынче с творчеством совсем худо, все больше «креатив» информационно-развлекательная жвачка. Опять же при поглощении содержимого объем стаканчика назван уже «стопкой», что мы с помощью известных правил толкования легко связали со стопкой листов, то есть с рукописью. А рукописи творческих материалов у нас можно встретить только в блогах, так что речь, очевидно, идет, о принадлежащей неким лондонским банкирам через их рассеянских клиентов платформе для блогерской коммуникации. И это точно не Твиттер и не Фейсбук, которые не лондонские, а американские, и тоже неформат для творчества. Кроме русского сегмента Livejournal.com – другого подходящего варианта и не найти.
За какие еще не истолкованные слова можно зацепиться? Ну, да «сию секунду» от Маргариты. Это выражение использовано Автором трижды – в 23 главе перед явлением Майгеля, в 24-й главе – перед извлечением Мастера, и в 27 главе – перед повторным появлением А.А.Семплеярова. Третий вариант – пока не в счет, до этих событий еще очень долго, а вот первый случай лишний раз напомнил о той самой особенности развития исторических процессов, когда в лаборатории маргинального «творческого меньшинства» роковые события не просто случаются, но обкатываются раньше, чем в мэйнстриме.
Первый раз «сию секунду» было сказано перед явлением «праздничной полночи», глубокого политического кризиса на уровне маргинальной для остального мира российской политической элиты. И предварялось раскассированием (лишением валютной кассы) и распадом здешнего сообщества двурушников-правозащитников, персонификацией которого является М.Гельман (Майгель – это практически анаграмма), а манифестацией – «устрицы» Пуссирайот. Нынче тоже на слуху очередная провокация того же стиля, на этот раз в храме искусства – и явно проплаченная не из российских фондов. В связи с этим есть и более серьезная параллель с вступлением в силу очередного ужесточения закона об НКО, на этот раз с раскассированием филиалов и контрагентов международных и зарубежных фондов – то есть аналогичного глобального субъекта двурушников, персонификацией которого является внешний экс-патрон Гельмана – Дж.Сорос. Так что момент времени, обозначенный «сию секунду» довольно четко обозначает параллель с разрывом связи между российской политикой и западными «спонсорами» политического влияния перед выходом политического кризиса (перезагрузки политической системы) на глобальный уровень.
Можно помедитировать и над отдельно взятым словом «секунда», весьма часто употребляемым в Романе. Кроме обозначения краткого отрезка времени, это еще и латинский вариант числительного «второй», имеющего иносказательное значение «мудрость», «мудрый». Краткая латинская мудрость – это намек на некий известный афоризм, причем слово «сия» тоже должно как-то указывать на начало поговорки, например, вполне подходящей: Sic transit gloria mundi!
Итак, мы вплотную подошли к кульминационному моменту всей любовной линии Романа, так что даже есть смысл процитировать целиком:
«Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло, тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно, и в далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. От подоконника на пол лег зеленоватый платок ночного света, и в нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был в своем больничном одеянии – в халате, туфлях и черной шапочке, с которой не расставался. Небритое лицо его дергалось гримасой, он сумасшедше-пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел вокруг него.»
Еще раз напомню, что исторические процессы происходят не в один момент, а любой тренд нарастает и проявляется волнами. Так что и символика, означающая выход тренда на поверхность, может и даже должна проявляться несколько раз. Как это было с пламенем свечей в виде пожара в ученом сообществе РАН в январе. А нынче еще более масштабный пожар, тоже связанный с инфраструктурой науки – самым большим в мире суперкомпьютером в китайском мегаполисе символически был поддержан новостью о пожаре в Протвино, где так же зарыта в землю гигантская научная инфраструктура.
Но истолковать пророчество в полной мере можно будет только, когда все события произойдут. Потому как «зеленоватый платок» минских соглашений может лечь на пол и в том смысле, что станет, наконец, реальной, а не виртуальной основой для движения, а может и в том смысле, что будет брошен и растоптан. Хотя, если в пророчестве скрыты несколько вариантов толкования, а это так и есть, то для одних участников сбывается одно, а для других – другое, ровно то, во что они верят. Так что, скорее всего, минские соглашения будут растоптаны в формальном смысле, не исполнены по букве, но вполне могут воплотиться по духу, в смысле заложенных в них целей. И тогда этот путь российской самодержавности (в смысле политической самостоятельности, а не формы правления) потребует извлечения на свет (но не дневной) русской философии, забытой на сто лет привластной академической и культурной общественностью, как бедный дядя Ваня в своем новороссийском поместье.
Думаю, у нас еще есть некоторое время до начала совсем уж активной фазы глобального кризиса, рвущегося в вот-вот распахнутое «окно», чтобы успеть понять иносказательный смысл каждого (!) слова из вышеприведенной кульминационной цитаты.
16. Ориентировка
Лишний раз предупрежу недавних читателей, что мое исследование символики булгаковского Романа – вполне можно считать просто литературоведческим. Если роман-притча иносказует о втором пришествии и конце времен, то для исследователя романа нет необходимости тоже в это верить, но только убедиться, что сам Автор верил. Для этого нужно всего лишь знать словарь библейских символов и правила их истолкования, не то что бы общеизвестные, но все же не так чтобы уж и скрытые для дотошного исследователя. А если по ходу литературного исследования оказывается, что буквально каждое слово, каждая фраза из Романа при символическом толковании указывает на соответствующую цепочку исторических, а теперь уже и текущих событий, то это можно считать просто интеллектуальной забавой. (Каждый может попытаться сделать столь же плотную и осмысленную привязку к любому другому периоду времени. А вдруг получится?)
Так что и я продолжу свою игру в разгадывание монументальной головоломки. Давние читатели, наверное, уже заметили, что одной фразе Романа соответствует, как правило, не только ключевой момент, но целый период. А еще могли заметить, что луна зачастую служит подсказкой, ориентиром во времени и пространстве, когда смысл (источник света) нужно искать не в ней самой, но с учетом ее положения на небе. Так, например, в 21 главе «Полет» положение полночной луны слева по ходу рассказало нам о направлении самого полета на юго-запад, к Киеву.
В 24 главе подсказкой могут служить слова «в далекой высоте открылась луна», если читать их более строго, не как художественное описание процесса выглядывания из окна. Сама по себе луна может открыться лишь в одной ситуации – в момент завершения лунного затмения. Такое ближайшее затмение ожидается в ночь на 28 сентября сего года. Дополнительно весомым подтверждением такого толкования является указание Автора на то, что Маргарита думала, что по ее расчетом, уже шесть утра, а не полночь. И в самом деле, лунное затмение 28.09.15 будет иметь свой максимум в 5.47 МСК, то есть луна и в самом деле откроется в московском небе около шести утра.
Тогда вопрос, в каких странах и столицах в это время будет полночь? Ответ – ни в каких, а только посреди Атлантического океана. Поэтому высота – далекая. Речь может идти не о той или иной стране и столице, а обо всей зоне видимости лунного затмения этой ночью – по обоим берегам северной и южной Атлантики. И только в западных регионах России, и то не так контрастно в западной части небосклона, и не на высоте, а ближе к горизонту. Возможно, это имеет значение для истолкования других символов, например, ворвавшегося в комнату ветра. Кроме того, полная луна может указывать и на полный лунный цикл, то есть месяц между двумя полнолуниями – 29-30 августа и 27-28 сентября – как на период, к которому относится вся фраза:
«Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло, тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно, и в далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна.»
Снова напомню, что если слово встречается в Библии, то и у потомственного богослова Булгакова оно имеет тот же символический смысл. При этом в Ветхом Завете ветер чаще всего случается в период суровых испытаний. Например, во время египетских казней восточный ветер приносит саранчу, а западный – уносит обратно. Самое частое упоминание символа ветра – в книге Иова, где сатана на спор с Творцом провел испытания веры сего праведника. Так же и в Псалмах 10 и 77 палящий восточный ветер насылается для наказания нечестивых. А самое первое упоминание ветра – в рассказе об испытаниях Ноя: « и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба». То есть ветер связан не с самими испытаниями, а с большими изменениями в период испытаний. Да и ветры бывают разными – западный приносит дожди, южный – зной, но также перепелов для Моисеева племени, восточный – саранчу и засуху. Впрочем, и перепела тоже были, как выяснилось, испытанием, ибо от избытка мясной пищи многие погибли.
В книгах Евангелия ветер налетает на лодку апостолов, плывущих по Галилейскому морю, а апостол Петр пугается ветра в момент, когда пытается по примеру Учителя пройтись по волнам. Разумеется, этот эпизод – иносказание, но повествует явно о каком-то испытании для адептов христианского учения (лодки, в которую их направил Иисус) и об опасности ученикам самим ходить по воде, то есть толковать пророчества вне связи с данным им учением. Впрочем, это мы отклонились от обсуждения символики ветра. Разве что уточним, что ветер был противный, а плыли они на западный берег, то есть и ветер был западный. Важно также, что и в само наставление апостолам входит символика южного ветра, несущего зной, или западного ветра, несущего дождь, а главное – в учении о Царстве Небесном и втором пришествии использует именно этот образ ветра, не страшного дому на камне, но обрушившего дом на песке, для испытания праведных и неправедных мужей. И кстати, из этих слов ясен символ дома как иносказания личности. Ну и, разумеется, символы четырех ветров как орудий четырех Ангелов даны в финальной книге Нового Завета – Апокалипсисе.
Если слово дом символизирует личность, что есть в нем окно? Нужно заметить, что вообще говорение языками, то есть притчами и прочими иносказаниями – это был до недавних пор единственный способ метафорически обсуждать виртуальную реальность психической жизни, вернее даже – психоисторическую реальность, включающую историю развития психики и психологическую сторону истории человечества, скрытую от глаз как некий «черный ящик» коллективного и личного бессознательного. Тем не менее, и в этом «ящике», доме, есть некая часть, открытая внешнему миру и открывающая для личности внешний мир – то есть сознание. Никакого иного смысла символ окна как части дома не может иметь.
Таким образом, речь может идти о неких испытаниях, но какого характера – вряд ли речь о физических испытаниях, скорее – о духовных. Апостол Павел, как и для других символов, приоткрывает тайну смысла в Послании Эфесянам: «дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» /Эф 4,14/. И это истолкование ветра как некоего внешнего влияния, врывающегося в сознание людей и срывающего занавесь, отгораживающую чувствительные глубины психики – очень похоже на складывающуюся нынче в мире кризисную ситуацию. Информационный ветер навевает затмения и рвет шаблоны.
Тут следует еще указать на различие и взаимосвязь внешних исторических (политических) событий и внутренних изменений психики человека и человечества. Нужно учесть, что личность соткана из многих внешних связей с другими личностями и сообществами, как и глубинных интуитивных связей с опытом поколений. Поэтому изменение психологически значимых внешних связей вследствие каких-то символических событий влечет изменение внутренней структуры психики, и наоборот – актуализация глубинных связей, их осознание влечет изменение внешних отношений. Именно поэтому всегда есть и внешнее, событийное и внутреннее, психологическое истолкование.
Совокупный Запад по обе стороны Атлантики – есть средоточие сознательных, рациональных взаимоотношений, в то время как Россия, русский народ руководствуется глубинной интуицией. Так что окно действительно символически связано с Европой. А вот символ подоконник напрашивается на толкование как подсознание, личное бессознательное. И эти переходные взаимосвязи характерны для лимитрофов Восточной Европы, той же Беларуси, с которой мы уже проассоциировали зеленоватый платок, легший от подоконника. Впрочем, «минский» платок связан и с Украиной тоже. Так что вся эта логика внутреннего психологического истолкования подтверждает ранее сделанные внешние истолкования этих же символов.
Внешнее истолкование символа «пламя свечей легло» мы уже отчасти дали, случаев крупных пожаров, символически связанных с научной инфраструктурой, в этом году слишком много, чтобы не обратить на это внимание. Хотя символ «канделябр», придуманный Булгаковым для будущих компьютеров (в том числе совпадение числа букв, начальных и конечных букв) фокусирует внимание на тяньцзиньском пожаре, из-за которого был остановлен самый большой в мире суперкомпьютер. Многие наблюдатели считают это событие триггером, как минимум, внутрикитайских политических разборок, спровоцировавших нынешний кризис на мировых финансовых рынках. А уже следствием этого стало нарастание информационных атак, призванных полностью дезориентировать элиты соперничающих стран и союзов, не говоря уже об обществе.
Но должно быть и внутреннее психологическое толкование, связанное с отношением общества к науке, да и с кризисом самого научного сообщества и научного метода, как минимум, в гуманитарной сфере, включая экономику. Неработоспособность вроде бы научных моделей, отсутствие сколько-нибудь надежных прогнозов привели к тому, что в компьютерах новости науки выглядят примерно так: «британские ученые открыли секрет оргазма у …», а прогнозы отданы на откуп гадалкам и астрологам. Впрочем, информационная кампания англо-саксонских элит по дискредитации мнения ученых имеет весьма давние сроки, а сейчас достигла апогея. Цель кампании тоже понятна – чтобы каждый и общество в целом даже не пытались критически мыслить и анализировать, хотя бы искать в сети трезвые мнения, а реагировали на информационные вбросы ровно так, как задумано манипуляторами. Если личность не имеет под собой крепкого фундамента веры в незыблемые законы бытия, воспитанной веками христианской традиции и воплощенной в научные открытия, то такой дом на песке легко разваливается под напором иссушающих душу внешних влияний.
Разумеется, сама по себе полночная полная луна – и даже с затмением явление не редкое, минимум, раз в полгода повторяется. Но в сочетании с символами праздничного майского полнолуния и других уже разъясненных нами символов имеет в Романе вполне апокалиптическое звучание момента наступления глобального кризиса (что несколько неудачно переведено с древнегреческого как «страшный суд»). Причем речь идет о ступенчатом нарастании кризиса, сначала в Москве как центре кризисных событий, а потому уже в остальном мире. А если учесть, что в Москве вот уже третий год весь кризис больше в головах и в информационном поле, то и глобальный кризис является страшным только для информационных, духовных сущностей, а не для людей и народов, если только люди и целые народы не порабощены этими информационными вирусами.
В связи с этим было бы неплохо определить, какой именно ветер Апокалипсиса (ведь их четыре) угрожает распахнуть европейское «окно»? Тут нам тоже помогает ориентироваться полночная луна, которая для наблюдателя в находится на юго-востоке (в майское ближе к югу, в сентябре ближе к востоку). Следовательно, для народов с берегов Атлантики это, скорее всего, восточный ветер, иссушающий надежды и приносящий вредоносные информационные вирусы (саранчу), лишающие разум здоровой пищи для ума. В то время как для западной части России и ее соседей – это западный ветер, несущий дожди (вода – это символ надежды), хотя и чреватый другой угрозой утонуть в разливе рек, если не иметь каменного, основанного на вере в вечные законы, фундамента личной и национальной психологии.
Можно отметить, как любопытный факт, что восточно-юго-восточный ветер имеет в древнегреческом языке особое имя – «эврос». А в Евангелии, все книги которого есть пророчество судеб христианской, а значит и мировой цивилизации, есть единственный ветер, названный по имени – «эвроклидон». Тот самый, что выбросил плененного имперским государством апостола Павла со спутниками на песчаный берег острова, где его корабль (а это символ учения восточной, православной церкви) был разрушен на пути в Рим. Вторая часть имени означает «вал, волна». Не знаю, есть ли смысл ассоциировать именно это направление ветра с той волной беженцев с юго-востока, которая захлестнула Европу и сводит с ума обывателей. Или может быть со второй волной глобального финансового кризиса, поставившего под угрозу само существование еврозоны и евровалюты? Впрочем, это пока только риски, угрозы, а сбудутся или нет пророчества именно во внешнем толковании – зависит от понимания субъектами внутреннего.
17. Романтическая встреча
Прежде всего, нужно отметить, что заранее, еще 29 августа истолкованное пророчество, связанное с сентябрьским солнечным затмением, в целом сбылось. Восточный ветер эурос в сентябре обернулся именно разрушительным эвроклидоном, когда Европу захлестнул девятый вал «сирийских» беженцев, до сих пор еще грозящий сломать правовые скрепы Евросоюза. Однако же навстречу восточному ветру для Европы соответственно расположению полной луны в момент сентябрьского затмения – для самого Ближнего Востока и для России поднялся западный ветер. Этот ветер тоже символизирует испытания, но несущие воду надежды в виде российского вмешательства в сирийский конфликт.
После сбывшегося в октябре прогноза и вследствие этого вмешательства в мире и в России произошли кардинальные события. Однако текст иносказаний из 24 главы, где должны были быть указания на эти событий, уж очень компактный. Обнаружить намеки хотя бы на время событий не так просто. Разве что вспомним, что прямые обращения Маргариты к Воланду до сих пор соответствовали религиозным праздникам. Поэтому нам может быть интересно вот это патетическое восклицание:
«Она произносила только одно слово, бессмысленно повторяя его:
- Ты... ты, ты...»
Символическое число однозначно требует связать это трижды одно слово с Богом, он же Истина. Для меня, как и для читателя, этот момент обращения к Мастеру как одной из божественной ипостасей, то есть как к носителю Истины, психологически сложен. Да, мы уже на протяжении всего долго пути истолкования текста Романа нашли множество подтверждений тому, что Автор, продиктовавший Булгакову этот текст и его подтексты, имел в виду именно иносказание о Втором пришествии Христа, одной из трех ипостасей Бога. Евангельская притча о неразумных девах также символически изображает Второе пришествие как полуночное бдение невест в ожидании жениха.
Кстати, одним из главных знаковых событий для культурной общественности, не только московской, стала мировая премьера «рождественского эпизода» сериала «Шерлок». В этой «викторианской» серии также явно обыгрывается символика встречи невестами полуночного гостя из той же притчи. При этом главная из невест («безобразная» по мнению неразумно ревнивой англичанки) тоже трижды кричит «You, you,you!». Как некий иллюстративный знак это культурное событие нам подходит.
В отличие от натужно, нарочито «символичных» опусов, претендующих на глубину, булгаковский воздушно легкий текст несет глубокий смысл не только в каждом слове, а в каждой запятой или многоточии… Если прямое обращение к одной из божественных ипостасей связано с религиозным праздником, тогда «Ты… ты, ты…», вполне уместное для обращение к триединому Богу, вполне может означать череду из трех воплощений одного и того же праздника, причем между первым празднованием 25 декабря и вторым в январе есть и другие праздники, поэтому многоточие, а 6 и 7 января идут друг за другом «через запятую», а потом опять святочное продолжение…
Московская культурная общественность имеет не только православные, но и католические, и лютеранские, и армянские корни, так что все три варианта обращения уместны и в календарном смысле.
Психологическая сложность принятия такого истолкования у нас с вами возникает из-за сложившегося стереотипа отношения к христианской мифологии именно как к сказке, а не как к пророчеству – причем это отношение и у воцерковленных, и у атеистов. Между тем, именно наше долгое и успешное истолкование Романа дает ключ к более глубокому, а не поверхностному пониманию смысла евангельских притч и самого Евангелия как Великой Мистерии, а вовсе не сказки о буквальном физическом воскрешении «сына человеческого», то есть смертного.
Все персонажи Романа, как и все персонажи евангельских или иных библейских притч, изображаемые как человеки суть духи или души больших сообществ, но в силу этого они присутствуют в психике составляющих эти сообщества людей и являются психическими ипостасями разного уровня глубины. Однако, это современные пророки могут облекать притчи в формы художественных произведений, а в античные времена такой главной формой была только Мистерия (и выросший из нее театр). В этом символическом представлении смертные люди не просто играли роли богов, они проживали божественные страсти как земные воплощения.
Избавиться от домыслов и противоречий позволяет только истолкование евангельских страстей как античной Мистерии на материале синкретичной иудейской религии. Мистерии, породившей синтетическую религию христианства. Однако при этом мирской «церкви Петра», пасущей «овец», то есть профанов, доступна для запоминания и воспроизведения лишь внешняя форма Мистерии. Именно поэтому этот Петр, камень, вероучительный закон, не способен исказить хранимые им зерна глубокого смысла. Но кроме мирской церкви-зернохранилища с каменным основанием, символически обозначенной как четыре тысячи, насыщенных семью хлебами, Учитель основал и другую экклесию, обозначенную как пять тысяч, насыщенных пятью хлебами и двумя рыбами. Напомню, что 7 означает «закон», а 5 – «тайное знание», 2 – «мудрость» двух Заветов.
Приходится эти сложные и глубокие библейские материи тоже разъяснять в связи с «извлечением Мастера», потому что иначе отдельные читатели начнут спрашивать:
- А где же Он? И как бы нам сугубо физически вложить персты в его раны?
В этом физическом, сугубо материальном смысле никто, кроме профанов, никогда Воскресения и не ожидал, и не обещал. Это действительно сказки. А вот явление Истины в виде Творческого сообщества, насыщающего культурную общественность новыми глубокими смыслами, символизируется пришествием Мастера, Учителя. Именно для этого физического человека (сына человеческого) – земное воплощение ипостаси Истины для Мистерии пришлось ради спасения учеников распять. Только так они смогли уйти от полупрофанного, синкретического восприятия Мессии как земного царя. И только так хотя бы часть учеников из числа пяти тысяч могла проявить в себе самих эту ипостась Сына Божьего.
Так и сейчас, Второе пришествие (если, конечно, верить Автору Романа) – это тоже «всего лишь» проявление в немногих людях, ощущающих себя учениками Мастера, способностей воспринимать всю глубину и сложность Истории как Аристотелевой Драмы, Подлунной Мистерии. Число таких людей уже сейчас точно не один и будет умножаться по мере развития новой большой стадии Истории, в которую на наших глазах переходит человечество.
Напомню, что всякое сообщество есть психолого-исторический процесс, включая культурную надстройку всех цивилизаций, которую для краткости принято наделять именем Человечества. Всякий исторический процесс проходит большие стадии – Подъем, Надлом и Гармонизацию. Все три большие стадии имеют четыре четверти, включая первую, предварительную, протекающую параллельно и сопряженно со второй половиной последней четверти предыдущей большой стадии. Соответственно, узлу 10/11 Подъема (Дно Надлома последней четверти) соответствует первый узел (Пик Подъема) большой стадии Надлома, для процесса Всемирной Истории – это момент необратимого раскола античных элит Римской Империи после разрушения Иерусалима, и высвобождение тем самым новорожденного христианства. Именно этот момент является «вторым пришествием» в рамках полувековой Мистерии первоначального апостольского иудео-христианства. Когда Учитель снова пришел к ученикам, к авторам Апокалипсиса и Евангелий, но только не внешне, а внутренне, как ипостась их собственной психики.
Соответственно, и сейчас, именно в данный момент Всемирная История проходит узел 20/21 Надлома, тоже узел 16/17 последней четверти Надлома, и тоже – первый узел третьей большой стадии Гармонизации. Начальный узел стадии Подъема – это Адам и Ева (соединение двух первых культурных сообществ и синтез из них протоцивилизации). Начальный узел стадии Надлома – это «второй Адам» и начало освобождения от «грехов Адама», то есть стереотипов стадии Подъема. Начальный узел стадии Гармонизации – это такой же переход к освобождению от «грехов» двухтысячелетней большой стадии Надлома, в том числе от профанного восприятия христианских, библейских ценностей.
Многие читатели и особенно читательницы наверняка будут разочарованы таким сугубо философским толкованием внешне романтической встречи «третьего Адама» с его Маргаритой. А как же «Она целовала его в лоб, прижалась к колючей щеке…»? Но кстати «Мастер отстранил ее от себя и глухо сказал: Не плачь, Марго, не терзай меня.» Как раз по поводу возможных эмоций.
Еще раз прошу меня извинить всех, кого данное толкование Романа, как и евангельских притч, не устраивает. Это означает лишь, что мы с вами живем в разных слоях объективной культурной реальности. Большинство пока привержены грубому материализму последней четверти Надлома, а есть даже и такие, кто все еще живет античными и иудейскими ценностями Подъема Всемирной Истории. Но с каждым днем сообщество, олицетворением которого является аватар Мастера будет пополняться и набирать силу, пусть даже в своем подвале, то есть маргинальном информационном и социальном пространстве.
Но между тем, по размышлении, нашлось объяснение и тому обстоятельству, что полугодовой поток весьма важных событий отражен лишь в очень компактном тексте. Все дело в том, что буквально каждое слово в этом тексте несет ассоциативные связи с другими, уже истолкованными ранее главами Романа. Например, слово «зеленоватый» отсылает нас не только к белорусскому берегу Припяти из концовки 21 главы, где в отсутствии духа Истины отдыхала душа столичного сообщества. Другое употребление этого слова отсылает нас к 12 главе, зеленоватым трубкам на зеркалах сцены Варьете. Само представление однозначно относится к периоду обвальной ваучерной приватизации, когда каждому зрителю с потолка свалилась «десятка». Но ведь и сейчас попытки повторить либеральный вариант приватизации, вернее разговоры об этом – находятся в центре внимания политизированной публики. Однако все же не всей публики и кроме обсуждений и планов, конкретных действий пока не видно. Возможно, поэтому Автор и ограничился лишь косвенным намеком на такое виртуальное повторение истории.
Однако, это означает, что нам еще есть что поискать даже в столь кратком тексте в виде ассоциаций и реминисценций.
18. Весеннее оживление
Вообще-то можно было бы обойтись и без этого развлечения – в виде длящегося истолкования Романа как пророчества. Политические хитросплетения и так получается распутывать и анализировать, на основе вполне научной модели, без эзотерики и древней символики. Но раз уж в наших руках есть, как выяснилось, путеводитель по этой части мировой культуры, то грех не использовать его для расшифровки библейских символов, а не только изобретенных Автором для иносказательного предсказания наших реалий.
Лишний раз извинюсь за то, что не всегда привожу подробные обоснования той или иной отгадки. Я уже писал в послесловии к «MMIX», что моя задача – разделать и сервировать эту рыбину, то есть Роман, а не разжевывать ее для читателей в труху. Иначе какое тогда удовольствие от самостоятельного прочтения? Не говоря уже о том, что такой излишне подробно разжеванный текст был бы неподъемным по времени и для читателя, и для писателя.
На всякий случай дам более подробное обоснование значения одного из символов в 24 главе – платка как договора или соглашения. Это значение всплыло при толковании 23 главы из контекста, где дамы обернулись партиями (это, кстати, синоним в контексте бала), Фрида с ее повадками оказалась либеральной партией. А убиенный ею двадцать лет назад новорожденный – это обновленный Союз. В жизни придушили младенца с помощью беловежского договора, в иносказании – с помощью платка, белого с синей каемочкой (Белая Вежа – это белый замок, окруженный синей водой). Но есть и другие подсказки. Договор всегда имеет, минимум, две стороны, как и платок, но может быть и многосторонним, смотря как его сложить и узлы связать. Платок, как и договор, может связывать края, стороны, страны. Так что оснований для такого истолкования более чем достаточно.
Теперь вернемся к наиболее актуальному прочтению этого символа – зеленоватому платку света на полу. Само наличие луны в начале абзаца призывает нас ориентироваться в сторонах и частях света. Окно мы уже истолковали как сознание в контексте психики, в том числе коллективной психики мировой культуры, а проекцией сознания как части психики на части света является Европа. В таком случае подоконник легко толкуется как ближайшее к сознанию – подсознание, а в контексте культурно-исторической карты – это Восточная Европа, включая европейскую часть России. Это соответствует наблюдаемым феноменам культуры, когда именно восточные европейцы славятся инженерной интуицией как Тесла, Сикорский, Циолковский, Королев, Сухой и многие другие. Рациональные и даже оптимальные решения приходят к ним сами собой, во сне. В то время как их западным, особенно англо-саксонским коллегам приходится, как Эдисону, добиваться такого же качества путем многих и многих проб и ошибок, просчитывать все многочисленные варианты.
В таком случае, какой части света и какой части психики соответствует пол? Нам хорошо известен символ земли, почвы, опоры под ногами, означающий внутреннее чувство веры. Очевидно, что пол – в отличие от просто земли, это часть возведенного здания. И хотя в основе всех цивилизаций лежит та или иная религия, вера, но только на Ближнем Востоке, в исламской цивилизации религия была и есть главной несущей конструкцией. Впрочем, не только в Леванте, но и на той же Украине, и даже в США нынешний кризис связан с испытанием на прочность религиозной веры части элит и общества в свою непогрешимость и исключительность.
Так получилось, что мы вокруг да около этой символики уже год ходим. И поначалу зеленоватый платок ночного света связали с минскими соглашениями. Но теперь практический аналог минских соглашений – аналогичное перемирие с «умеренными» силами для относительной изоляции экстремистских сил – есть и в Сирии, на Ближнем Востоке. При этом ясно, что сирийское перемирие не могло случиться без предварительного украинского перемирия. То есть это своего рода проекция на Ближний Восток (пол) от Восточной Европы (подоконника). Символический образ может иметь истолкования на разных уровнях – российском и глобальном, но оба могут быть верными.
Придется более плотно разбираться с цветом платка – зеленоватым. Конечно, можно ограничиться ассоциацией с исламским зеленым флагом или зеленой полосой флага в Минске. Как мы уже выяснили, второе из трех упоминаний этого символа в Романе (в конце 21 главы) указывает на белорусский берег Припяти, то есть в связке с украинским берегом. Первое прямое употребление в 12 главе относится, скорее, к карте психики, чем к частям света или странам: «И тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами, возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал витрины, и в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья.»
Раз у нас окно – это сознание, то зеркало – должно быть самосознание. Поток не только рекламы, но разнообразных идеологий (одежд), равно как и религиозных текстов (ковров), обрушившийся на российскую публику в начале 1990-х подталкивал развитую часть этой публики к философским размышлениям о своем месте в этом резко меняющемся мире. Как минимум, появилась такая возможность.
Во всех остальных случаях употребления в Романе слова «трубка», кроме выше приведенного, речь идет о телефонных трубках, средстве связи между героями Романа, которые у нас – не люди, а духи или души сообществ. Зеленоватые трубки при этом зачем-то нужны для самосознания. Еще одну подсказку может дать первый из ключей – методов, подаренных нам Автором Романа, сравнение параллельных глав, например, 24 главы с 14 главой или с 4-й. Так, в 14 главе тоже есть окно в кабинете финдиректора, хотя и закрытое, и тоже упоминается трубка:
«Трубка тут же опустела. Чувствуя мурашки в спине, финдиректор положил трубку и оглянулся почему-то на окно за своей спиной. Сквозь редкие и еще слабо покрытые зеленью ветви клена он увидел луну, бегущую в прозрачном облачке. Почему-то приковавшись к ветвям, Римский смотрел на них, и чем больше смотрел, тем сильнее и сильнее его охватывал страх.»
Если Автор использовал вопросительные местоимения «почему», причем дважды, то это и есть намек на обязательный поиск истолкования символов окна и ветвей. К тому же «еще слабо покрытые зеленью» то же самое, что и «зеленоватые». Опять же, по своей природе ветви деревьев – это трубки, по которым движутся жизненные соки, связь между корнями, листвой и плодами. Однако в виде зеленоватых ветвей этот символ стал ближе к известному библейскому символу дерева. Во всяком случае, древо познания, с ветвей которого нагая дева сорвала плод, тоже вызвало извлечение Адама из Рая, как и извлечение мастера в зеленоватом свете. А плоды с ветвей древа познания, наверняка, являются символическим синонимом света знаний. Следовательно, зеленоватые ветви или «трубки», еще слабо покрытые зеленью – означают лишь весеннее начало процесса будущего созревания плодов. Однако, важно, что эти трубки или ветви подпитываются от корней, лежащих глубоко в земле. Речь идет о психологической функции интуиции, осуществляющей связь между глубинными слоями коллективного опыта и сознанием через подсознание.
Эти глубинные содержания коллективного бессознательного проявляются вовне через символические образы художественных произведений. Именно поэтому российская культура (аватаром этого сообщества является Маргарита) способна увидеть и даже общаться с этими надличными ипостасями глубинной психики. Просто потому, что это и есть живые образы произведений классиков литературы. А вот для гуманитарной философии, как подсистемы обратной связи гуманитарной науки, такое восприятие не то чтобы непривычно, но связано с болезненной перестройкой всего строя мышления. Так что наш Мастер, едва разглядев эти образы своим философским взором, норовит от них удрать обратно в рациональное европейское окно.
Перед вами наверняка светится монитор компьютера. Однако, заглянуть внутрь системного блока или винчестера вы не сможете, а если даже заглянете, то увидите только разломанные внутренности, а не виртуальные объекты или даже почти субъекты в виде ОС или иных программ. Тем не менее, можно довольно много узнать про реальное существование таких виртуальных сущностей, наблюдая результаты их работы на мониторе. Точно так же невозможно напрямую наблюдать виртуальные ипостаси человеческой психики, а глубинные ипостаси сложно наблюдать даже через виртуальные каналы связи (трубки). Однако, вполне можно оценивать их наличие и даже характер «по плодам их», по результатам их исторической работы. Видимые формы культуры, как древо, вырастающие из невидимых глубинных корней, довольно подробно отражают такие же, соответствующие им внутренние переплетения процессов. Нужно лишь шаг за шагом научиться читать эту Книгу жизни, используя не прямой солнечный свет, а отраженный, ночной, лунный.
Если принять такое, наиболее простое истолкование заинтересовавших нас символов, то будет легко понять иносказание, которое до сих пор казалось совсем не имеющим смысла: « Не плачь, Марго, не терзай меня. Я тяжко болен. Он ухватился за подоконник рукою, как бы собираясь вскочить на него и бежать, оскалил зубы, всматриваясь в сидящих, и закричал: Мне страшно, Марго! У меня опять начались галлюцинации».
Что есть галлюцинации? Способность видеть виртуальные содержания психики как будто наяву, как живые.
Почему аватар философского сообщества терзается и считает себя больным? Возможно, потому что потенциальные, латентные философы, читая этот текст, терзаются и ругают меня и себя. Читают, потому что культурная ипостась психики привязана к этим энергетически насыщенным символам – образам классики. Однако, можно понять людей, которых вовлекают в этакое «для эллинов – безумие». И если нет твердой веры для опоры, может быть, и стоит махнуть обратно к европейскому сугубо материальному и рациональному сознанию, обойтись без зеркал самосознания, одними лишь идеологическими витринами.
Осталось только добавить, что дважды повторенное обращение Маргариты:
«– Нет, нет, нет, не бойся ничего! Я с тобою! Я с тобою!» - указывает на вполне конкретный период времени между двумя христианскими Пасхами, западной и нашей, то есть на период великого поста, исцеляющего от хворей и страхов излишне рациональной психики.
19. Трижды романтик
Иносказательный слой Романа, скрытый под блестящей поверхностью, пророчествует о судьбе новой гуманитарной науки. Политические и культурные события могут быть отражены в этом контексте лишь постольку, поскольку влияют на развитие самосознания нашей цивилизации. Если быть совсем точным, то речь идет не о событиях даже, а о длящихся политических процессах, влияющих на культуру и на науку.
Например, вступление России в войну с терроризмом на территории Сирии – это событие, за которым следует длительный процесс, постепенно изменяющий самосознание общества, включая культурную элиту. Влияние этого длящегося события столь велико, что на этот период все прочие политические движения становятся фоновыми, даже парламентские выборы не стали событием, влияющим на развитие самосознания.
Возможно, именно поэтому пророчества Автора, относящиеся к 2016 году, занимают всего несколько абзацев. Ветер испытаний, ворвавшийся в распахнувшееся окно общественного сознания, продолжался от лунного затмения 28 сентября 2015 года и все еще не утихает. Но под влиянием этих испытаний происходят изменения в культурном сообществе (олицетворяемом Маргаритой) и постепенно приходит в себя отечественная научно-философская мысль в лице Мастера. Эти изменения двух близких, но все же несхожих субъектов, происходившие с весны и до сего времени, отражены в кратком иносказании:
«Коровьев ловко и незаметно подпихнул к мастеру стул, и тот опустился на него, а Маргарита бросилась на колени, прижалась к боку больного и так затихла. В своем волнении она не заметила, что нагота ее как-то внезапно кончилась, на ней теперь был шелковый черный плащ. Больной опустил голову и стал смотреть в землю угрюмыми больными глазами.»
Можно было и немного раньше приступить к истолкованию, но все же лучше не спешить и дождаться знаковых событий, после которого общественный процесс принял устойчивую форму. Вчерашнее заседание президентского совета по культуре сразу после президентского послания, пожалуй, подходит.
Предлагаю начать с черного плаща Маргариты. Символ одежды означает знание о добре и зле. Нагая Маргарита была символом московской культурной общественности, расставшейся со всякими условностями, не имевшей запретных тем, измерявшей успех исключительно в денежном эквиваленте. Конечно, неплохо, что государство доплачивало за постановку классики в академических и не очень театрах. Однако, добавив пару ложек дегтя в виде циничного эпатажа можно было достичь гораздо более шумного успеха. А если еще вывалять в грязи общепризнанные в недавнем прошлом ценности, то можно было рассчитывать и на зарубежные премии.
Между тем воюющая в мировой войне с терроризмом держава не может себе позволить содержать в столице такую неодетую культуру. Примечательно, что сама героиня в своем волнении не заметила потери наготы. Поскольку волновалась по другим поводам, не о том, чтобы понимать, где зло, а где нет.
Наверное, мы можем даже точно назвать тот день, когда стартовал этот процесс одевания в черный плащ, отчасти траурный. Это был симфонический концерт оркестра Гергиева в освобожденной от боевиков Пальмире. Концерт в честь освободителей и в память офицера-спецназовца, погибшего ради спасения всемирного культурного наследия. Для кого-то из культурной общественности сам этот факт стал толчком к самоопределению. На кого-то подействовал концерт, срезонировавший с памятью о таком же концерте в осажденном Ленинграде, практически на линии фронта. На других деятелей больше повлияли высокие награды дирижеру и оркестрантам. Важно, что «процесс пошел», в том числе и через серию скандалов в музеях и театрах.
Почему новые одежды черные? Бывает воспитание на религиозных идеалах (включая идеалы якобы атеистической религии Разума). Такое вынесенное из опыта прежних цивилизаций знание о добре символизируют белые одежды. Но возможно и приобретение знания о зле вследствие трагического опыта большой стадии Надлома. Черная одежда – это тоже беспримесное, точное знание о том, что есть зло.
В параллельном эссе «О культурных революциях» я уже приводил научно-философскую трактовку творческих (романтических) периодов в развитии личностей, народов, цивилизаций. Эти романтические периоды можно назвать великими культурными революциями. Третий творческий период, соответствующий кризису среднего возраста, это завершающая четверть большой стадии Надлома. Первый романтический период – младенческий, рождение и становление сознания. Второй романтический период – литературный, рождение и становление языка, и через него самоопределение субъекта в подлунном мире. Третий романтический период – философский, возрождение и становление зрелого самосознания. Будет еще и четвертый такой же период, религиозный – в конце большой стадии Гармонизации.
Переход российской истории и русской цивилизации к завершающей четверти Надлома начался весной 2014 года. Поэтому неудивительно, что видимые изменения в позиции культурной общественности, ее отказ от либеральной наготы самосознания – совпали с возвращением философского сообщества не просто из маргинального, но явно больного, недееспособного состояния, в котором оно пребывало долгие годы.
Опять же, если кто уже успел прочесть эссе «Дядя Ваня и другие», там весьма подробно описана судьба русской философии, которую в столь же пророческой пьесе Чехова олицетворяет дядя Ваня, как наш отечественный аналог воспетого Байроном западноевропейского дон Жуана. Одной из задач при описании этого двойного портрета было доказательство своего рода гуманитарной теоремы о том, что в основе любой империи – испанской, османской, российской, британской – обязательно находится романтический дух философии, оплодотворяющий культуру. Другое дело, что западноевропейский философский дух, рожденный христианской культурой, оплодотворил несколько империй, поучаствовавших в создании вестернизированных цивилизаций – латиноамериканской, ближневосточной, российской, североатлантической. (За что и получил от поэта имя дон Жуана;))
В эту сторону тоже можно еще долго углубляться, но у нас не философское эссе, а литературоведческое и посвящено одному Роману, а не всей русской классике. Нужно завершить с символикой шелкового черного плаща. Если халат Мастера происходит от древнегреческого хитона, то плащ Маргариты – от древнегреческой накидки. Первый – пришел в Россию через Ближний Восток, второй – через ближний Запад, восточно-европейские страны. Само слово плащ, как минимум, фонетически близко к плат. Возможна какая-то связь или противопоставление платка света на полу и темного плаща.
Почему черный плащ – еще и шелковый? Во-первых, он должен быть удобным и приятным для столичной культуры, иначе она не станет его носить. Кроме того, это очень тонкий и легкий плащ, как легковесны духовные понятия культурной общественности. Он еще блестящий и гладкий, как гламурный глянец. Ну и, наконец, шелк – это китайская материя, а применительно к культурным артефактам – это, скорее, признак подделки или поделки. Впрочем, к легковесным патриотическим поделкам, профанным историческим сериалам – нам с вами, увы, не привыкать.
Почему именно Коровьев незаметно подставил Мастеру стул. Потому что Коровьев – аватар сословия политической администрации, идеологической ветви политического процесса. Именно АП РФ не так давно проследила, чтобы на площадке агентства «Россия сегодня» мог функционировать философский «Зиновьевский клуб», а его участники – философы получили трибуну в информационном поле. Символика стула как привластной опоры для гуманитарной интеллигенции тоже может быть прослежена.
Например, в пятой главе Романа осиротевшие, но еще не знающие об этом двенадцать литераторов сидели «на стульях, и на столах, и даже на двух подоконниках». Этот эпизод имеет очень близкую рифму в Новом Завете, где двенадцать учеников вместе с Иисусом вошли во двор храма. Только там были столы меновщиков и скамьи продающих глубей. Напомню, что смысл библейских символов, используемых в Романе, сохраняется. Следовательно, столы, стулья и подоконники стоят в одном ряду, как опора для торгующих в храме, гуманитарной интеллигенции.
После того, как светской гуманитарной науке в 1930-е годы «отрезали голову», переехали догматичным комсомольским трамваем, обезглавленная корпорация распалась на прагматичные секции. Одни обслуживали интересы финансово-госплановской ветви власти, опирались на столы, как у менял. Другие опирались на идеологический заказ властных администраторов, то есть на стулья. Кстати, в Библии есть престол или трон как символ небесной власти. А стул – это его приземленный аналог. Что же касается двух подоконников, то символическое число два означает мудрость, а подоконник мы уже проассоциировали с подсознанием. Вероятно, речь о сохранившейся только в этой части гуманитарной науки мудрой психологической школе. Почему подоконника было два? Трудно сказать, но кроме психологии сохранилась еще совсем маргинальная школа в лице Л.Гумилева, под видом этнологии изложившего наметки психолого-исторической науки.
Итак, Коровьев и не мог предложить ничего, кроме стула. Это Бегемот мог бы пододвинуть стол. А вот Азазелло предпочел бы курировать полуподвальные подоконники.
Почему Мастер – больной и смотрит в землю? Отчасти об этом было сказано в «MMIX», где больница доктора Стравинского была разоблачена как развитие символа гостиницы из евангельской притчи о добром самаритянине. У Чехова дядя Ваня тоже остается зимовать один с Софией под нерегулярным присмотром доктора Астрова. Тут не просто аллитерация, а почти что анаграмма имен докторов, лечащих излишнюю эмоциональность и сбивчивость рациональной логикой.
Философское сообщество уже активизировалось, возродилось, но еще не адаптировалось к своей новой роли. Состояние философской мысли все еще оставляет желать лучшего. Тем не менее, потребность культурного сообщества в духовных ориентирах проявлена, отчасти в архаичной религиозной форме преклонения. Хотя лучше все же бок о бок.
Земля – это символ веры. Понятно, что на данном этапе философы ищут ответы для культуры в ценностях православной веры. У некоторых из них это даже неплохо получается. Собственно, даже вот эта публикация В.Лепехина явилась достаточным подтверждением предсказанного философского возрождения.
В следующей строке Романа подчеркивается, что Воланд, Творческий дух все это время молчал. То есть речь пока не шла о новых творческих находках, а только об освоении и актуализации уже имеющегося философского потенциала.
20. Исполнение: «Академия и Империя».
После завершения американских выборов есть повод вспомнить о параллельном истолковании сюжета азимовской трилогии «Основание». Два года назад мы имели дело только с прогнозом, а теперь уже есть и результат. Проверим, что сбылось и открылось.
Так совпало, что в реальности нынешний политический узел стал финалом именно второй четверти Глобализации (как и второй четверти Надлома североатлантической цивилизации). Кроме того, драматическим образом подтвердилась общая диспозиция финала второй книги – когда именно мулат Обама оказался в демократическом истеблишменте «засланным казачком», сделавшим все для провала миссии четы Клинтонов, олицетворяющих наднациональную «оцифрованную» культуру (аватар Байты) и наднациональную политическую администрацию (аватар Торана). Третьей ветвью наднациональной элиты была до сих пор американское университетское сообщество во главе с идеологами-«гуманитариями» (аватар Эблинга Миса). Кстати, при восприятии русским читателем, владеющим английским, имя ученого ассоциируется не с ebling, а с abling, но все равно с некой потенцией, а вот фамилия с префиксом mis-, обращающим потенцию в импотенцию.
Итак, азимовские «демократы» из Академии (Foundation), в которой угадываются черты американской Федерации, ведут в гиперпространстве Галактики (информационное пространство с его гиперссылками) отчаянную борьбу с попытками взять «миры торговцев» под контроль невидимого Мула (аватар могущественного, но временного сословия финансового контроля). При этом «демократы», истеблишмент либеральных глобалистов воспринимают реальное воплощение Мула – мулата Обаму как подчиненного им любимого шута, шоумена, призванного развлекать и иногда защищать их интересы в информационном гиперпространстве. Так же как верного союзника воспринимают они «демократические» спецслужбы – ЦРУ, АНБ (аватар – полковник Притчер). Роль спецслужбиста в финале второй книги, как и положено в глобальном узле, является двойственной. С одной стороны, он уже переподчинен финансовому контролю и верно служит ему. С другой стороны, он «честно» предупреждает своих бывших соратников – «демократов» и о своей подконтрольности, и о методах работы финконтроля (Мула). Так что оставляет им шанс вырваться из-под контроля Мула и взять реванш.
Что касается методов захвата власти Мулом – сначала на Калгане, а потом и в самой Академии, то Эблинг Мисс раскрывает два основных. Первый назван почти настоящим именем «депрессора ядерного поля». Эта «неуклюжая самоделка» Мула в нашей реальности связана с реальной депрессией производства ядерного комплекса и в целом ВПК, подменяемой виртуальным ростом финансовых оборотов за счет накруток цены, виртуальных услуг финансовых консультантов и посредников. Финансовому контролю легче всего было начать брать под контроль финансовые интересы генералов от армии и ВПК. Для сравнения, в России тоже жесткий финансовый контроль стартовал с оборонного госзаказа просто потому, что на этот счет есть серьезные уголовные статьи и связанные с этим полномочия спецслужб.
Вторым и более важным инструментом Мула является контроль над эмоциями с помощью масс-медийных инструментов, для чего сначала нужно было этот инструмент получить, взять под контроль с помощью «демократов». Сами «демократы» при этом считали, что запас карман не тянет и к решающим выборам он им пригодится вместе с таким неопасным с виду «контролером». Между тем масс-медиа, подконтрольные спецслужбам и через них мулату в Белом доме, успели внедрить в массовое сознание депрессивные страхи и ощущение беспомощности перед глобальными угрозами от исламистов и смертельных вирусов, вроде Эболы, до очередного издания «пархатых большевицких казаков», подрабатывающих теперь еще и хакерами, угрожающих мирным базам НАТО вокруг границ России. Так что постепенно это внедрение депрессивных настроений и страхов работало на усиление роли «гибридного», мутировавшего из сращивания финансовых институтов и спецслужб сословия «финконтроля».
Финал второй книги (и второй четверти Глобализации) – это гонка между соперниками – «демократами» и их противниками в попытке найти и подмять под себя внезапно ставшую ценным призом «Вторую Академию». Нужно спешить, пока эта самая «Second Foundation» не окрепла материально и физически, чтобы успеть сделать ее своим инструментом в борьбе коалиций финансовой олигархии. Получение контроля над этим ключевым глобальным ресурсом определяет победу в схватке за Первую Академию и право основать будущую «вечную» Империю.
Второй Федерацией, имевшей такое же глобальное значение, как США, был Советский Союз. Казалось, с этим конкурентом было покончено навек, но тем не менее Федерация сохранилась и стала решительно влиять на глобальные расклады. Даже самый умный в Академии профессор Мис еще буквально пару лет назад посмеялся бы над поисками «Второй Академии», а тут вдруг пытается из последних сил найти великую тайну ее происхождения и духовной силы. Притом что происхождение и тайна прихода к власти нынешних правителей «полуразрушенного Трентора» для них никакой тайны не составляет. Даже «великий и ужасный» Путин был выбран как компромиссная временная фигура двумя главными крыльями глобальной финансовой олигархии – на период, пока они копили силы для решительного выяснения отношений, и чтобы ключевой ресурс не развалился и не достался по кускам европейцам, китайцам, туркам с саудитами. Потом приказали уйти – ушел, сохранив балансирующую позицию. Так что всё было, казалось, под контролем.
Что же случилось за этот период глобального «сюрпляса» между двумя главными игроками, кроме появления третьей головы финансовой олигархии? Откуда вдруг эти «вежливые люди» в Крыму, а потом на Донбассе? А потом еще виртуозное применение современной военной техники и «гибридных» стратегий в Сирии. Хотя политическая элита второй Федерации как была «под колпаком», так и осталась все той же, как и при Ельцине. Как пилили бюджеты, так и пилят, как мечтали стать частью западной элиты, так и мечтают. Неужели формальные элиты – это всего лишь ширма, прикрывающая реальное влияние некоего глубоко законспирированного центра? Так, наверное, должны были думать и думают западные элиты, привыкшие, что у них в странах все решает узкая прослойка финансовой олигархии, прячущаяся за декорацией «демократических выборов» и нанимающая шоуменов в президенты. Тем более так должны думать спецслужбисты и финансовые контролеры из ГолдманСакса, обыгравшие с помощью подконтрольного им Обамы прежних «кукловодов».
Как и почему в России в критические моменты все решают не элитарии, кучкующиеся вокруг Кремля, и даже не секретные службы, а простые герои от сохи или от станка, отставники или только вчера из училища. Для этого пришлось бы, конечно, изучать не отчеты гуманитарных грантоедов, а былины и сказки – начиная от Ильи Муромца и Емели на печи, заканчивая сказкой настоящего Гайдара о «военной тайне», недоступной буржуинскому пониманию. Однако факт есть факт, именно в момент видимого или даже демонстративного развала Минобороны, когда даже Главное оперативное управление не имело своего угла из-за распила бюджета на ремонте, войска без центрального управления действуют в Южной Осетии даже эффективнее. Или такая же сугубая импровизация операции «Крымнаш», нарастающая и подхватываемая всеми служивыми и добровольцами по ходу развития событий. Как тут не испугаться, и не задуматься западным политикам?
Возможно, если бы университетская, гуманитарно-научная корпорация США сохранила свою былую полноценную форму, она могла бы, хотя бы теоретически, найти этот секрет «Второй Академии». Однако в ходе оттягивания решительных действий по разрешению мирового финансового кризиса финансирование даже ведущих вузов и научных центров оказалось поставлено под угрозу. Университетские эндаументы – это часть кризисного финансового рынка. При нулевых или около ставках рефинансирования доходы от ценных бумаг тоже резко снижены, как и у пенсионных фондов. Бюджетных субсидий также на всех не хватит. К тому же они выделяются идеологически близким вузам, изучающим гендерные проблемы и другие иррациональные основы сплочения «демократических» сект, а вовсе не реальность. Не говоря уже о том, что получить реальную информацию через фильтры масс-медиа и грантоедских контор сложно даже о ситуации в самих Штатах, не говоря уже о России и других странах.
Потеря формы, истощение и опускание азимовского героя, замкнутость в себе и в своем библиотечном пространстве – отражает реальное состояние американского университетского сообщества, любимого всеми участника политической команды «демократов». Эблинг Мис оживляется ненадолго лишь, когда исполняет общий заказ Мула и «демократов» на поиск ключей ко «Второй Академии». Однако вагинальный лидер «демократов» в конце концов понимает, что такое понимание или даже взаимопонимание усилит в итоге политических конкурентов. Чтобы не допустить установления более тесной связи Мула со «Второй Академией» (новой администрации США с Россией), применяется запрещенное в отношении своих оружие бездумной сектантской мобилизации идеологизированного сектора университетского сообщества. Тем самым не просто выключается, а уничтожается думающая «голова», для которой просто нет более места в университетской библиотеке. Остается в живых только нижняя часть во всех смыслах, включая гендерный. Эффект для общества будет примерно тот же как от разгрома российской высшей школы после революции 1917 года. А метафорически можно описать, как Азимов, в виде выстрела из мощного «бластера» масскульта в голову науке США.
Внешнеполитический результат этой американской революции будет таким, как и для революционной России – потеря влияния, временный уход на вторые-третьи роли. Кстати, спецслужбист Притчер перед самым финалом заранее предупреждает друзей-демократов, что вскоре Академией будет править «вице-король». Это и есть прогноз об уходе США на вторые роли. Еще интереснее происхождение этого вице-короля с «курортного» Калгана. Прошу заметить, что по ряду признаков мы уже опознали этот остров как северную часть Британии, известную еще римлянам как Каледония. Кроме этого созвучия, там еще есть большой мегаполис и отдельно от него большой дворцовый комплекс (Глазго и Эдинбург). А еще там есть довольно мощный военный флот, имея контроль, над которым можно попытаться захватить Академию, но не в прямой военной атаке, а с помощью финансово-спецслужбисткого контроля над ВПК и масс-медиа. Если к этому добавить шотландское происхождение Трампа и его связь со старыми военно-промышленными деньгами судостроителей, то все кусочки азимовского описания складываются воедино.
Каким же образом Калган, то есть Шотландия мог быть базой для финконтроля, чтобы потом с помощью «демократов» и близких к ним спецслужб влиять на США? Именно в Шотландии находятся оборонная промышленность, включая ядерный комплекс. Тамошние элиты объективно были и остаются ущемленной частью британских элит, хотя и обладают при этом своими финансовыми рычагами в виде двух ведущих банков. Один из этих банков даже обслуживает интересы Короны, а второй – Адмиралтейства. Можно предложить, что инструменты финансового контроля сначала были созданы и отточены местными банкирами вместе с британскими «джеймсбондами», имеющими военно-морские звания. Затем этот опыт был с помощью шотландской диаспоры в Новой Голландии перенесен на Уолл-стрит.
Можно было бы списать все эти совпадения на актуальные фантазии автора, но придется напомнить, что версию о Шотландии как прототипе калганской базы Мула мы выдвинули еще два года назад, задолго до неожиданного для всех выдвижения Трампа на выборах, и тем более – до его победы над «демократами» с помощью засланца Обамы. Между тем сам Трамп – тоже шоумен и отчасти клоун, только рыжий и больше похож на то описание Мула, которое тот сам дал «демократам» во время бегства с Калгана. Так что если последовательно рассматривать Мула как аватар элитного сообщества, то Трамп может быть его частью, «вице-королем». Так же мы еще два года назад прогнозировали, что Обама, скорее всего, останется в политике, став лидером «обновленного Союза». Перемены в Британском Содружестве после ухода нынешней британской королевы неизбежны хотя бы из-за позиции правящих австралийских республиканцев. Кроме того, только в более тесной связке с США Лондон способен сохранить Шотландию в одном с собой политико-экономическом пространстве. Иначе шотландцы вполне могут уйти в ЕС. Однако при этом Эдинбург должен будет получить формально равный статус с Лондоном, Оттавой и Вашингтоном в рамках обновленного Содружества.
Можно еще отметить, что уже сейчас проявились признаки «переходного периода», описанного в начале третьей части Трилогии, когда Мул в калганском дворце ожидает удобного момента для возобновления действий против Второй Академии. Для этого ему нужно укрепить «обновленный Союз». А кроме того, всюду-всюду мерещатся агенты этой самой Второй Академии, так что до восстановления финансовой мощи англо-саксонской элите нужно скрывать свои намерения. Этот поиск обладающей поистине магической силой агентов Второй Федерации – и есть признак того, что события уже перешли в третью четверть Глобализации, отраженную в сюжете третьей книги, которая так и называется: «Вторая Академия».
21. «Никто не даст нам избавленья…»
Параллельный сюжет 24 главы булгаковского Романа не выглядит насыщенным событиями. Между восклицаниями Маргариты «Ты, ты, ты…» и «Выпей, выпей…» уместилось 20 строчек и один год реальной жизни. Наверное, это потому, что скрытая за символами Романа притча отражает не политические, а более глубокие сюжеты развития самосознания русской цивилизации. Это в экстравертной Америке самосознание связано с внешней суетой, а в России основа развития – интуиция, глубинные смыслы, проявленные в символах. Потому и не суетится Илья Муромец или Емеля на печи до тех пор, пока не случится в их жизни некое символическое событие, какое-то обыкновенное для наших мест чудо.
Для раскрытия запасов глубинной духовной энергии, позволяющих русскому народу вдруг превратиться из лежебоки-пьяницы в богатыря, вершащего судьбы мира, достаточно интуитивного восприятия самих символов, без истолкования. В этом смысле наше развлечение – расшифровка символов ничего не добавляет. Однако самосознание народа – необходимый этап его развития в философской последней четверти Надлома. А самосознание русского народа невозможно без интуитивного проникновения в притчи русской литературы от самых ее начал. Поэтому придется продолжить это непонятное рациональным соседям занятие.
В позапрошлый раз мы зацепились за черный плащ, накинутый на плечи героини. Что-то в этом слове послышалось, похожее на плат, который мы раньше распознали как пакт, договор. И в самом деле, столичная культура не по своей инициативе набросила эту тонкую накидку, означающее некое различение зла и добра, а по договору с властью. Некую закулисную суету, связанную с заключением этого договора и наличием госзаказа, отразил легкий скандал вокруг театрально-коммерческой недвижимости с участием Райкина-сына.
Так же нам удалось заранее предсказать случившееся в конце прошлого года событие на основе вот этой символики:
«Больной взял стакан и выпил то, что было в нем, но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног.»
Мы еще раньше опознали стопку как рукопись, а ее синоним стакан как некую соцсеть, где эти электронные рукописи содержатся. Между тем к концу прошлого 2016 года истек срок исполнения нового закона о переводе серверов с персональной информацией на территорию России. Компания «СУП», владеющая «Живым Журналом», успела разделить, то есть разбить на две части единственную соцсеть, имеющую два равнозначных сегмента – русскоязычный и англоязычный. В этом смысле ЖЖ отражает общую тенденцию фрагментации информпространства на цивилизационные сектора. Эпитет опустевший тоже указывает именно на ЖЖ, поскольку другие многоязычные соцсети как ФБ или Твиттер более востребованы.
Дальнейшее обсуждение также касается двух сюжетов – отношений культуры и власти, и отношения к этим отношениям вернувшейся русской философии:
К счастью! К счастью! зашептал Коровьев Маргарите, смотрите, он уже приходит в себя.
Мы уже успели привыкнуть, что удвоенные или утроенные восклицания могут указывать на праздники. Новый год у нас ритуально связан с пожеланиями «нового счастья», а кроме того – это подчеркнуто светский праздник, инициированный светской политической властью, аватаром которой является Коровьев. Предыдущее событие, приуроченное к концу года, подтверждает такое истолкование. Удвоенным этот праздничный тост делает разница двух календарей – современного и по старому стилю, что позволяет только русским отмечать Новый год дважды с разницей в две недели.
Опять же не очень понятно, насчет кого или чего шепчет Коровьев – то ли о Мастере беспокоится, что вряд ли, то ли – о разбитом стакане соцсетей, что его как властного администратора точно волнует больше. Замыкание российского сегмента на себя – близко по теме к шелковому, то есть китайского образца плащу для культуры.
Действительно, взор больного стал уже не так дик и беспокоен.
Но это ты, Марго? спросил лунный гость.
Не сомневайся, это я, ответила Маргарита.
Диалог между пробудившимся самосознанием общества и культурой идет сразу встык после новогодних пожеланий политической администрации, не оставляющего вниманием культурную общественность. С этим новогодним госзаказом тоже был связан легкий скандал, когда общество возмутилось гламурно-бессмысленными новогодними шоу на федеральных телеканалах. Философски настроенные критики даже обращались к деятелям культуры с прямым вопросом: а культура ли это, точнее – это ли русская культура? Для русской культуры гламурная коммерциализация чужда, ее всегда отличало стремление к глубокому прочтению символики независимо от избранного жанра.
И на самом деле контраст очень велик, если считать, что русская, российская философия удалилась в глубокую зимнюю ссылку после 13 главы (стадии) российской истории. Тогда на слуху были МХТ и его авторы, художники и поэты Серебряного века, звезды русской оперы и балета. Проявление философского самосознания после 19 стадии посреди гламурного духовного запустения – не может не вызвать именно такого вопроса к культуре. Ответ Маргариты будем считать тоже пробуждением самосознания и связанного с ним чувства стыда, которое символизирует легкая накидка, прикрывшая совсем уж срам.
Еще! приказал Воланд.
После того, как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными.
Числительное второй имеет символическое значение «мудрый, философский», то есть речь идет о той части информпространства, где обычно публикуются философские или научные, экспертные тексты. Глагол осушил тоже имеет вполне определенное символическое значение, восходящее к первым строкам Библии: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. /Быт 1,6/
Вода есть проявление волнения, эмоциональных надежд, не всегда чистых. Этими эмоциональными волнами перепостов и лайков переполнен западный и прозападный сектор соцсетей. Твердь или суша – это либо камень (закон), либо земля (вера, традиция). И то, и другое – опора для патриотизма, национального самосознания. Но не только – на самом высоком уровне мировой истории – эти элементы психологии являются опорой для науки, традиции объективного познания реальности и законов ее развития. Интерес национального самосознания для России объективно совпадает с интересом самосознания научного сообщества. В то время как интерес западной наднациональной элиты диктует, наоборот, наводнение ложными смыслами ради эмоционального контроля общества.
В названном смысле осушение русского сегмента ЖЖ – вполне свершившийся факт. Многие трансляторы эмоциональных волн сами ушли после переезда соцсети в юрисдикцию России. Для эмоциональных особ ФБ и Твиттер тоже удобнее. Но и оставшиеся пользователи заметно проредили и осушили свои «ленты друзей». Наверное, не только я отписался от журналов, транслирующих эмоциональные волны перепостов – в пользу самостоятельно мыслящих авторов. Что же касается участия Воланда, Творческого духа, приказавшего: «Еще!» то речь, видимо, об очередной порции научного откровения, опубликованного во втором стакане и необходимого для оживления философии.
Начало диалога между надличным, глубинным Творческим духом и философским духом, обретающим родную душу своей культуры – это весьма оптимистичный, можно даже сказать – романтичный символ. Творческий дух ставит перед философским сообществом необходимые для осмысления вопросы:
Ну вот, это другое дело, сказал Воланд, прищуриваясь, теперь поговорим. Кто вы такой?
- Я теперь никто, - ответил мастер, и улыбка искривила его рот.
Здесь опять другое дело – несет в себе символику двойки, божественной мудрости, которой может быть посвящено только одно дело: философская работа. Прищуривание, понятно, означает внимание к важному предмету, который вызывает опасение или сомнение.
Ответ Мастера не был и не мог быть прямым, скорее – ироничным, о чем говорит его кривая улыбка. Нельзя воспринимать его слова буквально, лишь как самоумаление. Ибо двойка потому и является символом мудрости, что предполагает у каждого явления две стороны, не только негативную или наоборот. Поэтому придется воспользоваться еще раз поиском по текстам ключевого слова никто. Например, в текстах Ветхого Завета это слово встречается 84 раза, в более компактном тексте Нового Завета – 114 раз, в тексте Романа – еще 56 раз. Есть с чем сравнить:
«Никто не может служить двум господам…» /Мф 6,24/
«И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.» /Мф 22,46/
«Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого» /Откр 19,12/
Хотя вроде бы это слово само по себе означает ноль без палочки, отсутствие субъекта, однако его появление в тексте, как правило, устанавливает некую всеобщую связь или общее правило, вводящее запрет, ограничение или отказ от действия. То есть «никто» – означает «все».
Следует также обратить внимание и на слово теперь, отделяющее момент появления Мастера от предыдущих событий. Для такого великого драматурга нет мелочей, каждый нюанс имеет значение. Во-первых, никакого другого прошлого, кроме как в качестве пациента лечебницы, мы в предыдущих главах не видели. Если что-то и было, то за пределами временных рамок повествования, еще до первой главы. Так что слово «теперь» уместно лишь в смысле приобретения совсем другого статуса, чем инкогнито из психушки.
Однако есть и другой вариант прочтения, если статус никто означает «наше все». Значит, раньше этим всем был кто-то другой, а теперь им стал Мастер. Здесь будет уместно уточнить, каким было предыдущее употребление слова никто в Романе, здесь же в начале 24 главы:
Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Маргариты. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды за все ее услуги на балу никто, по-видимому, ей не собирался предлагать, как никто ее и не удерживал...
Итак, наша героиня ожидала награду от весьма высокой, по ее представлениям, инстанции – таинственного всемогущего иностранца. Именно он был в тот момент «наше все», а равно и никто для аватара культурной общественности. Но эти надежды не оправдались, пока сама Маргарита не потребовала возвращения Мастера. После этого ее возлюбленный стал тем самым «никто», который не обманет, удержит и станет наградой. Такое прочтение фразы – я теперь никто! – имеет все основания.
Наконец, не будем забывать наш литературоведческий вывод о том, что Автор имел в виду именно Второе пришествие. Во всяком случае, ни один самый безбожный литературовед не отрицает прямой параллели между судьбой Иешуа в главах Романа в Романе и судьбой Мастера в остальных главах. Но если это так, то Мастер (он же Учитель, если читать по латыни) и не мог ответить иначе на прямой вопрос другой божественной ипостаси Кто вы такой? В первом пришествии Учитель, то есть дух, воплощенный в Иешуа Назорея, прямо запретил верить кому-либо на слово:
Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их./Лк 21,8/
Кроме прямого запрета верить прямому ответу, в Новом завете есть и другие указания. Например, в Откровении Иоанна: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний! /Откр. 1,10/ И у евангелистов тоже есть прямая речь Учителя: итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном /Мф 18,4/.
Не думаю, что предупреждение Учителя нужно только для избежания заблуждений и соблазнов со стороны лжепророков. Прежде всего, запрет называть себя прямо новым воплощением Учителя важен для самих последователей. Кстати, так прямо и было сказано: А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы – братья /Мф 23,8/.
Как распознать на деле тот самый платоновский идеал философа, без которого нельзя гармонизировать земные порядки? На мой взгляд, только одним способом – если его философский текст несет в себе истинное знание и тем самым оказывает влияние. А вовсе не выдачей философу удостоверения, ибо само по себе такое удостоверение будет умалением кем-то еще его первенства. Отсюда и вытекает этот парадокс, чтобы быть Первым, нужно оставаться Последним. На этот счет в 28 главе Романа есть философский диалог по поводу удостоверений для писателей:
Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было! Как ты думаешь? обратился Коровьев к Бегемоту.
Так что запрет для философов считать себя воплощением Учителя есть прямое условие подлинно философской работы. И даже в не таком уж далеком будущем, когда философское сообщество охватит не одного, и не дюжину, а двенадцать раз по двенадцать тысяч последователей, запрет на формализацию статуса и публичное возвышение над остальным обществом будет необходимым. Только в этом случае философская работа будет направлена на интересы всего общества, а не ученой корпорации. Впрочем, это не мешает философам занимать при желании статусные позиции. Тот же Гете был великим философом и поэтом не потому, что имел довольно мелкий статус министра в Веймаре.
Подводя черту под истолкованием самоопределения: никто, напомним невольно приходящую на ум ассоциацию с известной революционной формулой: «Кто был никем, тот станет всем!» Очевиден контраст с проповедью Христа, формулой: «Чтобы стать всем, нужно быть никем!». Эту заповедь не смогли до конца выполнить последователи из христианских церквей, что привело их к расколу и утрате авторитета. Возможно, это все же удастся новым философам.
Опять же, с революционным прошлым ассоциируются следующие строки из 24 главы Романа
- Откуда вы сейчас?
- Из дома скорби. Я душевнобольной, ответил пришелец.
Этих слов Маргарита не вынесла и заплакала вновь. Потом, вытерев глаза, она вскричала:
Ужасные слова! Ужасные слова! Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом. Вылечите его, он стоит этого.
Сразу отметим вновь возникшую угрозу истинно философскому статусу со стороны чересчур экзальтированной культурной общественности. Верить на слово нельзя не только самому себе, но и другим, особенно женщинам, для которых высокий статус возлюбленного есть личная награда.
Примерно так же было и во времена русской революции, когда экзальтированная культурная общественность превозносила действительно мастеров русской литературы, а равно и революционных философов. Вот только боролись они за высокий статус, якобы необходимый для воплощения «истинных идей». Но если идеи действительно истинные, то они сами пробьют себе дорогу, без властного статуса их авторов и носителей.
Двойной рефрен про ужасные слова – следует соотнести еще с двумя праздниками, отстоящими друг от друга на те же тринадцать дней, что и два Новых года. 8 марта по новому стилю и 23 февраля по-старому – ровно сто лет назад началась Великая Русская революция. Когда-то большевики учредили День Красной Армии и Международный день трудящихся женщин именно для того, чтобы не отмечать годовщины Февраля. Сегодня эти два праздника стали просто «мужским» и «женским» днем, относятся к культурной традиции, то есть к епархии Маргариты. Тем не менее, в год столетия обсуждение двух революций относится не только к сфере культуры, но и к национальному самосознанию. Все больше можно увидеть не идеологически заточенных текстов, а философских, оценивающих прежнее классовое самосознание, хоть «красное», хоть «белое», как шизофрению, а состояние умов как скорбное.
Впрочем, символ дома скорби имеет настолько глубокие ассоциации с евангельскими пророчествами, что одна эта строка заслуживает отдельной главы для истолкования.
22. Сквозь тернии к доброй земле.
Повторим важный вопрос, заданный Творческим духом нашему философскому самосознанию, вместе с требующим истолкования ответом:
- Откуда вы сейчас?
- Из дома скорби. Я душевнобольной, ответил пришелец.
Отметим обстоятельство времени – сейчас. Наверняка оно нужно не только для того, чтобы обратить внимание в предыдущем вопросе на уточнение: теперь. Но начнем с основных символов.
Дом – это ключевой библейский символ личности, в который после периода его строительства (подъема) вселяется ипостась духа, символически обозначаемого как муж, он же «внутренний человек» по Ап.Павлу. Там же обитает жена, ипостась души или «внешний человек». (В связи с этим можно заметить на полях, что интроверсия и экстраверсия также были почерпнуты доктором Юнгом из антропологии Ап.Павла, как и психологические типы – душевный, духовный). А раз так – то названный вопрос на вы с маленькой буквы может относиться не только к Мастеру (духу высшей философии), но и к его тайной жене Маргарите. Оба они из одного дома после своего воссоединения сейчас.
Символ дома в булгаковском Романе получил развитие в виде многоквартирного дома 302-бис. Именно в этом доме Мастер и его душа пребывают на момент вопроса, заданного в настоящем времени. При первом истолковании номера 302-бис (в основной части «MMIX Год Быка») мы пришли к выводу, что этот числовой символ отражает личность Иисуса, где дух любви (тройка в позиции сотен) соединен с мудростью (двойка) как итогом деятельности. При этом ноль в позиции десятков означает, во-первых, полное отсутствие земных амбиций, а во-вторых – пребывание без жены, то есть без земного воплощения после первого пришествия. Постфикс бис, как известно не только Булгакову, но всякому театралу, означает возвращение на сцену по желанию публики.
Однако, каюсь, в первом истолковании не была замечена двойственность этого номера, который можно прочесть и как трехзначное, и как четырехзначное число, поскольку бис на конце – это еще одна двойка. Трехзначные числа относятся к отдельной личности, четырехзначные – к экклесии (или иначе – церкви), объединенной общей надличной ипостасью. Такая двойственность вполне оправдана, если речь идет о личности Иисуса, которая воплотилась в экклесию. После смерти и воскресения с вознесением дух Христа стал надличным духом церкви.
Возможно, имеет значение и двойственность в способе добавления дополнительной двойки, скрытой в бис. Если добавить в конце, то получится 3022 экклесия, посвященная духу любви к Богу и к ближнему. Такой была задумана в идеале церковь Петра и Павла, однако при ее учреждении Учителем он сам обозначил ее числом 4000, накормленных семью хлебами, то есть получивших знание в виде закона (семерки). Четверка в разряде тысяч означает светский дух церкви и ее экспансию на четыре стороны света. И даже в приближении к идеалу этот должник задолжал хозяину 50 из ста мер масла. Эти символы из притчи о неверном управителе означают то же самое: Масло – есть любовь, то же, что и тройка. Мера – это оценивающая ипостась «внешнего человека» или души, которой соответствует разряд десятков в числовой символике. Да и само число 10 означает полный круг жизни души земного человека (но не духа, который живет из поколения в поколение, хотя и не так долго, как экклесия). Так что сто мер масла равны 3*10*100 = 3000. Это заветное число, обозначающее должное состояние церкви Петра ко второму пришествию.
Если же добавить двойку из бис сначала, то получится 2302 – где 2000 это надличный дух мудрости и экклесия, ему посвященная. Сначала она была обозначена другим числом – пять тысяч, накормленных пятью хлебами и двумя рыбами. Пятерка – это тайное знание, вернее – знание скрытого смысла символики. Две рыбы – мудрость двух заветов, Ветхого и Нового. Получив от Учителя ключи к скрытому смыслу этих текстов, можно в итоге превратиться в экклесию, обладающую духом высшей мудрости. Соответственно, второй должник из притчи о неверном управителе вернул хозяину к моменту призвания к ответу лишь 80 из ста мер пшеницы. Если считать пшеницу как отборное зерно символом тайного знания, пятеркой, то 5*10*100 = 5000, исходное число, а 80 процентов от него – это 4000, то есть все та же светская, околовластная церковь, посвященная мирскому знанию. Да и не могло быть иного результата для церкви, достигнутого в союзе с неверным управителем, он же князь мира сего, он же дух властной администрации Фагот. И только после его отстранения после Бала – станет возможно превращение дома 302-бис и в дом Маргариты 3022, посвященный любви с желанием мудрости, и одновременно в дом Мастера 2302, посвященный высшей философии, соединенной с духом любви. Однако это превращение только впереди, а сейчас – это дом скорби.
Также можно напомнить ранее сделанное истолкование 9 главы Романа как пересказа притчи о неверном управителе и одном из должников – председателе товарищества, в котором не так сложно угадать церковных иерархов, имеющих светский статус, но не имеющих толкования Писания. Символом толкования является обувь, так что фамилия Босой говорит сама за себя. Так что и там тоже речь шла о доме 302-бис как экклесии. Почему же это еще и дом скорби?
Кто-то посторонний мог бы подумать, что скорбь в доме связана с утратой земного воплощения Христа. Однако это не соответствует его учению. Во-первых, Учитель и его дух любви не умер, а вознесен на небеса – с личного уровня на уровень экклесии. Так что он остается незримо с теми, кто объединены во имя любви или во имя мудрости: ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. /Мф 18,20/ Поэтому апостолы и их последователи не скорбели, а слушали Христа. Некоторые даже записывали его слова, как Иоанн Богослов. Скорбь в этот дом пришла много позже.
Если слово из Романа встречается в Библии, то и смысл в нем заложен ровно тот же. Скорбь впервые упомянута в первой книге Ветхого Завета в эпизоде изгнания Адама и Евы, причем это наказание отдельно прописано для жены: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей /Быт 3,16/. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; /Быт 3,17/. Здесь скорбь – есть страдание вследствие нарушения самого первого данного Богом Завета.
Скорбь в связи с Новым Заветом описана в пророчестве, включающем притчу о сеятеле: И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и оклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока.
Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.
Кто имеет уши слышать, да слышит! /Мф 13,3-9/
А также ее первое истолкование Учителем для учеников, только начавших постигать тайное знание:
Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. /Мф 13,18-23/
Все евангельские притчи являются не просто нравоучением, но пророчеством о судьбе христианского учения и двух христианских экклесий. При этом одной из них не было положено вкусить пяти хлебов тайного знания, а только семи хлебов закона. Так что даже и первое истолкование притчи для всех учеников само является притчей, доступной пониманию лишь некоторых и то не сразу. Притча о сеятеле в двух вариантах – также не является исключением. Это не просто перечисление угроз, но пророчество о том, как и в каком порядке эти угрозы сбудутся. Поэтому есть сходные повороты сюжета с другими притчами, например – с притчей о добром самаритянине. Там тоже сюжет начинается при дороге, только нападают не птицы, а разбойники, но смысл похищения смыслов тот же. Как известно, в первые века христианства было много гностических и иных учений, похищавших евангельские зерна смысла для своего употребления.
Места каменистые – это много камня (символ закона), но немного земли (то есть веры). Не всем захочется, но придется честно соотнести эту притчу с тем именем, которое Учитель дал верному, но недалекому ученику Симону: и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее /Мф 16,18/. Понять смысл этих слов Учителя вряд ли возможно без соотнесения с другими притчами-пророчествами. Каменистое место для хранения зерен смысла, где законов, то есть ограничений больше, чем плодоносящей земли, то есть веры – необходимо было создать и укрепить в период вселенских соборов, чтобы птицы, они же разбойники, они же учения, ведущие в ад (врата ада) не расхищали зерна смысла и их носителей – паству. Под защитой каменной Церкви часть зерен проросла в виде толкований Предания, однако не глубоких, поскольку вера ограничена несвободой необходимой защиты. Так что это не упрек «отцам церкви» и тем более не обличение, а просто предопределенная судьба.
Что значит: взошло солнце в этом историческом контексте? Утро, пробуждение, свет знаний, рассеявший тьму суеверий и страхов, угрожавших похищению смыслов. Функция каменистого места как хранителя зерна евангельских притч исполнена. Однако солнце, то есть божественный свет знаний здесь как бы противопоставлен церкви Камня. Понять это противоречие нельзя, если не знать о предназначении второй церкви, хранительнице тайного знания, через работу которой явлен свет естественных наук. Однако одним из следствий этого раздельного развития должника масла и должника зерна будет увядание неглубоких толкований и соблазны. Оба должника связаны дружбой с временным управителем, обе церкви – и религия, и наука дорожат высоким светским статусом более, чем своим долгом.
Взаимная ревность двух экклесий в роли опоры светской власти ведет к гонениям за слово и соблазну отречения от неисполненной части долга. В этот период и настает скорбь как следствие нарушение Нового Завета. Столетие Великой русской революции позволяет нам в полной мере осознать и оценить меру этой великой Скорби. Так что ответ Мастера – и об этом продолжающемся до сих пор состоянии разделенности духа и души, мудрости и любви, науки и религии. Разве не об этом разделении вопиют все недавние скандалы с музеями-храмами и научными учреждениями в бывших монастырях? Хотя казалось, чего делить, если можно работать вместе и было бы желание.
Придется вспомнить также евангельское пророчество о великой скорби, которая предшествует Второму пришествию: Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. /Мф 24,20-22/
Возможно, кто-то полагает недостаточными страдания людей в революциях и двух мировых войнах ХХ века. Однако, при продлении или повторении, да еще и в большем масштабе действительно не спаслась бы никакая плоть. Причем эта великая скорбь вследствие разделения мудрости от любви, науки от религии была неизбежна. Молиться можно было лишь об условиях бегства из эпицентров мировой бойни.
И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; /Мф 24,29/. Опять иносказание, но мы уже можем разобрать эти символы, что померкнет не объект астрономии, дневное светило, а авторитет науки. Не даст отраженного света, то есть знаний философия. Путеводные ориентиры в лице общепризнанных лидеров (мы сейчас так и зовем их «звездами») падут в общем мнении. Поколеблются самые важные смыслы («смысл слова» в древнегреческом то же самое, что и «сила слова»). Это как раз тот самый период сразу после скорби, который мы с вами переживаем сейчас, а может быть – только входим в него после устранения угрозы горячей мировой войны. Этому соответствует в притче о сеятеле этап терний, обольщающих богатством и заглушающих осмысленные слова.
Хотя все же в других главах Романа домом скорби названа клиника доктора Стравинского. Как с этим быть? Общее правило толкование притч гласит – если есть два непротиворечивых толкования, то оба верны. И если дом 302-бис – это каменистое место обитания товарищества во главе с Босым, то клиника, где главенствует рациональный дух в звании доктора наук – это вторая экклесия, где до поры обитал дух философии. Другое дело, что оба дома, разделенных друг от друга – являются домами скорби. Извлечение Мастера из одного дома скорби и встреча с обновленной душой второго (302-го) дома скорби дает шанс на общее излечение. Кстати, констатация душевнобольной подразумевает больную душу, а душа Мастера – это Маргарита. То-то она огорчилась на эти ужасные слова.
Впрочем, нынче, всякого, кто слишком добр и откровенен, чтобы не хранить втайне свою искреннюю веру, называют ненормальным. Можно подумать, что люди, гордящиеся своим классовым, племенным или групповым чутьем, нападающие на думающих иначе, делают так от избытка душевного здоровья.
Встреча двух разорванных половинок целого еще не означает их скорого соединения и исцеления, но шанс на исцеление есть. Период терний тоже займет какое-то историческое время, пока дух философии и душа культуры будут обитать в своем полуподвале, то есть в довольно маргинальной общественной нише. И только после достаточно длительного времени настанет период, когда зерно, упавшее в добрую землю, начнет приносить плоды. И то верно, настоящая вера должна быть глубокой и доброй.
Наверняка, далеко не всем понравится это толкование, да даже и сама тема. Убеждать никого не стану. Кто имеет уши слышать, да слышит!
23. Спокойствие, только спокойствие
Опыт нашего актуального истолкования пророческого Романа, вообще говоря, предупреждает о сдержанности. Важные события в сфере самосознания общества происходят не так часто, иногда годами ждать приходится созревания перемен. И все же рискнем двинуться дальше именно сейчас, учитывая последовательную драматургию сцены после прямого обращения Маргариты:
Ужасные слова! Ужасные слова! Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом. Вылечите его, он стоит этого.
Сдвоенное восклицание, как мы предположили, отсылает к двум праздникам, 23 февраля и 8 марта, «мужскому» и «женскому», которые в этом году напомнили о столетии ужасных событий Великой революции, шизофренически расколовших самосознание общества. Еще раньше при первом толковании символических образов Романа в книге «MMIX – Год Быка» мы также находили эту прямую связку слова мастер с событиями русских революций.
История знакомства мастера с возлюбленной, рассказанная в 13 главе, относится к событиям, случившимся до основного действия Романа. Так же мы знаем из эссе «Дядя Ваня и другие», что символическим приквелом булгаковского Романа была пьеса другого, вернее первого мхатовского драматурга – Чехова. А слово мастер больше приклеилось ко второму драматургу МХТ – Горькому. Роль Горького и его мхатовской музы в подготовке первой русской революции и становлении Ленина как будущего лидера Великой революции – переоценить сложно. Все вместе они наделили лидера большевиков символическим капиталом, накопленным благодаря литературной и философской работе русской интеллигенции XIX века.
Вероятно, именно об этой исходящей от такого некогда буйного мастера опасности предупреждает Воланда его муза. Все-таки за ХХ век русская культура, даже столичная, нахлебалась призрачного революционного «счастья» вдоволь. С другой стороны, масштаб последствий идеологической, раскалывающей активности русских мастеров культуры – действительно великий, глобальный. Поэтому есть шанс, вылечив русское самосознание, добиться не менее масштабных, но позитивных, гармонизирующих мировую политику результатов. Однако вылечить сообщество, воплощающее Слово, может только вышестоящая инстанция – через участие мастера и его культуры (Маргариты) в мистерии подобающего масштаба.
Кстати, обращение мессир – более всего говорит о самосознании современной столичной культуры. Мы уже не раз отмечали и объясняли европоцентричность постимперской общерусской культуры. Для нее вышестоящая надмирная инстанция, вовлекающая в мистерию, видится в образе могущественного иностранца. Вряд ли с этим мировоззрением культурной общественности можно что-то поделать, разве что Европу упразднить или упростить, над чем уже работают сами европейцы. Однако для судеб мира и отечества намного важнее, чтобы со своим мировоззрением определилось философское сообщество (Мастер). Об этом самоопределении идет дальнейший диалог:
– Вы знаете, с кем вы сейчас говорите, – спросил у пришедшего Воланд, – у кого вы находитесь?
Напомню, что у Воланда нет жены, то есть воплощения в людях. Творческий дух Истории обращается к разным сообществам на языке символически значимых событий, требующих осмысления. Есть ли такого рода и масштаба события в наше время? Еще как есть, и более того привязаны эти экзистенциальные угрозы к Страстной неделе в год столетия Великой революции. Да так, что в пятницу многим даже философски и исторически подкованным наблюдателям кажется, что мир на грани гибели в Третьей мировой. Куда уж символичнее и масштабнее? Возможно, и по этой причине былые марксисты и по совместительству либералы на этот раз дружно отметились в соцсетях пасхальными приветствиями: «Воистину воскресе!»
И все же это эмоциональное стремление быть вместе со своим народом в сложные времена не является пока четким ответом на поставленный Провидением вопрос ребром: «у кого вы находитесь?». Другими словами: какая именно высшая инстанция вершит судьбы мира. Или еще проще: «Есть ли Бог?» Или же всем на этом свете заправляют другие могущественные силы, например, так называемый «классовый интерес»? От внутреннего убеждения того или иного наблюдателя и комментатора зависит его прогноз развития событий вокруг горячих точек и в целом мирового кризиса. Если Бога нет, а есть только «классовый интерес», либо «инстинкт власти», то и прогноз пессимистичен. Рано или поздно, но хищные инстинкты элиты и дополняющие хатаскрайные рефлексы обывателей довели бы этот мир до края пропасти, и пошли бы дальше. И неоткуда взяться удерживающим силам в этом мире, если Бога нет.
Между прочим, вольтерианцы и прочие энциклопедисты вовсе не отрицали Бога, а только дали ему новое имя – Разум. Другое дело, что тут же отождествили Разум с разумной (и еще уже – рациональной) личностью, отрицая надличное и иррациональное содержание психики. Это упрощенное основание политической и исторической философии послужило дальнейшим редукциям. Марксистский «классовый интерес» это тот же Разум, упрощенный «кипящим возмущением» до классового чутья, условного рефлекса экономически детерминированных личностей. Тем не менее, сами же классики марксизма признавали, что «классовые интересы» есть надличная движущая сила Истории, а их равнодействующая – это суррогат Бога. Можно еще назвать этот субъект истории «пародией на Бога» или иначе «обезьяной Бога». Собственно, с богословской точки зрения марксизм есть одна из форм поклонения «князю мира сего». Впрочем, марксистам на богословие и его выводы…
Опять же во времена классиков марксизма наука изучала внешние формы материи и энергии, и еще не проникла в информационные квантовые и психологические глубины. Поэтому Марксу простительно, но уже после Фрейда, а равно после первых итогов марксистских революционных экспериментов – стало невозможным сводить многообразие социально-психологических процессов к классовым инстинктам. Поэтому пришлось вводить в оборот еще и «влечение к власти», «влечение к смерти» и много еще чего. После первых итогов антимарксистских радикальных экспериментов пришлось дополнять картину мира еще и возрожденными из глубин этническими архетипами. То есть на самом деле таких «пародий на Бога» оказалась не одна, и они вовсе не показались ни рациональными, ни даже разумными в своем наиболее полном воплощении.
Если посмотреть на эти философские «пародии на Бога» глазами русской культуры, то не так сложно распознать в хищном «классовом инстинкте» булгаковский образ Бегемота, в «инстинкте власти» Коровьева, а в такой же равнодействующей всевозможных, в том числе архаичных страхов – ипостась «тайной службы безопасности» Азазелло. Эти надличные ипостаси конкурируют между собой за влияние на события и на общество, сменяют друг друга в качестве лидеров, но в конечном счете уравновешивают друг друга. Вопрос только, есть ли над ними вышестоящая инстанция и если есть, можно ли назвать ее тоже верховной «пародией на Бога», особенно если эта инстанция, опираясь на своих подручных, действительно охватывает и контролирует все стороны социального бытия. Вопрос – не только в ее существовании, но и в ее разумности, наличии творческой, эвристической силы.
Знаю, ответил мастер, моим соседом в сумасшедшем доме был этот мальчик, Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас.
Как же, как же, отозвался Воланд, я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету! Но вы-то верите, что это действительно я?
Почти все читатели Романа в этом месте сразу же понимают, о чем речь. Ведь «запоминаются последние слова» разговора из 3 главы, когда Бездомный вскричал: «Нету никакого дьявола!». Однако до этого, в 1 главе он точно так же доказывал, что и Бога нет. То есть из вышеприведенного диалога никак нельзя понять, за кого из этих двух мастер принимает Воланда. А сам Воланд не спешит прояснять вопрос, да и не может сделать это за мастера и за всех нас.
Так что на данном этапе развития философское сообщество уяснило всего лишь наличие надличной ипостаси над уже известными ему «обезьянами Бога». А вот понять природу это ипостаси и принять это понимание пока не получается. И вообще, было бы проще, если бы все это было философской абстракцией, не имеющей объективного воплощения в виде социально-психологических информационных процессов.
Приходится верить, сказал пришелец, но, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня, спохватившись, прибавил мастер.
Ну, что же, если спокойнее, то и считайте, вежливо ответил Воланд.
Остается только напомнить, что диалог с Творческим духом Истории обычно приурочен к религиозным праздникам. Сегодняшний день Пасхи вполне подходит хотя бы для постановки философского вопроса. Спешить с ответом было бы неправильно, особенно если культурная общественность пытается убедить в чем-то третьем:
Нет, нет, испуганно говорила Маргарита и трясла мастера за плечо, опомнись! Перед тобою действительно он!
Да, именно таково сейчас разобранное состояние самосознания и мировоззрения нашего общества, в центре которого все еще «не Бог, не царь, и не герой». Но хотя бы уже «не собственной рукой», и не «загоним человечество к счастью», поклоняясь своему «разуму». Не пишем на углах «Слава народу» или «Слава власти» и то слава богу.
24. «Молчание – золото»
«Галлюцинация» ключевое слово, связывающее воедино несколько абзацев текста. Предыдущий и самый первый раз до многократного повторения в 24 главе это слово возникло в самом начале 1 главы, когда перед внутренним взором Берлиоза возник зыбкий образ Коровьева-Фагота. С природой этого аватара сословия политических администраторов мы уже разобрались – это надличный дух, ипостась «коллективного бессознательного», оно же «внутреннейшее» по Ап.Павлу. В отличие от личной ипостаси духа, он же «муж», он же «внутренний человек» ипостась властного духа, «князя мира сего» вселяется или просто влияет на личность, находящуюся в несколько болезненном, воспаленном состоянии с обыденной точки зрения. И вообще жажда власти это психопатия. Потому и «галлюцинация», а не просто «видение» или «привидение».
Так что Берлиоз, собираясь поговорить со своим младшим коллегой о Христе, был уколот в самое сердце страхом перед призраком политической власти. После чего стал убеждать Ивана в том, что никакого Иисуса никогда не было. Хотя ему был дан Воландом шанс исправиться, это лишь усугубило страх Михаила Александровича и желание прильнуть к власти. С этим эпизодом и значением «галлюцинации» все ясно.
Как бы по контрасту с неверием Берлиоза, мастер в 24 главе признает: «Приходится верить». Аватар мастера (с маленькой буквы!), как мы догадались, принадлежит возродившегося вместе с этой верой философскому сообществу – земному воплощению Творческого духа, Мастера с большой буквы. В отличие от Маргариты, мастер начинает понимать и принимать присутствие Бога. Хотя до этого философам было намного легче считать религию плодом земной власти, выдумкой попов в пользу царей. Так было спокойнее изменить царям в пользу безбожной власти военного вождя. Кстати, первая глава Романа как раз и соответствует рубежу 1930-х с воссозданным культом земных властителей.
Несколько экзальтированное и испуганное отрицание слов мастера его любовницей: «Нет, нет…» - лишь подчеркивает непонимание ею природы Воланда. Она по-прежнему считает его духом земной власти, только тайной и нездешней (таинственный иностранец). И если мы сегодня посмотрим, кому курит фимиам наша культурная общественность, то увидим памятники обожествляемым «святым властителям». Князь Владимир на Боровицкой площади не одинок. Вон, в музее «современного» искусства к галерее бюстов царей добавили еще и генсеков. Культ советских вождей, таким образом, не заменяется, а дополняется культом царей. И весь спор между адептами заключается в том, в какой форме – религиозной или светской следует почитать последнего царя. Это и не спор даже, а взаимная реклама с естественным примирением и выводом: поклоняться власти следует и так, и этак.
Так что расшифровка «галлюцинации» как надличного духа власти дает нам в итоге вполне адекватную картину нынешнего расстроенного состояния умов столичной общественности – как интеллектуальной, так и просто культурной. Однако, это не вдруг началось и не скоро закончится. Привязка к текущему моменту только через настроения и раздвоенное мировоззрение слишком обща. Между тем далее по тексту речь снова идет о луне и связанных с нею символах. А как мы помним, луна в Романа всегда служит как указатель – либо на направление, как в 21 главе «Полет», либо на время, как правило, в период лунных и солнечных затмений. Так два лика светил – темного и светлого, указывали нам в начале 23 главы на лунное затмение в момент захода солнца и восхода луны над Болотной площадью 10 декабря 2011 года.
Попробуем вычислить, на какой момент времени может указывать вот этот абзац:
«Кот ввязался и тут:
– А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете, – кот полез в лунный столб и хотел еще что-то говорить, но его попросили замолчать, и он, ответив: – Хорошо, хорошо, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией, замолчал.»
Луну нередко изображают в виде человеческого лица в фас или в профиль. Но вот чтобы профиль кота в лунном свете? Впрочем… как проще всего нарисовать кошачий профиль? Полукруг снизу и повернутая дуга ушей сверху. Именно такой темный контур окаймляет светлый остаток луны во время частичного лунного затмения и больше никогда.
Смотрим дальше на «лунный столб». Достаточно заглянуть в любой учебник астрономии, чтобы увидеть именно такой рисунок полного солнечного затмения, когда от Луны к Земле тянется огромная тень в виде столба. И тоже – только во время полного затмения, но не частичного, и не кольцевого. Так что «кошачий профиль» и «лунный столб» указывают нам на последовательность из двух затмений – частичного лунного и полного солнечного.
Вообще говоря, череда двух затмений двух светил с разницей в две недели – это довольно частое астрономическое явление. Бывает каждый год, а иногда и дважды. Но, скажем, в прошлом 2016 году и в позапрошлом тоже сначала были солнечные, а потом уже лунные затмения. А еще раньше были солнечные вслед за лунными, но либо лунное – полное или полутеневое, а не частичное, либо солнечное – кольцевое. Предыдущий раз до 2017 года полное солнечное вслед за частичным лунным произошло в июне-июле 2010 года. И следующее после 2017-го тоже будет нескоро. Так что, если наша догадка с лунным профилем и столбом верна, то указывает на два затмения 7 и 21 августа 2017 года.
Однако, эта привязка по времени к астрономическим явлениям является знаком, но не духовным толкованием текста. Мы уже не раз находили подобные внешние знаки (например, подбитая сова и часы, сломанные в праздничную полночь), которые имели еще и толкование. Лунный свет – это отраженное, философское знание о духовном мире. «Жирный кот» аватар властного сословия финансистов, олигархов. Об этом и сам Бегемот прямо говорит, что он – тоже галлюцинация, надличный дух власти. Поэтому профиль в лунном свете должен символически означать социально-философское знание об этом хищном властном духе.
Вообще говоря, в том же Интернете можно найти множество интеллектуальных текстов маргинальных мыслителей, посвященных «ротшильдам», «рокфеллерам», истории финансовых привластных воротил. Однако никогда ранее само это властное сословие не требовало обратить внимание публики на свой «профиль». И вообще в публичном информационном поле днем с огнем было сложно встретить такие тексты, разоблачающие имманентное хищничество торгово-финансовой олигархии и подконтрольных ей держав. А в наше время – пожалуйста, то фильм о Соросе на госканале покажут, то материалы философского клуба на сайте госагентства «Россия сегодня» на ту же тему. Впрочем, это относится, скорее, к философскому лунному свету, а вот профиль означает, скорее, диаграммы бедственного состояния финансовых институтов, банков. Именно на этот низкий профиль желают обратить внимание общества и государства сами банкиры, чтобы спасти свои финансовые империи от полного банкротства, даже путем передачи во временное управление государству.
Истолкование символа лунного столба приводит нас к тому же результату. Слово столб используется в Романе много раз, но больше всего в 16 главе про казнь. Здесь оно является синонимом креста, на котором распинают жертву. Тот факт, что кот сам полез в лунный столб, истолковывается как готовность финансистов, как минимум, изобразить готовность к полному банкротству, краху, своего рода «самопожертвованию», только чтобы напугать этим другие властные сословия (администраторов и спецслужбистов). Эта «жертвенная» стратегия становится сегодня и в самом деле единственно спасительной. Причем способ «самоубийства» избран очень простой – всего-навсего выйти из тени и добровольно раскрыть данные о внутренней ситуации, подставить свой «профиль» под лунный свет, то есть аналитический взгляд.
Ровно это и происходило в минувшем августе, прошедшем под знаком двух затмений. Сначала подконтрольные олигархам информресурсы широко распространили аналитическую записку одного из им же подконтрольных аналитических центров – о плачевном состоянии сразу нескольких крупных банков. И вслед за этим названные банки, один за другим, были переданы в управление и докапитализированы специальным фондом при Центробанке. Владельцы банков, финансовые олигархи, тем самым были формально лишены права голоса в своих владениях. Однако все поставленные ими менеджеры остались на своих местах, так что финансово-политическая власть тоже осталась при них. То есть «галлюцинация» сохранила свою силу властного духа, но лишилась голоса, стала молчаливой. Впрочем, в этом смысле есть и еще одно толкование, не противоречащее первому – олигархические СМИ также переданы во временное управление и отражают теперь голос властных администраторов.
Как там пел Карабас-Барабас в детском фильме ровно про это самое? Ух, я готов унизиться, только бы к сладкой цели приблизиться…
25. Цитата мастера
Всякий раз, когда в тексте Романа встречается вопросительное местоимение, нам следует насторожиться. Это как знак «Внимание!» Автор тем самым просит нас найти в других главах ответ на поставленный вопрос. Например, в 21 главе: «…где-то вдали, почему-то очень волнуя сердце, шумел поезд». Поиски по тексту обнаружили в конце 18 главы один лишь поезд, уносивший из Москвы в Киев незадачливого дядю Берлиоза. Так удалось выяснить место приводнения Маргариты под украинским берегом Припяти.
Вот и по ходу 24 главы «Извлечение мастера» тоже прозвучал интересный вопрос:
– А скажите, почему Маргарита вас называет мастером? – спросил Воланд.
Только здесь есть один нюанс, вопрос адресован не только Автором к будущему толкователю Романа, но и Творческим духом – другому гостю нехорошей квартиры, духу только что возродившегося философского сообщества. Мастер с большой буквы требует ответа от просто мастера, при каких обстоятельствах он приобрел это имя от московской культурной общественности?
Прежде чем ответить на кардинальный вопрос «почему», сначала нужно выяснить целый ряд вопросов: где, когда и как. Это не так сложно, если ограничить поиски только лишь текстом Романа. В 13 главе «Явление героя» незнакомец рассказал Иванушке об истории своей несчастной любви, происходившей, скорее всего, за рамками времени Романа или, во всяком случае, намного раньше времени встречи и даже помещения в клинику обоих собеседников. Часть этого рассказа приближает нас к ответу:
«Тот, кто называл себя мастером, работал, а она, запустив в волосы тонкие с остро отточенными ногтями пальцы, перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. Иногда она сидела на корточках у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни пыльных корешков. Она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером. Она дожидалась этих обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи, нараспев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились, и говорила, что в этом романе ее жизнь.»
Если судить только по поверхности блестящего текста, Маргарита лелеяла амбиции музы писателя, мечтала о славе для возлюбленного, и вот тут-то решила подбодрить. Кстати, сочетание «вот тут-то» используется для указания на не проясненные до того обстоятельства, которые обсуждались ранее или во внешнем контексте по отношению к рассказу. То есть и здесь Автор оставил знак не самого вопроса, а его наличия в тексте.
Однако, нам важно найти не только связку между главами, но и истолковать эту связку по всем правилам, подсказанным Автором. Нужно ответить и на вопрос, почему вопрос Воланда соответствует именно нынешней осени, раз уж астрономические знаки двух затмений привязали предыдущий абзац к августу 2017 года? Какому периоду российской истории может тогда соответствовать отрывок из 13 главы? Ясно, что не тому же самому периоду, что соответствует встрече двух пациентов клиники. Это, кстати, был период самого начала 1990-х, когда в параллельном пространстве политического Варьете раздавали халявные ваучеры-червонцы. Был в это время и малый всплеск активности маргинального политико-философского сообщества, вследствие необходимости специалистов по научному коммунизму и марксистско-ленинской философии адаптироваться путем выворачивания наизнанку всех прежних оценок.
Однако, рассказ мастера о Маргарите, состоящий из двух частей, относится к другому времени. Вторую часть этого рассказа нам удалось сопоставить и привязать как параллельное действие с Балом в 23 главе. Параллельное течение времени в 12 и 13 главах подсказало нам, что и в 22-23 главах есть параллельное повествование, соответствие которому можно найти лишь в части текста 13 главы. Но, может быть, тогда и для 2-3 главы есть такая же параллель в другой части этого рассказа? Тогда получается, что вся 13 глава посвящена параллельным действиям в предварительной четверти трех больших стадий.
Если данная догадка верна, то вышеприведенная цитата соответствует периоду на рубеже 1930-х годов, как и 1-3 главы. Тогда и заглавные герои Романа на самом деле вступают в действие с самого начала. В самой связке двух имен, которую и просит разъяснить Воланд, возможна подсказка. Если Маргарита является аватаром, символом столичного культурного сообщества или, как принято было писать в советское время – отрасли культуры, то «мастер для Маргариты» на том же жаргоне звучит как сообщество «мастеров культуры». Подсказка достаточно жирная.
Между тем данное словосочетание «мастера культуры» стало общепринятым штампом в советской прессе и номенклатурно-аппаратном обиходе в связи с двумя программными статьями Максима Горького. Первая статья «Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры» вышла в «Известиях» 25 июля 1929 года. Второй текст и вовсе стал классикой советской пропаганды в 1932 году: «С кем вы, мастера культуры?». Статья напечатана с подзаголовком «Ответ американским корреспондентам» 22 марта одновременно в «Правде» и в «Известиях».
И да, можно еще напомнить, что «извлечение» это синоним слова «цитата», то есть название всей главы отсылает нас к некой цитате мастера. Речь может идти и о цитате из рассказа мастера в Романе, и о цитате первого прототипа мастера в жизни.
Версия о том, что именно М.Горький и его муза – актриса МХТ М.Андреева были прототипами двух «М» булгаковского романа – была впервые выдвинута и неплохо обоснована Альфредом Барковым. Достаточно даже такого совпадения, как проживание знаменитой актрисы в особняке Саввы Морозова на Спиридоновке, в Арбатской части старой Москвы. Этот особняк по расположению и описанию полностью соответствует «дому Маргариты», откуда она тоже выпорхнула к любовнику, как и Андреева к Горькому. Тут не поспоришь, но пришлось эту версию слегка доработать, уточнив, что Горький и Андреева были олицетворением двух сообществ – литературно-философского и культурного в начале ХХ века. Но позже Горький стал лидером другого сообщества – гуманитарной советской интеллигенции, аватаром которой был уже не мастер, а его антипод в Романе – Берлиоз.
Таким образом, все косвенные указания и приметы намекают на период 1929-32 годов, когда Булгаков начал работу над Романом, в том числе полностью написал «роман в романе» о Понтии Пилате. В этот период мастером, работающим в полуподполье, был уже не Горький, а сам Булгаков, а его музой стала Елена Шиловская. Их роман начался в 1929 году, а в 1932 году она упорхнула от мужа-генерала и стала женой писателя. Вот только печатать книги Булгакова, а вскоре и ставить пьесы после этого перестали, зато вовсю развернулась травля со стороны «коллег» по Союзу Писателей и критиков. Так что наше духовное, психолого-историческое истолкование ни на йоту не противоречит общему суждению об автобиографичности любовной линии Романа.
Кстати, вот тут-то есть повод обратить внимание читателей «MMIX» и приложений на не так давно, в 2013 году вышедшую книгу И.Амлинской «12 стульев от Михаила Булгакова». Все-таки новое прочтение биографии писателя, не спеша, пробивает дорогу даже среди гуманитарной интеллигенции. Киевский, по ее словам, литературовед весьма доказательно, строго по канонам литературоведения, доказывает, что текст знаменитого плутовского романа И.Ильфа и Е.Петрова на самом деле написан М.Булгаковым. И заодно подтверждает не только существование, но и реальную работу полуподпольного сообщества «мастеров культуры», самым ярким олицетворением которого был именно Булгаков, недосягаемый для рапповской критики.
Один лишь вопрос мешает признанию подлинного авторства: Зачем это было нужно и ему, и его вольным или невольным соавторам? Однако ответ давно уже вычислен на страницах «MMIX – Год Быка», а еще раньше нащупан, но не доведен до логической определенности Бузиновскими в книге «Тайна Воланда». Речь, по всей видимости, идет о тайной операции личной сталинской разведки, в ходе которой Роберто Бартини курировал и окормлял эзотерикой тайное писательское общество «Атон». Однако не все ученики были способны быстро усвоить символику и тем более выдать на гора хороший текст. Вот и пришлось Булгакову работать за троих, и не единожды. Зато западные партнеры, в том числе эзотерические общества, включавшие европейских «мастеров культуры», были впечатлены и вовлечены в поддержку сталинского заговора против однопартийцев.
Впрочем, эти подробности, возможно, и не относятся к заданному нам вопросу. Хотя, в общем-то, отвечают на вопрос, почему Булгаков в эту политическую авантюру втянулся, и почему его муза, так же не чуждая связей с ОГПУ, стала называть его «мастером культуры». Это был способ не просто стать в один ряд с такими советскими писателями как Горький или Алексей Толстой, но и получить свободу коммуникации с западными участниками этого отчасти эзотерического, отчасти левого политического писательского сообщества – как Г.Уэллс, Р.Роллан, А.Барбюс. Однако этим надеждам мастера и его музы так и не суждено было сбыться.
В таком случае, у нас остался лишь один вопрос, почему Воланд спросил мастера об этих причинах и обстоятельствах именно сейчас? Или другими словами – почему Автор поставил этот вопрос именно после абзаца с лунными знамениями? Похоже, что ответ будет почти банальным. Приближается 100-летие Октябрьского переворота, совершенного в ходе Великой Русской Революции той самой группой товарищей, которая позже, в 1930-х будет вынуждена осуществлять еще один политический переворот в рамках инициированной культурной революции. Политическая роль сообщества «мастеров культуры» во главе с Горьким в подготовке революции 1917 года известна, а вот роль такого же полуподпольного сообщества в культурной революции и зачистке троцкистской партийной верхушки – пока мало кому известна и понятна.
Хотя нет, был ведь еще самый первый дополнительный вопрос: Почему вопрос с подтекстом о «мастерах культуры» задает именно Воланд мастеру, а не повествователь – внимательному читателю? Творческий дух может говорить с нами со страниц великих книг, но это – наедине с каждым. Говорить с мастером как аватаром целого сообщества – значит, вдохновлять многих на раскрытие такого рода тайн. Появление других книг и обсуждение исследований разных авторов, посвященных тайнам булгаковских книг и политических интриг в истории Великой революции – это и есть возрождение литературно-философского сообщества. Чем же еще должен заниматься этот коллективный мастер, как не взаимосвязью небесных символов и земных событий?
26. Тройной вопрос
– О чем роман?
– Роман о Понтии Пилате.
…
– О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – Вот теперь? Это потрясающе!
Похоже, первый ответ мастера не был удачным. В конце концов, его спросили – о чем, а не о ком. Так что пришлось повторить вопрос трижды с вариациями. Нет ли в этом намека на возможность разных истолкований имени Понтия Пилата, причем только одно из этих трех – имя человека. А два других тогда что? – может, речь о социальном явлении, например, о земной власти? Это ведь будет «что?», а не «кто?».
Во всяком случае, такой многоэтажный вопрос Воланда не противоречит нашему толкованию героев романа, а равно и романа в романе – как аватаров или духов больших сообществ. Еще раньше, в основном тексте «MMIX» мы предположили, что роман в романе описывает двойной сюжет истории ХХ века. Кстати римское число «ХХ» похоже на соединение буквы М и буквы W – снизу земное воплощение мастера, сверху – на небесах коллективного бессознательного – Творческий дух, неразрывно связанный с воплощением вершинами творчества. Ну да это к слову пришлось…
Поэтому ответом на двойное «о чем?» может быть уже известное нам двойное истолкование коллективного субъекта, спрятанного Автором под маской Понтия Пилата. Первый вариант в рамках центрального сюжета мировой политики в ХХ веке – это англосаксонская, точнее – недавно возвысившаяся американская власть. Это ведь не первый прокуратор, а пятый. США, Британия, Испания, Византия, Рим – пять империй, контролировавшие мировую торговлю со времен Иудеи.
Второй вариант ответа «о чем?» – в рамках сюжета российской истории ХХ века, который является центральным для мирового сюжета. Поэтому аналогичные субъекты внутри советского руководства являются проекциями, представляющими такие же субъекты мирового сюжета. В российской имперской, а затем советской элите были и есть проевропейская ветвь (аватар Иуда), проатлантическая ветвь (Пилат), еврейская и нацменская интеллигенция (Левий), и в центре – русское ядро (Иешуа). Сюжет их взаимоотношений такой же, как между Германией, США, Израилем и Россией – центрами четырех цивилизаций.
А если учесть, что Булгаков был участником тайного общества писателей, созданного под эгидой ОГПУ на связи с западными писателями и дипломатами, в том числе с послом США, то встреча Иешуа с Пилатом проходила на его глазах, и даже отчасти в его лице. Опять же именно Булгакову, одному из немногих понимающих сопричастных, были понятны истинные отношения Сталина и его политического крыла с западными партнерами.
Пилатовский «белый плащ с кровавым подбоем» вполне годится как символ этой двойственности аватара англосаксов, который на мировой арене выступает «весь в белом» с позиции морального превосходства, но при этом через свою агентуру влияния в других странах и цивилизациях действует предельно жестко и кроваво. Опять же внутри СССР изнанка влияния «белых» англосаксов была декорирована кумачом. Что не отменяет объективного факта постоянного сотрудничества сталинистского крыла советской элиты с британскими и американскими экономическими партнерами, а потом военными союзниками. Холодная война тоже была больше партнерством США и СССР по общему разделу и удержанию власти в мире, чем реальным противостоянием.
Такое толкование дает ответ и на ироничный вопрос Воланда «Вот теперь?». Да, именно в данный момент истории, которому соответствует по шкале нашего толкования этот отрезок текста Романа – вопрос об истинных, а не показных отношениях между Россией и США, англосаксонским миром снова является напряженным и центральным. И взаправду именно теперь – «Это потрясающе!», если речь о мировой политике.
Однако все вышесказанное по поводу надличных толкований «о чем?» не отменяет и вопроса «о ком?» – личного отношения Автора к личности исторического Понтия Пилата. И тут мы обязательно должны вспомнить одного из «мастеров культуры», который в сталинское время был введен в этот советский «пантеон» прогрессивных писателей. Анатоль Франс, как мы уже упоминали в «MMIX», является автором того самого единственного рассказа о Понтии Пилате, предшествовавшего Роману. Этот короткий рассказ, по сути, является прологом к «роману в романе» и образцом метода для него – иронии автора, перевоплощающегося в своих героев, чтобы рассказать о своем отношении и к героям, и к сюжету.
Судя по содержанию рассказа о Пилате, Анатоль Франс и сам был воплощением не мастера, но духа гуманитарной научно-философской интеллигенции, то есть Берлиоза. Он тоже считал, что никакого Христа не было, а если и был какой-то бродяга, то он не стоит даже упоминания, потому что ничего описанного в Евангелиях с ним лично не было, ну разве что казнь, да и та – самая обычная в череде нескончаемых однообразных казней по приказу жестокого прокуратора. Постаревший Пилат в рассказе А.Франса не может вспомнить никакого Иисуса, как будто его и не было.
Развернутый ответ Булгакова, написавшего сначала именно свой «роман в романе», заключается в полном принятии метода и даже общей установки парижского оппонента-атеиста. Он тоже смотрит на события Страстной Пятницы и их участников не изнутри апостольской общины, не глазами верующего, а глазами утомленного иудеями Пилата. Тот видит перед собой действительно жалкого бродягу, а не великого учителя. Вот только после прочтения булгаковского романа в романе рассказ Франса перестает быть иронией атеиста. После ерушалаимских глав Романа читатель видит Пилата совсем не так, как до этого. Поэтому и отрицательный ответ франсовского Пилата на вопрос об Иисусе звучит иначе – как нежелание подпускать случайного знакомого к слишком важному личному переживанию, глубокой тайне и страданию одинокой души.
27. Предновогодние гадания
У нас осталась не истолкованной одна строка из уже сбывшегося, ответ на вопрос Воланда, почему культурная общественность назвала философствующего писателя «мастером»:
– Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал.
Это даже не иносказание, а просто ирония над читателем, понимающим все повороты сюжета слишком буквально. В то время как почти в каждой фразе Романа есть двусмысленность, содержащая ключ к истинным чувствам и оценкам Автора. Вот и в данном случае «простительная слабость» относится, скорее к поведению самого мастера, ставшему причиной такого самоназвания. Это ведь советские и зарубежные «мастера культуры» Горький или Ромэн Роллан получили известность как критические реалисты, критики капиталистической власти. Но затем попали в ловушку соблазнов, когда революционная «антикапиталистическая» власть вознесла их еще при жизни на пьедестал, и не только в переносном смысле. И если сталинская верхушка – это коллективный Понтий Пилат русской революции, пославший русский народ на Голгофу ради счастья всего человечества, то писательский флирт, а потом и роман с этой властью – и есть та самая простительная слабость. Понятно и то, почему это осмысление прошлого привязано по сюжету к дате столетия русской революции, прихода русского Пилата к власти.
Воспоминание о романе с Пилатом завершилось довольно бурной реакцией и намного более сложным для понимания иносказанием:
«Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребезжала посуда на столе, Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим никого не удивил. Бегемот почему-то зааплодировал.»
Слово опять намекает на некое событие, уже имевшее место тут, в нехорошей квартире. И в самом деле – язычок встречается до этого лишь однажды в начале 22 главы, когда героиня поднималась по темной лестнице:
«Огонек приблизился вплотную, и Маргарита увидела освещенное лицо мужчины, длинного и черного, держащего в руке эту самую лампадку. Те, кто имел уже несчастие в эти дни попасться на его дороге, даже при слабом свете язычка в лампадке, конечно, тотчас же узнали бы его. Это был Коровьев, он же Фагот.»
Аватар политической администрации действительно именно сейчас, перед самым Новым годом снова вышел на авансцену. Образ затемненной лестницы, ведущей к вершинам власти, которая вдруг становится сильно освещенной (в телевизионном «камине»), мы уже связали в предыдущем эссе «Бал!» с президентскими выборами. Так что совпадение и сегодня явно не случайно.
В прошлый раз в руках политической администрации был язычок в лампадке, а сейчас сами собой закачались язычки свечей. В чем здесь сходство и разница? Яркие свечи появились в 22 главе чуть позже, когда Фагот уже погасил лампадку, в комнате Воланда, где был канделябр с семью гнездами. И в начале 24 главы: «После второй стопки, выпитой Маргаритой, свечи в канделябрах разгорелись поярче, и в камине прибавилось пламени.» То есть язычки свечей связаны со стопкой, которую мы разгадали как рукопись, причем философскую (двойка – символ мудрости).
Также мы знаем, что светильниками (разума) в притчах называют ученых, книжников, а свечи – это источник света внутри светильников, то есть разум, познания. Семь свечей указывают на научное знание о законах (семерка – закон). Канделябр тоже был нами опознан как придуманное Автором пророческое иносказание для будущего компьютера. То есть речь шла о философских и научных рукописях, доступных культурному сообществу посредством компьютера, Интернета. Наличие проснувшегося Творческого духа возле компьютера тоже необходимо.
Эти взаимосвязанные толкования отчасти и легко объясняют популярную у читателей, но абсолютно мистическую, сказочную формулу «Рукописи не горят». Еще как горят, но если речь о цифровых рукописях, выкладываемых в Интернете, тогда да – уничтожить такую рукопись намного сложнее.
Но мы пока так и не разобрались с язычками свечей. Языки – вещь совершенно необходимая для передачи знаний, света, но достаточно устойчивая и обширная, вряд ли они бы закачались и запрыгали. Другое дело – научный или профессиональный жаргон, достаточно узкий, чтобы быстро меняться вследствие… Вследствие чего? Только если практика применения – описания реальности заставляет этот язычок меняться, совершать скачок в развитие.
Как мы выяснили еще в философской рукописи «MMIX – Год Быка» булгаковский Роман – это пророчество, прежде всего, о судьбе будущей гуманитарной науки, она же азимовская «психоистория». Впрочем, пока это еще разные науки – история, психология, политология, и жаргоны у них все еще разные. Но опять же, чтобы сложилась новая наука, прежние науки должны впасть в кризис, их научные жаргоны закачаться. Именно такое истолкование язычков свечей соответствует главной теме скрытого символического слоя Романа.
Что же касается язычка в лампадке, раз уж пошла о том речь, то перед прошлыми выборами в 2011 году религиозные термины и темы стали весьма популярными среди политиков и избирателей. Ну да любая политическая мода проходит, и сегодня уже даже религиозные деятели больше рассуждают об информационных технологиях, финтехе и об их влиянии на общество.
Задребезжавшая на столе посуда тоже требует истолкования. Это иносказание тоже связывает нас с эпизодом в начале 17 главы, где за закрытыми дверями Зрелищной комиссии бьют посуду. А кроме того, с началом 21 главы, где грязная посуда бьется из-за обрушения потолков в доме Драмлита. И тот, и другой сюжет был ранее в «MMIX» истолкован как связанный с периодами выборов (1993-го и 2003-го годов соответственно). Битье посуды в политике в эти периоды было изрядным и касалось, прежде всего, финансовой олигархии. Между тем стол, как мы тоже выяснили, изначально в сюжете евангельского первоисточника Романа имеет тесную связь с сословием менял. Как там Бегемот по этому поводу выразился: «Сиживали за столом, сиживали».
Кроме того, в евангельской, библейской символике, используемой Автором для иносказаний в Романе, вино, хлеб или иная еда – есть символы духовной пищи, то есть передаваемых знаний, информации. Следовательно, посуда – это вместилище информации – например, печатные издания. Посуда на столе – это издания, принадлежащие олигархам. И в самом деле, на старте выборной кампании вещание либеральных СМИ можно охарактеризовать этим словом – дребезжание.
Действия Воланда – это уже не поведение отдельных политических или культурных сословий, а сюжетные повороты самой истории, проявление ее Творческого духа, разрушающего старое и сотворяющего новое. Есть даже такой публицистический оборот – «насмешка истории». Вообще-то психологическая природа смеха генетически связана со страхом, вернее – с его преодолением. Смешно становится, когда некто или нечто страшное для зрителя оборачивается нестрашным. Например, когда чаплинский Чарли пинает в зад иммиграционного инспектора, и ему за это ничего не будет – зритель, вчерашний иммигрант не может не смеяться.
Поэтому, когда Воланд рассмеялся громовым образом, речь идет о неких важных событиях, на первый взгляд для публики страшных, но на самом деле безопасных. Можно только гадать из контекста, какие огромные страхи обращаются столь же громовым смехом. С учетом воспоминаний о Пилате русской революции – Сталине, дребезжание либеральных СМИ по поводу нынешней «диктатуры» действительно смешны. И больше всего этому несоответствию страхов и реальности радуется сословие финансистов, олигархов, нуворишей: Бегемот почему-то зааплодировал. Хотя есть и другая версия, не отменяющая первую – самым большим страхом финансистов является крах мировой финансовой системы. Если его удастся избежать каким-то образом, с помощью цифровой «диктатуры», аплодисменты будут весьма уместны, как и смех облегчения.
28. Аплодисменты
Один небольшой момент мы в прошлый раз упустили при толковании вот этого отрывка: «…Бегемот почему-то зааплодировал.» Хотя можно было уже привыкнуть, что Автор расставляет вопросительные местоимения именно для того, чтобы побудить нас искать скрытый смысл в этой фразе. Придется поискать в тексте Романа все, что так или иначе связано с аплодисментами.
Впервые такой аплодисмент появляется в 13 главе про Варьете, то есть про разгул демократии в начале 90-х и первых фокусов:
«После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент.»
И чуть ниже сразу после фокуса с червонцами, когда конферансье Бенгальский потребовал разоблачения:
«Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве, и на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба.»
Фокус с червонцами был разоблачен еще в 1994 году в приложении к «Новой ежедневной газете» в одном из первых толкований Романа как пророчество. Еще подробнее об этом было в «MMIX». Не так уж сложно распознать чубайсовские ваучеры номиналом в 10 тысяч рублей, то есть позже деноминированных 10 рублей, червонец. И цвет, и происхождение оценки с потолка, и обесценивание через некоторое время – все было угадано Автором за семь десятилетий до событий.
Есть ли сегодня повод вспомнить лихие 90-е? Помимо того, что именно Чубайс вдруг снова оказался в фокусе внимания из-за «кремлевского списка». Ну, разве что все бенефициары ваучерной приватизации тоже оказались в фокусе внимания и под угрозой разоблачения. Другим совпадением является фактическое повторение событий рубежа 1991/92 годов теперь уже в глобальном масштабе с угрозой гиперинфляции и такими же наглыми фокусами на фондовом рынке.
Что еще может указывать на связь между 2018 и 1992 годами. Ах, ну да – тогда тоже в начале года для отвлечения внимания от приватизационных фокусов стартовала относительно скандальная зимняя Олимпиада в Альбервиле. И тоже российские спортсмены выступали под «нейтральным» олимпийским флагом. Это уже знаковое совпадение.
Только в 1992 году было две таких олимпиады – зимняя и еще летняя в Барселоне, которая как раз и совпала с летними политическими каникулами и отвлечением внимания от скандального, противозаконного указа о ваучерах. Это чуть позже объединенная право-левая оппозиция, ласково названная либеральной прессой «красно-коричневыми», стала требовать разоблачения этого фокуса. За это оппозиции «оторвали голову» в лице так называемого Фронта национального спасения. Впрочем, сил у полосатой, как бенгальский тигр, оппозиции, кроме как на возмущенный «конферанс», не было. Хотя потом, после смены правительства и запуска ваучерной приватизации, «голову» в политику вернули – разрешили восстановить компартию.
Можно еще заметить, что слово «аплодисмент» является самой близкой анаграммой для «олимпиады», да и по смыслу предполагает популярное массовое шоу, подчиненное после развала СССР глобальной финансовой олигархии, Бегемоту. Так что в качестве знака, указывающего на те или иные события, может еще пригодится.
Следующее упоминание аплодисментов будет в 15 главе «Сон Никанора Ивановича». Глава эта выпадает из общего течения времени Романа, поэтому два указания на аплодисменты могут подсказать привязку к следующим двум олимпиадам в 1994 и 1996 годах. В этот период тоже случались фокусы на финансовом рынке вроде МММ, а Никанор Иванович, в котором мы ранее угадали архиерейскую корпорацию, тоже был в 1996 году втянут в «табачный скандал» на фоне политического театра президентских выборов. Второй аплодисмент из 15 главы в дальнем «женском театре», скорее всего, связан с выборами в США и летней Олимпиадой в Атланте.
Наконец, в самом начале 24 главы «Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел и после этого так залихватски тяпнул вторую стопку спирта, что все зааплодировали.» Этот фрагмент мы уже отчасти истолковали в начале данного эссе «После Бала», сделав привязку к лету-осени 2012 года. Тогда в Лондоне тоже прошла олимпиада, которую тоже пытались сорвать или понизить участие угрозами атомных терактов, как и сейчас пытались отпугнуть от корейской олимпиады. Однако и в тот, и в этот раз этот фокус не удался – «все зааплодировали», то есть все участвуют.
К этим растолкованным аплодисментам Бегемота можно добавить толкование следующего фрагмента из диалога Воланда с мастером: «Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?»
В прошлый раз мы выяснили, что роман с Понтием Пилатом у философски настроенной советской публицистки и литературы соцреализма – означал восхваление Сталина и советского руководства. Однако и сегодня на фоне скандальной олимпиады проходит выборная кампания, в которой имя Сталина и восхваление советских достижений является одной из ключевых тем публицистики нынешних литераторов. Так что не случайно «мастер» здесь с маленькой буквы. И все эти ранее истолкованные в негативном духе (сожженные в печке постсоветских СМИ) вдруг оказались опять востребованными, причем именно глобально-финансовым Бегемотом, под хвост которому вся такого рода публицистика была ранее пущена. Но теперь в тех же самых олигархических СМИ был нанесен знаковый удар по либеральным толкованиям в лице Сванидзе от лица новой «полосатой» право-левой оппозиции во главе с «олигархом».
И все же, при всем совпадении видимых знаков, нужно иметь в виду, что кроме предсказанных событий на поверхности политического бытия, символика Романа имеет и более глубокие слои смыслов, требующие иного толкования. И в этих глубоких слоях смысл может быть совершенно противоположный. Но об этом в следующий раз.
29. «Перед прочтением – сжечь!»
По всему выходит, что мы в предыдущих главах немного забежали вперед с актуальными толкованиями, но в целом угадали. Аплодисмент как анаграмма и атрибут Олимпиады дал нам временную привязку для эпизода, когда Воланд рассмеялся громовым образом, а Бегемот зааплодировал. Глагол в прошлом времени и приставка «за» указывают на момент после Олимпиады.
А мы еще раньше истолковали смех Творческого духа истории как пугающее по внешней форме, но на деле не страшное событие. И в самом деле, своим посланием Путин никого не испугал и смехом этим никого не удивил. Именно такова была реакция мировой элиты на военную часть послания. Не испугал, потому что речь о восстановлении глобального стратегического паритета, баланса страха как страховки от мировой войны. Не удивил, потому что не особо и скрывали, а кроме того, кто ж из генералов признается.
Дальнейшее развитие пока тоже вполне соответствует нашему истолкованию предмета романа мастера: «О чем, о чем… о ком?» Понтий Пилат – и как исторический персонаж, и как символический образ соответствует власти глобалистов. Поэтому к нему относится сразу три вопроса. О чем? Власть глобалистов, доминирующей, но расколотой (гемикрания) финансовой элиты. Еще раз – о чем? О властной верхушке, представляющей глобалистов здесь в Москве (как и в древнем Иерусалиме). В булгаковские времена такими двуслойными, белыми с кровавым подбоем глобалистами были сталинисты, в отличие от просто кроваво красных троцкистов. Ну и вопрос – о ком? О конкретном лидере глобалистской верхушки – в момент написания Романа это был Сталин, в момент его истолкования – Путин.
Нужно ли лишний раз пояснять, что практически все качественные, мастерские тексты в аналитических, философских Интернет-ресурсах посвящены нынче либо США, либо российской финансово-олигархической верхушке, либо лично Путину, в том числе в сравнении со Сталиным, советским руководством и его альянсам с англосаксами – как открытым, так и закулисным. И это получается все о нем – Понтии Пилате как символе власти глобалистов.
Опять же, пожалуй, самый популярный среди интеллигенции мем из Романа – «Рукописи не горят». Сектантам вообще нравится все абсурдное и чудесное. Однако, это до эпохи Интернета негорючие рукописи были чудом и суррогатным символом веры в доброго дьявола. Сегодня большинство аналитических и политико-философских текстов размещаются на таких Интернет-ресурсах как ЖЖ, Афтершок, Авантюра, других форумах или соцсетях. По своему статусу и природе – это цифровые рукописи.
А не горят эти рукописи потому, что сразу же копируются и сохраняются сразу несколькими поисковыми сервисами, не говоря уже о цифровых библиотеках. При необходимости Бегемот, сословие банкстеров, которому все эти хранилища принадлежат, всегда может достать из небытия любую исчезнувшую из оборота цифровую рукопись. Другое дело, что есть уже и такое толкование, что вся предвыборная работа сословия мастеров политической публицистики буквально в следующем абзаце оказывается в состоянии «коту под хвост». Но это будет, скорее всего, уже после завершения выборов.
И все же забежать хотя бы немного вперед всегда хочется тем более, когда луна опять послужит символическим указателем времени.
Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча, без улыбки уставился на мастера. Но тот неизвестно отчего впал в тоску и беспокойство, поднялся со стула, заломил руки и, обращаясь к далекой луне, вздрагивая, начал бормотать:
– И ночью при луне мне нет покоя, зачем потревожили меня? О боги, боги...
Из грядущих в 2018 году астрономических знамений по смыслу более всего подходит лунное затмение 27 июля, совпадающее с перигеем естественного спутника Земли. В эту знаменательную ночь Луна будет на самом далеком от нас расстоянии.
Нет сомнения, что для сословия мастеров политической публицистики этот момент начала политических каникул вызывает тоску и беспокойство, когда главные выборы и формирование правительство с сопутствующими информационными боями уже далеко позади, а финансирование следующей выборной кампании еще не открыто. Опять же в этом сугубо внешнем слое пророчества символика Романа имеет такое же поверхностное, знаковое истолкование, как и фазы Луны. В этом варианте толкования пачка рукописей имеет самое банальное значение множества публицистических текстов.
Однако возможны и более глубокие толкования символики чудесно спасенного, возвращенного романа. Особенно если учесть вот эту подсказку:
– Я, к сожалению, не могу этого сделать, – ответил мастер, – потому что я сжег его в печке.
Сжигание текста – это его истолкование. Таково значение библейской символики огня в очаге. Истолкование как результат имеет другой символ – обувь, а вот процесс истолкования – это сжигание. Использование в Романе этого глагола необходимо относится к иносказательному тексту, а не к поверхностному актуальному прочтению пророчества. Соответственно, в этом более глубоком контексте и сам мастер – это особая творческая ипостась своего политико-публицистического сословия. В этом случае экземпляр рукописи означает почти то же самое, что и в литературном сюжете булгаковского Романа. Текст «романа в романе» – это ведь тоже притча, причем уже нами истолкованная, то есть сожженная.
Однако, что в таком случае может символизировать обратная операция, то есть восстановление текста, сюжета ранее сожженного, истолкованного романа в романе? Единственный вариант, который пока приходит в голову, - это буквальное повторение сюжета «романа в романе» в реальной политической жизни. Раз уж и в этом контексте присутствует мастер. И если к образу Понтия Пилата сегодня применим актуальный вопрос «о ком?», то почему бы не появиться и персональному олицетворению мастера? Может быть, еще одно повторение в реальности этого сюжета, как в свое время между самим Булгаковым и спасавшим его от расправы троцкистов Сталиным.
При таком толковании все равно остается вопрос, повторятся ли первые две главы «романа в романе» с судом и казнью? Или же речь пойдет только о двух оставшихся главах о Понтии Пилате, где мастер спит в подвале так же, как его ерушалаимский прототип спит в закрытом камнем гробу. И вообще не факт, что это толкование верно. Так что поживем – увидим.
30. «Скоро сказка сказывается…»
Пророчества из 24 главы Романа, тем не менее, неспешно воплощаются. Нам даже иногда удается заранее привязать их к астрономическим указателям. Так, особую тоску и беспокойство возрожденного в России философского сообщества (не путать с историками и преподавателями философии) удалось привязать к июльскому затмению далекой луны в ее апогее. Впрочем, определенное разочарование этого сообщества начало проявляться уже сейчас, сразу же после объявления нового состава правительства.
Это, конечно, хорошо, что наша аналитическая публицистика научилась, наконец, хоть немного различать интересы России и всей постсоветской, северо-евразийской цивилизации от так называемых общечеловеческих, но на деле западных. Тем не менее, это наметившееся различение в связи с противостоянием Западу вокруг Украины и Сирии коснулось пока что лишь внешнеполитических проблем. Во внутренней политике те же самые публицисты, что отстаивали и обосновывали национал-глобалистскую позицию России против западных глобалистов, никаких философских прорывов не обнаружили. Спор между ними пока еще идет о Сталине, Николае Втором, даже Александра Благословенного стараются не вспоминать из-за его невнятной внутренней политики, хотя именно к этому царю и его послевоенному аракчеевскому режиму нынешняя внутренняя политика ближе всего по политическим формам.
Короче, никакого публичного философского осмысления внутренней политики государства пока еще не просматривается. Так откуда же тогда возьмется осмысленная, а не реакционная внутренняя политика?! Не нужно валить с больной головы на пустую! Это государство, страна должны предъявить претензии философскому, интеллектуальному сообществу в недостаточном внимании к внутренним делам. А не наоборот, когда лучшие люди Рунета вдруг, отчасти осознав внутриполитические реалии, впадают в тоску и беспокойство.
За все время перед президентскими выборами и формированием правительства можно было обнаружить в Рунете от силы одну-две аналитические публикации, посвященные не деградации западных и прозападных элит и режимов, а актуальным проблемам внутренней политики, российских регионов. И даже явные проявления деградации региональных и ведомственных элит, как в Кемерово, не стали предметом нелицеприятного анализа. Только опять споры на тему – кто виноват, Сталин или Николашка? А все потому, что нет заинтересованности, ни материальных, ни моральных стимулов выносить актуальный сор из избы. Лучше мы будем привлекать внимание алармистскими статьями о такой же или большей деградации политики в постсоветских республиках, на фоне которых наши проблемы не смотрятся.
Однако что-то мы увлеклись отечественной публицистикой, ее жалким состоянием. Вернемся к литературоведению и толкованию пророческих притч, в которых данное философическое сообщество олицетворяет аватар мастера с маленькой пока буквы.
Ранее мы связали эпизод с нестрашным громовым хохотом Воланда с фактической развязкой сирийского военного конфликта. Даже громогласный ракетный залп США и союзников по российским союзникам в Сирии вместо страха мировой ядерной войны вызвал, скорее, сатирический интерес и к «химическим» поводам, и к результатам атаки.
Соответственно, после мартовского громового смеха Творческого духа Истории и до июльского затмения – указателя на разочаровывающий финиш политического сезона должны произойти не менее эффектные политические события, которые можно будет сопоставить вот с этим моментом, кульминационным для блестящей поверхности Романа:
«– Простите, не поверю, – ответил Воланд, – этого быть не может. Рукописи не горят. – Он повернулся к Бегемоту и сказал: – Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.»
Еще не лишний раз напомню, что притчевые пророчества можно толковать сразу в нескольких слоях смысла и разных контекстах. Помимо самого глубинного содержательного контекста борьбы саморазвивающихся идей, должно быть отражение этой борьбы на поверхности общественно-политического бытия. Поэтому можно и нужно искать соответствующий политическому контексту смысл в многозначных словах. Так, слово «роман» имеет наряду с книжным смыслом еще и смысл любовной связи. В этом смысле роман мастера, посвященный Пилату, то есть светской прозападной власти, мы уже истолковали как простительную слабость и тесную связь с властью постреволюционных писателей и публицистов. Поэтому и в контексте отношений Воланда с Бегемотом можно и нужно применять этот смысл романа как тесной связи.
Вообще, повышенное внимание Творческого духа Истории к тому или иному персонажу Романа ничего хорошего для этого сообщества не означает. Можно напомнить, как внимателен был Воланд к страданиям Степы Лиходеева, аватара партноменклатуры, безуспешно боровшейся с собственным пьянством и завершившей свой политический путь в Ялте, с больной головой в резиденции «Форос» в августе 1991-го.
Другой не менее наглядный пример внимания Воланда – к сообществу региональных баронов, аватаром которого был буфетчик Соков, а олицетворением был мэр Лужков. Конец 18 главы в нашем истолковании «MMIX – Год Быка» был привязан как раз к завершению 1990-х, когда в ходе серии выборов региональная фронда была раскассирована и понижена в статусе, а ее лидеры публично посланы к доктору.
Так и сегодня сюжет, в котором Творческий дух Истории повернулся к Бегемоту, не грозит ничем хорошим для сословия нуворишей, отечественной олигархии. Ну-ка, олигархия, дай сюда тесную связь с властью!
Следующая строка Романа подтверждает наш вывод, поскольку слово «стул» нами тоже истолковывалось как символ светской власти, аналогичный трону:
«Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей.»
Обстоятельство времени моментально подсказывает нам, что речь идет о событии, когда политические изменения для сословия олигархии проявились в один момент. Таким событием, бесспорно, является объявление нового состава российского правительства. Все вице-премьеры и министры, явно связанные с тем или иным крупным бизнесом, были с политического уровня удалены.
Наиболее показательным в этом смысле стало явное и унизительное, пардон за тавтологию, понижение статуса на два уровня с политического на технический вице-премьера Приходько. Его тесная связь с олигархом Дерипаской была намеренно засвечена не без участия влиятельных спецслужбистов, курирующих «лидера протестов», пардон за столь грязное лыко в строку. То есть олигархия без боя, под общим давлением Кремля и его закулисных западных партнеров отдала свою тесную связь с политической властью.
Помимо «семейного» Приходьки из правительства были удалены потанинский Хлопонин, чубайсовский Абызов, известный перебежчик между олигархами, но на данный момент чемезовский Рогозин, и уж совсем одиозный Дворокович, связанный с Сечиным даже не напрямую, а через лондонских банкстеров-патронов, как и Дерипаска.
Остались в правительстве фигуры, лично связанные с Путиным и Медведевым как лидерами спецслужбистов и бюрократического аппарата, соответственно. Новые министры тоже связаны либо с верхушкой спецслужбистов, либо с вертикалью аппарата правительства. Все как один «без лести преданы» своему политическому лидеру, и готовы исполнить любой приказ. Однако проблема, как и двести лет тому назад, в том, что нет публичного осмысления целей и задач внутренней политики. Ну не считать же таким осмыслением чисто бюрократический набор формальных показателей, особенно в части демографии, мало зависящей от любой политики правительства.
Так что первая часть цитаты про моментального кота только что сбылась, в отличие от второй части этой фразы. Хотя кое-какие намеки в эту сторону уже были – на встрече Путина с директором Росархива было анонсировано рассекречивание большого массива исторических документов. Почему именно представители пролондонской олигархии своим сидением на стуле аппаратной власти мешали всем увидеть хотя бы верхний экземпляр этой толстой пачки рукописей, станет ясно позже. Ведь без обнародования хотя бы части таких документов политическая угроза не станет инструментом внешней политики. Ведь только о внешней политике болит нынче голова у лидеров, а внутренняя политика типа сама собой рассосется и наладится, путем чисток и закрутки законодательных гаек.
31. «В чащах юга жил-был цитрус…»
Вряд ли кто-то начнет отрицать глобальное политическое значение стартующего через неделю чемпионата мира по футболу. И вряд ли можно преуменьшить значение символической «ошибки» в официальном ролике ФИФА, где на Спасской башне Кремля вместо рубиновой звезды кто-то поместил золоченый крест, как на церкви. Мотивация пиарщиков понятна: в нынешнем информационном хаосе привлечь внимание к видео, тем более официальному – сложно без хотя бы небольшого скандала.
Однако даже сугубо светская игра с древней символикой не может не иметь символичных последствий, обязательно тянет за собой глубинные смыслы. Вот и с этой заменой пятиконечной звезды на крест случилось очередное совпадение с символикой в сюжете 24 главы Романа: «Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду.»
Конечно, можно было бы и раньше обратить внимание на это слово – экземпляр, учитывая привычку Автора именно в таких, выбивающихся из общего ряда иностранных словечках шифровать или прятать скрытые неординарные смыслы. Методы шифровки – тоже разные: либо намекающая по смыслу анаграмма, как в случае с аплодисментом (олимпиада), либо замена части букв, кроме первых и последних, как в случае канделябра (компьютер). Возможно и сочетание – неполная анаграмма с совпадением начала, как в данном случае экземпляра.
Понятно, что слово намекает на что-то единичное из общего ряда из двух и более, а также на что-то иностранное или заимствованное. Однако, чтобы понять о чем речь, нам придется проследить использование этого слова в других главах Романа, и прежде всего – самое первое использование в 9 главе:
«Растерянно ухмыльнувшись, Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола, где Коровьев с величайшей быстротой и ловкостью начертал в двух экземплярах контракт. После этого он слетал с ним в спальню и вернулся, причем оба экземпляра оказались уже размашисто подписанными иностранцем. Подписал контракт и председатель. Тут Коровьев попросил расписочку на пять...»
Не буду полностью пересказывать толкование девятой главы, сделанное нами еще девять лет назад, в 2009-м (MMIX), в одноименном романе-эссе о романе. Приведу лишь главный вывод: в 9 главе пересказывается как уже практически сбывшееся пророчество из самой скандальной евангельской притчи о неверном управителе. В той притче временный управляющий, то есть бывший регент, тоже втирается в доверие и просит должников написать новые расписки по старым контрактам. При этом Никанор Иванович должник за петролеум, за «масло Петра», то есть за обещанное еще первым председателем товарищества – апостолом Петром любви к Иисусу. Вот только любовь Петра и любовь основанной на этом камне закона церкви, экклезии – есть любовь без понимания, наполовину. Это понимание церкви как земной власти, наместничества, потому и поклонение кресту как символу смертной земной власти, и Иисусу как «царю иудеев», то есть царю верующих-монотеистов.
Экземпляр как близкая анаграмма экклезии действительно намекает на наличие двух экклезий, основанных Учителем. Об этом рассказывает другая евангельская притча из двух частей. Чудо четырех тысячах, насыщенных семью хлебами и несколькими рыбками – рассказывает иносказательно об основании светской церкви Петра. Духовной пищей для паствы здесь является закон, учение (семерка, как и камень – означает закон). Чудо о пяти тысячах, насыщенных пятью хлебами и двумя рыбами – о второй, тайной экклезии учеников, умеющих говорить языками: не иностранными, а символическим языком, скрытым под обыденным языком, то есть двумя языками одновременно. Пять хлебов – это учение о скрытом смысле обычных слов, а две рыбы – это мудрость двух заветов Библии, которую можно постичь, зная скрытый смысл.
Символом первой экклезии четырех тысяч, церкви Петра стал четырехконечный Крест, делящий мир на четыре части. Внимание знатокам, сможет ли кто за минуту ответить: Какая геометрическая фигура о пяти концах символизирует другую экклезию пяти тысяч?) Вот вам и глубинная символика ошибки или шутки пиарщиков ФИФА, вряд ли осознанно привлекших наше внимание к значению экземпляра, причем верхнего.
Обыденный смысл слова «верхний» тоже вполне соответствует картинке – крест на ней, как и звезда на реальной Спасской башне, находится на самом верху, над часами. Но какая из двух христианских экклезий на самом деле – верхняя, то есть выше другой. Есть ли вообще смысл в таком вопросе? Можно ведь считать верхнее – как поверхностное, и тогда таковой будет точно церковь Петра, не имеющая ключей к глубинным смыслам, но строго хранящая зерна смысла в почти неизменном греческом тексте Евангелий. Или же верхняя – как более близкая к Небесам, то есть к духовным смыслам?
Однако само по себе владение тайным языком еще не гарантирует понимание смыслов, хотя в целом экклезия пяти тысяч – наверное, в какие-то времена была верхней. Пока не выродилась в сугубо светские ритуалы почитания тайных символов типа масонских лож. Притча о неверном управителе включает пророчество именно об этом, что должник зерна (то есть смыслов) вернет лишь 80 из 100 мер отборного зерна, то есть в конце пути станет тоже светской экклезией четырех, а не пяти тысяч. В общем, не так просто определить, почему одна из экклезий названа верхней. Может быть, дальнейший ход реальных событий как-то прольет свет и на эту загадку.
Даже любопытно, что именно до такой степени впечатлит нашу культурную общественность: «Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез: - Вот она, рукопись! Вот она!»
В какой-то мере подсказкой может быть наличие пяти экземпляров романа, а также их расположение Автором на стуле, коту под хвост. Тогда «верхний» может означать сопричастность к верхам, причем к финансовым верхам, спонсирующим такого рода масонские и иные тайные общества. Ритуальный поклон Бегемота тоже намек. А вот передача тайной экклезии в творческое распоряжение Воланда – опять же ничего хорошего для этих пародийных «тамплиеров» и «иллюминатов» не означает. Там чуть ниже по тексту: «Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча, без улыбки уставился на мастера.» Это, судя по указаниям далекой луны произойдет до конца июля, то есть в течение чемпионата.
В общем, пока немного мыслей по поводу судьбы экземпляра. Пожалуй, это повод, чтобы несколько снизить пафос истолкования и рассказать еще об одном случае, когда духовная символика проникла в средоточие массовой поп-культуры. В конце концов, булгаковский Роман – это тоже по внешней форме легкое чтиво, поп-культура, как и азимовская Трилогия. Но если такого рода легкая вещица не истирается с годами, то значит – есть в ней и глубинные смыслы.
Немного в мире зрелищ и субъектов, имеющих не меньшую популярность, чем мировой футбол. Разве что мировой музыкальный шоу-бизнес и поп-идолы, например, классика жанра – ABBA. Возможно даже, шведский квартет – лучшая по качеству поп-группа всех времен и народов, релаксирующая, легкая, не надоедает даже через 40 лет непрерывной ретрансляции, потому что не напрягает. За исключением одной прощальной по сути композиции – The Day Before You Came.
Песенка очень простая – об одном абсолютно рутинном дне молодой европейской женщины – от рассвета до заката. Там вообще в тексте абсолютная рутина – позавтракала, села в поезд, приехала на работу к 9, пообедала в час, выкурила сигарету, ушла как обычно в 5, не меняя привычек с окончания школы, легла спать в 10, потушила свет. Этот день отличается от других лишь немногим – вечером идет дождь.
Более скучного сюжета сложно себе представить. Однако с каким внутренним, почти надрывным драматизмом поет блондинка Агнетта! Все меняет один короткий припев: «за день до твоего прихода!». Одним легким, поистине булгаковским мановением пера драматурга протагонистка и зрители оказываются над обыденным течением времени – не в прошлом, не в настоящем, а где-то в надвременном.
По этой причине даже поклонники и благожелательные критики не смогли сразу понять, о чем эта песнь. А через пару месяцев переключились на другое обсуждение – распада группы на пике популярности. И все же обсудить есть что.
Вневременной сюжет говорит, скорее, о мечте, чем о реальности. Однако именно это заставляет и до сих пор, через 35 лет, приглядываться к деталям и находить среди них весьма значимые. Кстати, бытовые детали подсказывают, что перед нами – не просто молодая женщина, а успешная по европейским меркам. Она не только работает с бумагами в офисе, но подписывает часть из них, живет в пригороде, критично интересуется политикой.
В конце дня читает популярную в то время книгу радикальной феминистки Мерилин Френч или что-то в этом стиле. Как и весь западный мир смотрит все подряд серии «Далласа». В общем, жизнь ее проходит успешно. И только в самом конце песни – опять легким драматическим мазком картина дополняется вневременной оценкой – «Как это ни смешно, но у меня не было чувства бесцельной жизни». И все это с нарастанием внутреннего драматизма с каждым часом в тот день «перед твоим приходом».
Вполне можно считать эту прощальную песнь своего рода протестом группы против наступающих сугубо либеральных ценностей. Следование идеологическим нормам и светским правилам отнюдь не наполняют жизнь смыслом, в отличие от любви. Этот смысл в песне есть, но он есть в половине сюжетов поп-лирики. Намного интереснее две неявные, но и не скрытые от внимательного взгляда ссылки на книгу и на сериал. Эта популярная книга М.Френч называлась «Женская комната» (The Women's Room). При этом самая популярная и пересматриваемая серия «Далласа» - «Дом разделенный» (A House Divided). А это уже отсылка к Евангелию от Марка: «дом, разделенный в себе, не устоит…».
А вот это уже попахивает едва скрытым бунтом против той самой системы, которая сначала вознесла поп-идолов на вершину светской славы, а потом разломала их жизнь. Система глобальных масс-медиа поначалу выросла, используя привычные людям самые простые ценности любви, семьи, дружбы, и как раз на рубеже 1980-х начала навязывать и эксплуатировать негативные «аттракционы». Тот же «Даллас» задумывался как техасская версия «Ромео и Джульетты», но в итоге главной темой стала ненависть членов семьи друг другу, главным рекламным трюком – обсуждение, кто из семьи или знакомых мог бы убить главного героя (да почти все). Ну и радикальный феминизм, разделяющий дом на «женскую комнату» и остальное – тоже язык ненависти.
Но и эта скрытая «идеологическая диверсия» никак не объясняет подспудного высокого драматизма «The Day Before You Came» и надвременного сюжета. Наличие скрытой, но достаточно надежной отсылки к Евангелию – заставляет сравнить сюжет песни с притчей о разумных и неразумных девах. Там тоже драматизм нарастает по мере приближения полночи и ожидания «жениха». Рутинный дневник офисной служащей оборачивается обратным отсчетом в апокалиптическом контексте. Это действительно может объяснить вневременной драматизм и внутреннюю энергетику. Скучнейший поп-сюжет оборачивается высочайшим пафосом и пророчеством европейской судьбы. Уснула, погасила лампаду до желанной полночи…
Но и это еще не все, а только половина сюжета, женская… Не поленитесь, кликните ссылку и послушайте внимательно мелодию. Ничего не напоминает? Подпеть не хочется в конце – «зеленая, зеленая трава»?
Нет, говорить о плагиате в поп-музыке вообще нет смысла. Как объяснял публике Адриано Челентано: Я потому такой оригинальный, что заимствую как можно больше и сразу у всех.
Так что изменение пары нот, темпа, мажора на минор – вполне норма для создания нового произведения поп-музыки. Многие советские хиты созданы именно таким методом из западных шлягеров, что только подтверждает вектор культурного влияния. Советский шлягер «Трава у дома» впервые вышел в эфир 12 апреля 1982 года, а релиз прощальной песни АББА – октябрь 1982, записана в августе. Однако альбом с песней «Трава у дома» в новой аранжировке – вышел в 1983, уже после. В общем, и здесь полная неопределенность, кто на кого повлиял, или же речь о драматичном совпадении.
Тем не менее, по смысловому содержанию из апреля 1982 года – советская мужская песня является зеркальным отражением европейского женского причитания. Тесная «мужская комната» на орбите – отделена от женской части дома безжизненной пустыней космоса, а смысл – ожидание возвращения и воссоединения после сложной и опасной работы.
Между тем, время идет, а разделение лишь усугубляется. Провал первой попытки нашего возвращения к Европе был обусловлен потерей нашего смысла жизни, принятием европейской рутины за таковой. Радикальный феминизм и прочие языки ненависти, усиленные масс-медиа, только нарастили обороты. Сколько времени осталось на часах вечности до заветной «полуночи», никто не знает, но смысл жизни пора возвращать.
Как причитала одна красивая женщина во вневременном сюжете 13 главы Романа:
«-- Я тебя вылечу, вылечу, … ты восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя один экземпляр!»
Когда вместо двух или пяти останется одна экклезия, посвященная Истине, тогда и воссоединится разделенный дом.
32. При далекой луне
Вот и настал день, и настает ночь небесного знамения, указанного в пророческом Романе как «далекая луна». Долгое лунное затмение в далеком апогее земного спутника, да еще и рядом с самым близким Марсом.
Прошлый раз мы пытались толковать будущие события как мировоззренческий или ценностный переворот в элитах, когда либеральный, «масонский» верхний экземпляр будет отложен в сторону и уступит место другой, консервативной экклезии. Мы еще гадали, что за событие может произойти в период футбольного чемпионата? Экстренный саммит Путина с Трампом был назначен немного позже нашего вопроса, сразу после начала чемпионата и связанных с этим политических событий в России. Причем «пенсионные» события выглядели демонстративным разворотом консервативного Кремля к либеральному МВФ. Однако именно этот обозначенный разворот стал стимулом для лидера консервативных сил в США срочно пойти на сближение с Кремлем.
При всех оговорках саммит в Хельсинки оценивается глобальными СМИ именно как антилиберальный сговор, переворот в мировой политике. Можно также заметить, что саммиту предшествовал визит Трампа в Лондон – можно сказать, в логово Бегемота как аватара финансовой олигархии. По всем признакам, лондонские, что называется, перед Трампом, а вернее – перед ходом истории, прогнулись: Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду.
Пожалуй, теперь можно растолковать и следующий довольно туманный пассаж:
Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез:
– Вот она, рукопись! Вот она!
Ключом к разгадке является слово: вновь. То есть нужно поискать ранее в Романе самый похожий эпизод. Это было в начале 19 главе, где Маргарита со слезами перечитывала маленький обгорелый отрывок рукописи:
"...Тьма, пришедшая со средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим – великий город, как будто не существовал на свете..."
Можно также напомнить, что уже было истолковано в «MMIX»: сожжение притчи, иносказательного пророчества символически означает именно – ее истолкование. Значит, не сожженный отрывок означает буквальное прочтение угрозы великому городу со стороны кого-то из средиземноморских соседей. И на самом деле, саммиту в Хельсинки и ценностному перевороту в глобальной политике предшествовал экстренный визит в Москву премьера Израиля. Разговор, как и 9 мая наверняка шел о судьбе Израиля и Иерусалима. О наличии договоренностей свидетельствует очень быстрое завершение освобождения от произраильских и прозападных боевиков юго-западных провинций Сирии, переходящих под контроль российской военной полиции.
Видимо, чтобы отпали все сомнения в истолковании причин волнения московской культурной общественности, Автор продублировал предсказание:
Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила:
– Всесилен, всесилен!
Кроме удовлетворения общественностью достигнутой договоренностью о гарантиях Иерусалиму, в этом пассаже скрыта отсылка к концовке 24 главы, где в другой и последний раз в Романе творческий дух Истории назван всесильным:
Ничто не исчезало, всесильный Воланд был действительно всесилен, и сколько угодно, хотя бы до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать и перечитывать слова:
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город... Да, тьма...
Пожалуй, такого совпадения двух неявных, но и не очень-то скрытых отсылок достаточно, чтобы убедиться в правильности истолкования причин волнения Маргариты по поводу рукописи. Ну и далее по тексту, связанному с сегодняшней далекой луной:
Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча, без улыбки уставился на мастера. Но тот неизвестно отчего впал в тоску и беспокойство, поднялся со стула, заломил руки и, обращаясь к далекой луне, вздрагивая, начал бормотать:
И ночью при луне мне нет покоя, зачем потревожили меня? О боги, боги...
К слову, «поданный» слишком близко к «подданный», указывающий на некие монархические ценности. Желающие могут легко обнаружить в актуальном политическом поле обсуждение монархических, а также клерикальных ценностей. Еще года четыре-три назад популярность либеральных мантр типа «евроассоциации», «безвиза» была ценной для легитимации политических режимов не только в Киеве. Сегодня же легитимность пытаются сконструировать из интриг по поводу обустройства поместной церкви, из связей с влиятельными религиозными центрами. Либеральные ценности перестали работать даже в лучших домах Лондона или Парижа.
Далее – вопросительное «отчего», как обычно у Автора, намекает на поиск самого близкого по контексту отрывка из Романа. Поисковый запрос по тексту со словами: мастер, неизвестно, тоска, луна – уверенно указывает на конец 15 главы, где:
Никанору Ивановичу полегчало после впрыскивания, и он заснул без всяких сновидений.
Но благодаря его выкрикам тревога передалась в 120-ю комнату, где больной проснулся и стал искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер и в тоске заломил руки, глядя на луну, вспоминая горькую, последнюю в жизни осеннюю ночь, полоску света из-под двери в подвале и развившиеся волосы.
Тут, кстати, тоже есть намек на последнюю в прежней жизни русской философии осеннюю ночь с 7 на 8 ноября 1917 года. Но нас сейчас больше интересует цепочка волнений, приведшая к беспокойству мастера. Начать с того, что Никанор Иванович – это аватар корпорации церковников. События 15 главы отражают политические перипетии 15 стадии российской истории (1920-е годы нэпа до рубежа 1930-х), когда церковные, культурные и валютные ценности шли сначала на цели мировой революции, а затем – на цели индустриализации. После успокоения и облегчения от ценностей церковной иерархии настало время «полосатой» право-левой оппозиции в лице Бенгальского, а затем изолировали и последних оставшихся русских философов.
Актуальная отсылка к 15 главе означает то самое фарсовое гегелевское повторение в завершающей четверти Надлома российской истории. Об этом достаточно подробно сказано в эссе «О культурных революциях», так что в литературоведческой работе мы просто отметим, что после президентских выборов 2018 года тоже началась 15 стадия внутри завершающей четверти Надлома российской истории. Намек на это в Романе вполне возможен, потому как именно из структуры 32 глав Романа мы извлекли ключи к 32 стадиям абстрактной модели исторических процессов.
Другое дело, что во время культурной революции на уровне элит (гегелевском повторении революции социальной) повторение сюжета событий приводит к обратному политическому содержанию. Скажем, активное обсуждение 100-летия революции как виртуальное повторение 14 стадии Гражданской войны – привело, скорее, к успокоению и отчасти к примирению спорящих сторон. Так и повторение 15 стадии включает споры, прежде всего, политико-экономические между глобалистами (неотроцкистами) и национал-глобалистами (неосталинистами), но содержательно все движется к большей экономической свободе. Например, церкви имущество возвращают, а не отнимают.
Что касается актуальных политических событий, то не успели успокоиться волнения церковников (Никанора Ивановича) по поводу глобальных угроз раскола православия, как опять впали в беспокойство ситуативно объединившиеся в очередной «право-левый» блок оппозиционные партии – в связи с пенсионной реформой. Хотя труднее всего приходится неизвестному мастеру. Только-только возродившееся и мало кому известное по именам сообщество национальной философии – активно поддержало власти в Крыму, на Донбассе, в Сирии и на выборах после мартовского послания. Но именно сейчас к концу июля, как и было предсказано, эти мастера впали в беспокойство, а то и в тоску из-за жестко либерального варианта пенсионной реформы, но еще более – из-за непонятных глобальных маневров Кремля между либералами из МВФ и Лондон-Сити, консерваторами из Белого Дома и Иерусалима.
Опять же междометие «О боги, боги…» фирменная присказка Понтия Пилата отсылает нас к аватару верховной власти, пусть даже неплохо относящейся к русскому народу, но сильно зависящей от глобальной элиты. Поэтому особенно странно слышать упреки Путину от неосталинистов, ведь товарищ Сталин тоже по-своему ценил русский народ и особенно его готовность жертвовать собой ради глобальных целей. Так что и актуальное воплощение Понтия Пилата в лице российского политического руководства тоже демонстрирует западным партнерам-глобалистам управляемость и готовность общества к жертвам ради очередной «цифровой» индустриализации. Другое дело, что при гегелевском повторении истории речь идет больше о виртуальных конфликтах и спорах, чем о реальных жертвах. Однако психологически спорщикам – элитариям от этого не легче.
Поэтому раздражение беспокойного мастера «зачем потревожили меня? О боги, боги…» является одновременно и ответом, кто потревожил – власти, участвующие и подчиненные глобальной политической интриге.
33. Успокоительное
Долгая 24 глава, как выяснилось, почти полностью состоит из отсылок к сюжетам предыдущих глав. Только так Автору удалось компактно обозначить многие знаковые события пяти лет, и это только к середине главы. Такой внешний сюжет, состоящий из информационных повторений драматических событий соответствует гегелевскому повторению Надлома российской истории в его завершающей четверти. Напомню, что в этом году мы прошли середину 20 стадии этого Надлома. При этом само разбиение любого исторического процесса на 32 стадии мы извлекли из структуры 32 глав Романа.
На резонный вопрос, почему же 20 стадия российской истории оказалась вдруг в 24 главе, а не в 20-й, ответ тоже давно уже был дан. Роман повествует, прежде всего, о судьбе новой гуманитарной науки, а политические процессы являются только внешним контекстом для этой главной линии. После 2012 года в этом надполитическом процессе началась третья большая стадия Гармонизации, поэтому 24 глава и последующие будут более долгими, чем «надломные» главы, сильнее сопряженные с политикой.
Предыдущая отсылка к надломной 15 главе напомнило нам о повторении тоски и беспокойства мастеров культуры на 15 стадии российской истории «нэповской» конца 1920 годов. Следующий абзац содержит такую же отсылку туда же:
Маргарита вцепилась в больничный халат, прижалась к нему и сама начала бормотать в тоске и слезах:
Боже, почему же тебе не помогает лекарство?
Вопросительное слово обязывает нас найти отсылку с лекарством в тексте Романа, снова в самом конце 15 главы:
Но врач быстро успокоил всех встревоженных, скорбных главою, и они стали засыпать. Позднее всех забылся Иван, когда над рекой уже светало. После лекарства, напоившего все его тело, успокоение пришло к нему, как волна, накрывшая его. Тело его облегчилось, а голову обдувала теплым ветерком дрема...
Было еще одно упоминание лекарств, но в 22 главе речь шла о больной ноге Воланда, а не о голове мастера, поэтому параллель работает только с 15 главой. Часть знаков из этой главы уже проявились в информполе, как и положено, в виде споров о том, придется ли «сдавать валюту». Кто-то из руководства госбанков уже успел напугать граждан своими нежданными уверениями в безопасности валютных вкладов. Опять же на политической сцене снова появился со своим коронным бенефисом «скупой рыцарь» по фамилии на Ку…, как Куролесов. И вообще участники политического театра по очереди и хором убеждали граждан поделиться с государством, хотя бы будущей пенсией.
Похоже, что в этой параллели сюжетов двух глав есть намек на некоторое успокоение не только возродившегося философско-публицистического сообщества (мастера), но и «полосатой» право-левой оппозиции (Бенгальского), а также озабоченных кознями иностранцев церковников (Босого). Но произойдет это, разумеется, чуть позже - уже после приема лекарства:
Ничего, ничего, ничего, шептал Коровьев, извиваясь возле мастера, ничего, ничего... Еще стаканчик, и я с вами за компанию.
И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете, и помог этот стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное выражение.
В свое время конец 15 стадии российской истории, он же «великий перелом», случился сразу после острой фазы Великой депрессии в САСШ. Внутри 19 стадии Реставрации тоже двойственная 15 стадия закончилась сразу после ноябрьских выборов 1992 года в США, когда наступила какая-то определенность на глобальном уровне. Так, и в этом году 15 стадия внутри завершающей четверти Надлома российской истории это стадия неопределенности, куда качнется политика в США. И завершение этого периода тоже наступит после политических итогов судьбоносных ноябрьских выборов в США - кто там кого, глобалисты Трампа или наоборот.
Можно заметить, что успокоение право-левой «полосатой» оппозиционной компании (ЛДПР+КПРФ) уже происходит по итогам сентябрьской выборной кампании. Причем роль в этом успокоении политических администраторов из Кремля, олицетворяемых Коровьевым, многими недооценивается. Впрочем, на патриотических публицистов и политических философов итоги этой выборной кампании тоже повлияли успокаивающе. В конце концов, нынешние мастера политической культуры переживали вовсе не за проигрыш единороссов, а было за державу обидно. Но если политическая администрация шепотом подмигивает: «и я с вами за компанию», тогда все в порядке.
Иносказательный стаканчик нами тоже не раз был опознан. Вообще в 24 главе слова: стакан (лафитный), стопка, рукопись проходят главным рефреном. Так что стаканчик это электронная рукопись, небольшая по сравнению с предыдущими. Причем рукопись философская (в лунном свете). Параллельное участие политического администратора Коровьева указывает на некое политико-философское эссе, каким-то образом успокоившее компанию политических наблюдателей и публицистов. Надо бы их будет спросить: встречались им такие тексты? Или может, до конца 15 стадии еще будут?
Нужно, конечно, признать, что параллель с успокоением право-левой оппозиции на рубеже 1920-30 годов не так чтобы успокаивает. Хотя подход власти к мастерам культуры был, скорее, подкупающим все блага, тиражи, награды в обмен на лояльность. Впрочем, повторение сюжета в четвертой четверти Надлома будет фарсовым, в виде активного обсуждения страхов, слухов о неминуемых репрессиях, но без них самих. Хотя от показательных процессов с условными наказаниями никто не застрахован. Все-таки время опять, если не предвоенное, то старательно таковым изображаемое силами всех державных властителей в том числе для скорейшего успокоения оппозиции.
Вышеприведенная концовка 15 главы, на которую намекает вопрос о лекарстве, может намекать также и на известную формулу «сон разума». Если философию (мастера) и молодую гуманитарную науку (Ивана), как и оппозицию, и церковь как-то усыпить, убаюкать, то далее – на рубеже 16 стадии события происходят «как во сне», под влиянием иррациональных бессознательных мотивов и внешних сил. Во всяком случае, 1930-е годы в России на поверхности политики выглядели весьма иррационально. При их фарсовом повторении в скором будущем речь пойдет скорее о таких же иррациональных спорах, суждениях по поводу истории и текущей политики. Все же в 24 главе мастер не уснет, как русская философия в 1930-е годы, а только успокоится.
Кстати, после проявления итогов американских выборов, примерно тогда же завершится и последняя знаковая выборная кампания у нас в Приморье. Если провести параллель с завершением 15 стадии внутри процесса Реставрации (учреждения РФ), то это будет своего рода аналог «суда над КПСС», в данном случае – определение судьбы «ЕР». Примерно с тем же двойственным результатом – в пользу региональных элит, но с учетом пожеланий федерального центра.
Он заснул, и последнее, что он слышал наяву, было предрассветное щебетание птиц в лесу. Но они вскоре умолкли, и ему стало сниться, что солнце уже снижалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением...
Насчет двойного оцепления русской Голгофы в 1930-е годы спорить трудно. Внутреннее кольцо оцепления – придворная кентурия, личная гвардия ставленника глобалистов товарища Сталина. Внешнее кольцо оцепления фашистские режимы Европы и Азии. Нынешнее повторение двойного кордона хотя и фарсовое, на холодном уровне информационной войны, но тоже изрядно русофобское. Возможно даже, генерал Крысобой из этого окружения самый симпатичный и симпатизирующий, но выполнит любой приказ в защиту своего круга.
34. Политические опусы в лунном свете
Еще раз признаем, что полностью расшифровать пророчества во всех смыслах нельзя до момента, когда события свершатся. Возможно, что в философском слое смыслов слова «стаканчик» и «в лунном свете» должны быть истолкованы как философское эссе. Однако в слое политических смыслов эти же символы толкуются ближе к буквальному.
Поскольку стакан это посуда, то стаканчик - вполне может намекать на такое же слово с пренебрежительным суффиксом: посудина. Тогда следующий пассаж подходит в том числе и для описания недавнего ночного происшествия в Керченском проливе:
И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете, и помог этот стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное выражение.
И в самом деле, очередное искусственное обострение на юго-западном фронте информационной войны вернуло нашу патриотическую публицистику, в том числе качественную, мастерскую на уже привычное место в информационных окопах. Кто-то получит гранты на «патриотический рэп», например, а кто-то руководящую должность в престижном учреждении культуры. После летне-осеннего периода тоски и тревожных подозрений в сдаче позиций Западу сверкнувший в информполе стаканчик, и еще стаканчик, две мелких посудины под жовто-блакитным военным флагом вернули всех на место. Общая политическая диспозиция опять стала ясной для всех.
- Ну, теперь все ясно, сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи.
Тут опять есть разночтения в толковании: Стакан это иносказательно электронная рукопись за стеклом экрана. В то же время судно, посудина на библейском символическом языке означает «учение», «теория», тоже синоним рукописи. С другой стороны, учение – это не только организованная система из слов, но и синоним церкви, экклесии. Поэтому экземпляр как синоним рукописи и символ экклесии – продолжает и закольцовывает эту изящную булгаковскую игру в иносказательные синонимы. При этом все доступные с помощью такой игры иносказательные смыслы верны.
Чтобы понять смысл отношения Творческого духа Истории к данной рукописи, посмотрим на нее сквозь пальцы. Какой из них можно назвать длинным? Наверное, все же – средний палец. А теперь постучим средним пальцем ну хотя бы по столу. Какую эмоцию мы тем самым воспроизводим или генерируем? Похоже, что побуждающую и слегка пренебрежительную к пассивному предмету. В отличие, например, от стука указательным пальцем, призванного привлечь чье-то внимание к объекту. Хотя указательный палец тоже длинный, так что могут быть верны оба смысла.
Если слово рукопись используется как иносказание и синоним экземпляра, то речь в этой притче идет об одной из экклесий, церквей, побуждаемой самим ходом истории к политической в данном контексте активности. Что есть, то есть особенно в Киеве, где разных экземпляров православных церквей набралось уже четыре, и назревает пятый. Однако принципиальная упертая пассивность канонической церкви пока спасает.
Совершенно ясно, подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией, теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь.
Причем здесь кот, то есть аватар нуворишей, олигархии? Очень даже понятно, что все провокации киевской власти направляются общим интересом финансовой олигархии, местного мелкого филиала (клиентелы) англо-саксонской финансовой элиты. Наверное, поэтому и кот здесь с маленькой буквы, а не московский Бегемот.
Со стороны киевского кота теперь тоже стала все совершенно ясно. Хотя и этот властный дух наживы, и его западные патроны – большие коты вроде британского Льва ранее обещали быть молчаливыми, то есть сделать паузу в информационной войне. Такая пауза действительно была этим летом на период футбольного чемпионата и пенсионной реформы. Тем не менее, удержание власти, хотя бы в Киеве становится более важным делом, чем ранее данные обещания. Тем более что обоюдная ясность противостояния ведет к успокоению патриотической общественности и там, и здесь.
Кстати, именно этот отрывок: «теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь» дает возможность убедиться, что буквально ни одно слово в булгаковском Романе не сказано без скрытого смысла. Казалось бы, слово опус как саркастический в данном контексте синоним пьесы – вообще больше нигде не повторяется, ни в Романе, ни в других источниках как «Фауст», не говоря уже о книгах Библии. Однако в контексте новейшей российской политики это слово ОПУС имеет вполне конкретный смысл. Это не только аббревиатура «особого порядка управления страной», но и символ неудавшейся попытки политического переворота, как в марте 1993 года с указом Ельцина. Однако ровно такую же неудачную на данном этапе попытку ОПУСа мы наблюдали в Киеве сразу после провокации в Керченском проливе. Да, и в церковном контексте «объединительный собор» является таким же опусом, безуспешной попыткой переворота со стороны Фанара. Это если не считать провоцирование на попытку «опуса» ставленника финансовой олигархии в Париже.
Однако, может быть, мы домысливаем за Автора? А он знать ничего не знал и не ведал за шесть десятилетий до событий о новейшем значении этого слова опус? Если бы не главная линия этого опуса. Слово линия, в отличие от опуса, в Романе встречается еще один раз, в 10 главе «Вести из Ялты»:
Но разговор с Ялтой не состоялся. Римский положил трубку и сказал:
– Как назло, линия испортилась.
Между прочим, в отношении этого эпизода давно уже нет сомнений. Не только в «MMIX», но и в одном из трех источников и первых толкований от 1994 года, найдено более чем достаточно параллелей этой главы с неудачной попыткой переворота ГКЧП в августе 1991 года. Тогда тоже лидер партноменклатуры (аватар Степы Лиходеева) вдруг внезапно оказался в Ялте с отрезанными линиями связи. Так что и слово линия тоже почти прямо указывает на попытку переворота, как и слово ОПУС. Так что остается лишь понять, только ли к Киеву относится эта попытка или к Москве тоже?
Впрочем, если быть совсем точным, то слово «линии» в ином падеже встречается еще и в конце 3 главы, когда по новопроложенной линии к Берлиозу подкатила его смерть в комсомольском платочке. Политический контекст толкования этого эпизода Романа относится к рубежу 1930-х, когда таких попыток переворота было не одна, и жертвами становились не только светила гуманитарной науки и гуманистической литературы.
Применительно к главной линии этого опуса, важно, что кот нарочно дразнит, вызывает на ответные действия политическое сословие чекистов в лице Азазелло:
Что ты говоришь, Азазелло? обратился он к молчащему Азазелло.
Я говорю, прогнусил тот, что тебя хорошо было бы утопить.
И в самом деле, пограничным кораблям российского ФСБ пришлось сдерживать свои эмоции и желание утопить украинские посудины, именно для этого и посланные олигархическим режимом в Киеве. Можно еще добавить, что и в нынешнем случае, как и в главе про Ялту, главная линия между Киевом и Москвой была отрезана. Финдиректор киевского филиала политического варьете зря поднимал трубку.
– Будь милосерден, Азазелло, ответил ему кот, и не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь мне, что всякую ночь я являлся бы тебе в таком же лунном одеянии, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, о Азазелло?
Политический смысл этой угрозы московским чекистам со стороны киевской олигархии и от имени ее закулисного повелителя вполне понятен: типа давайте договариваться о сохранении статус-кво, а то ночные провокации будут продолжены. С обязательным обвинением во всем путинских чекистов.
Впрочем, наверняка кроме политического слоя смыслов у этих слов о лунном одеянии мастера есть и другой, философский смысл. Собственно, одеяние, одежда это и есть иносказательно духовное знание, а лунное одеяние – его философский, светский вариант. Так что угроза со стороны олигархии заключается еще и в заполнении информационного поля такой же публицистикой, но направленной против чекистов.
Намек: и кивал бы тебе отсылает к единственному эпизоду в 13 главе, где мастер кивал Ивану от муки своих воспоминаний. Применительно к Азазелло, то есть чекистам – это похоже на угрозу опубликования лондонскими повелителями киевских и не только олигархов неких исторических архивов или мемуаров. Нужно заметить, что раскрытие секретных архивов на Западе имеет место регулярно, а фальсифицировать архивные материалы тоже не проблема для их хранителей, если есть на то политический заказ.
35. Ночь перед Рождеством
Пока после успокоения философичного мастера культурная общественность ожидает прямого обращения к ней Творческого духа истории (обычно такой диалог связан с Рождеством или другим большим праздником), воспользуемся паузой и приникнем ко второму первоисточнику, пусть и не столь глубокому. Все-таки новогодние каникулы – время подведения итогов, а для Америки как прообраза азимовской «первой Академии» как раз и настало такое время. Великая эпоха уходит теперь уже бесповоротно и для всех очевидно. Этому поворотному моменту соответствует, похоже, финал второй книги Трилогии. Само название второй книги «Академия и Империя» намекает на биполярный миропорядок, в финале которого первая Академия даже во главе с Мулом не смогла утвердиться как новая однополярная империя.
Позволим себе небольшую ретроспекцию обстоятельств этой почти уже победы, обернувшейся не то чтобы поражением, но состоянием неопределенности, переходным периодом и необходимостью снова подтверждать свой статус, «сделать Академию снова великой». Прежде всего, концовка второй книги описывает глубокий раскол в элитах Академии, когда «демократы» ожесточенно сопротивляются Мулу в каждом штате и каждом сателлите почти уже созданного глобального однополярья. При этом череда поражений «демократов» ввергает их во все более громкое уныние и публичную депрессию. Так и манифестируют на улицах и в масс-медиа: «Все пропало, проклятый Мул избран править из-за вмешательства Второй Академии».
Азимовская «эпоха войн Мула» вполне может быть переведена с американского английского как «период гибридных войн». И такое истолкование для финала уходящего однополярья попадает в десятку. Кроме того, еще раз напомним, что Мул как надличный аватар сообщества – это межпартийный политический гибрид «слона» и «осла». Он получил невиданную третейскую власть контролера в ходе разборок между двумя американскими партиями и двумя крыльями англосаксонской финансово-торговой элиты. Однако, именно по этой причине Мул не хочет, да и не может уничтожить оппонентов, которые одновременно помимо свое воли выступают подручными. Иначе некого и не через кого будет контролировать.
В этом смысле, да, Мул – импотент. Финансовый контроль может питаться только энергией непримиримого противостояния элит, и за счет этой энергии ставить их же под контроль жестких ограничений против волевых рыночных решений. Иначе вся эфемерная квазиимперия Мула развалится вместе с его уходом со сцены. Экспансия его могущества был возможна только через экспансию отчасти подконтрольных ему наднациональной бюрократии (Торан) и специфической американской цифровой культуры (Байта). Как только эта экспансия достигла пределов и не достигла своих целей, дальнейшая судьба Мула (как и финконтроля) удержание контроля и поддержание статус-кво в подчиненной ему части мира. Но и для этого лучше находиться в тени, выпуская на публичную арену подконтрольных вице-королей. При этом только сам Мул имеет право иногда вбрасывать в контролируемое информполе истинную правду, на этом его могущество теневого «правящего шута» и основано.
Отметим еще один момент: несмотря на всю публичную риторику, в кулуарах Байта угрожает Мулу могуществом Второй Академии. Как это похоже на стратегию американских демократов: столкнуть две сверхдержавы, чтобы вторая поддержала их ставленников в других «мирах» против растущего влияния финконтроля. Только вот Вторая Академия, несмотря на слухи о ее могуществе, никак себя не проявляет и не торопится на помощь ни одной из трех голов глобальной финансовой олигархии.
Важен и тот момент, что победивший у себя в первой Академии Мул не имеет больше опоры в интеллектуальном сообществе. Цифровая культура толерантности уже успела убить мыслящую часть университетской элиты, которая была единственной ниточкой возможного выхода и влияния на интеллектуальную элиту Второй Академии. Так что единственной политической опорой Мула остается спецслужбист Притчер, тоже финансово и медийно подконтрольный, но не испытывающий особой любви к боссу.
Пожалуй, что все даже мелкие детали последней главы второй книги Трилогии имеют соответствие в недавних перипетиях американской политики. Например, Мул вспоминает, что допустил оплошность во время общего пребывания троицы на Неотренторе. Собственно, из-за этого он и был разоблачен Байтой, то есть цифровым «культурным» сообществом Америки. И в самом деле, такое громкое разоблачение имело место два года назад, а буквально на днях завершилось судебным приговором Полу Манафорту. То есть и до этого «демократы» могли догадываться, что третья сила финансовой спецслужбы еще при Обаме поставила во главе Украины (Новороссии) бывшего начальника автохозяйства при крупнейшем олигархе Януковича (Инчни). Но когда тот же самый политтехнолог возглавил штаб Трампа, ставленника и «рыжей маски» теневого Мула, сомнения превратились в уверенность.
Есть в концовке главы и сетование Мула на излишнюю откровенность спецслужб, по старой памяти сливающих информацию подконтрольным оппонентам Мула. Что есть, то есть в реальной Америке. Однако, самым финальным аккордом стали рассуждения о невозможности для Мула создать династию. Да, он и сам не скрывает, что мечтал бы породниться с цифровой Байтой, чтобы гарантировать экспансию в мире и продлить навечно ситуацию тотального финансового контроля. Однако, в реальной жизни, а не в теории цифровой контроль обходится или просто не работает, если и когда противоречит интересам не только элиты, но и общества в целом. До какой-то степени работает, ну так и Байта остается при Муле, насколько можно понять, но не вечно и не тотально.
Пожалуй, эта финальная часть толкования и есть самое важное пророчество, в главном похожим на всем известное:
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.» /Откр 13, 16-17/.
Значит, и пророческая притча Азимова подтверждает бесплодность такого рода попыток, хотя сегодня у каждого на руке или на челе действительно есть телефонный «номер», к которому уже привязаны цифровые платежи. Похоже на тот самый темный период подобный зимнему солнцестоянию, после которого происходит поворот к свету, пусть и не спеша. Причем поворот обозначен во всех трех книгах.
36. О чем речь шепотом?
Творческая способность великого драматурга упаковать в короткие фразы самый емкий контекст, да еще и с указанием на время давно не удивляет, но продолжает восхищать. Хотя невозможно угадать заранее, чем в реальности обернется каждая пророческая фраза. Например, вот этот диалог:
– Ну, Маргарита, опять вступил в разговор Воланд, говорите же все, что вам нужно?
Глаза Маргариты вспыхнули, и она умоляюще обратилась к Воланду:
– Позвольте мне с ним пошептаться?
Мы уже знаем, что прямой диалог людей, в том числе составляющих столичное культурное сообщество (аватар Маргариты), с Творческим духом Истории приурочен к большим религиозным праздникам. Среди них есть один, содержанием которого является божественное послание, обращение к молодой женщине – Благовещение. По совпадению в нынешнем 2019 году этот праздник отмечается 7 апреля, практически одновременно с выборами в Израиле. Между тем относительно долгая пауза в мировой политике, когда Творческий дух Истории молчал, как раз и продлилась до этого момента три или четыре месяца после украинской провокации в Керченском проливе. И только в начале апреля творец истории опять вступил в разговор. То есть опять намек на некую паузу, долгое отсутствие значимых событий.
Какие еще события начала апреля заслужили внимание культурной публики? Для этого нужно понять глаза Маргариты. Ранее уже попадалось под горячую руку ухо Бегемота, в котором мы угадали деловые радиостанции, посредством которого деловое сообщество слышит. Аналогично культурное сообщество видит себя и других посредством телевизионных каналов. Что значит – глаза вспыхнули? То есть стали ярче, насыщеннее цветом.
Однако именно такое событие случилось в Москве в апреле, 15 числа, когда Останкинская башня перешла с аналогового телевещания на полностью цифровое. И в тот же день вспыхнул пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари, ярко отразившийся именно в глазах культурной публики. И таки в ответ на формально-вежливое предложение власти помочь в реставрации собора московская столичная общественность перечислила в соцсетях и в масс-медиа практически все культурные нужды, включая спасение культурного наследия в самой России. Впрочем, есть и второе, тоже верное толкование это сильно возросшие возможности культурной общественности говорить, все что нужно, на трех десятках цифровых каналов.
Ответная мольба творческой общественности означает другой великий праздник, когда артисты и художники обычно участвуют в общей молитве – на Пасху 28 апреля. Однако почему вдруг деятелям культуры потребовалось пошептаться с публицистическим сообществом, возрождающим отечественную философию?
Вообще-то шепот встречается в Романе достаточно часто, причем в главах о пребывании Ивана и мастера в клинике, или перед встречей Маргариты с Азазелло. В эпилоге, который служит своего рода справочником, как мы выяснили еще в «MMIX», это слово соседствует с закавыченным сочетанием, похожим на разъяснение: Шепот "нечистая сила..." И в самом деле, переход на шепот чаще всего сопутствует встречам и проявлениям нечистой силы и в тексте Романа, и в народных приметах.
В контексте культурных телевизионных программ чертовщина не замедлила себя ждать именно перед самой Пасхой, вызвав скандал вокруг итогов популярного детского телешоу. Так что многим лидерам культурной общественности пришлось через своих пресс-секретарей пошептаться с популярными публицистами и редакторами, в том числе просить освещать ситуацию без громких слов. В этом же контексте нужно толковать хорошо слышный ответ публицистов:
Воланд кивнул головой, и Маргарита, припав к уху мастера, что-то пошептала ему. Слышно было, как тот ответил ей:
Нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни. Кроме того, чтобы видеть тебя. Но тебе опять советую – оставь меня. Ты пропадешь со мной.
Поскольку непубличные переговоры затянулись, можно предположить то ли разгоревшийся скандал не так быстро могли потушить, то ли нечистая сила проявится еще раз. Так что потребуется достаточно громкая публицистика в пользу постсоветской культуры. Ухо мастера – в таком же контексте, как глаза Маргариты, может означать радиостанции публицистического жанра типа радио «Культура» или «Вести ФМ».
Когда творец истории в Романе кивает головой, это не значит, что своей – означает не знак согласия, а некое кадровое решение. С чьей-то высокопоставленной головой случится нисходящий наклон. Нежелание самой развитой и философски настроенной части образованной элиты видеть что-либо и кого-либо, кроме отборной культуры советского образца и качества, также очевидно и понятно. Однако действительно поздно этого желать при таком количестве разных теле- и радиоканалов, требующих коммерческого наполнения дешевым ширпотребом. Собственно, столкновение нормальной культуры и попсового шоу-бизнеса составляет суть актуального скандала.
Слова «опять советую» отсылают нас в конец 13 главы, где мастер рассказывает о прошлом расставании с Маргаритой. На какие дополнительные обстоятельства эта отсылка намекает? Может быть, на пожарную ситуацию, случившуюся на службе мужа духа материализма и по совместительству политического администратора во главе политтехнологов? Этого мы пока не знаем, так что придется немного подождать, когда случится нечто, похожее на события начала 1990-х или фронды конца 2011 года.
Однако полностью соглашусь со словами мастера о том, что полноценная культура полностью пропадет только вместе с национальной философией, либо выживет вместе с ней. Хотя и придется какое-то время ютиться вместе в полуподвале многоэтажного попсового мейнстрима.
37. Проблемы с головой
В прошлый раз перед майскими праздниками нам так и не удалось растолковать, что значит – Воланд кивнул головой. Попробуем, может перед ноябрьскими – получится. И до случившихся уже позже событий было понятно, что речь о чьей-то голове, которую ход истории наклонит. Да и само слово кивать немного выше по тексту употреблено Бегемотом в негативном контексте завуалированной угрозы в адрес Азазелло. А немного ниже речь пойдет о голове Маргариты. Так что Автор таким обрамлением из возможных подсказок подчеркивает важность истолкования этого жеста Творческого духа Истории.
Важен и тот факт, что это слово сразу в двух вариантах – голова и глава – есть в тексте Нового Завета. Вот, например, из послания апостола Павла:
Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава -- муж, а Христу глава -- Бог.
Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. /1Кор 11,3-5/
Не знаю, как в греческом оригинале, но в русском переводе заметна разница двух синонимов, взятых из церковнославянской и восточнославянской лексики. В первом случае подчеркивается духовный смысл, а во втором – мирской, душевный смысл. Поскольку наш Автор в этих лексических нюансах – большой специалист, то скорее всего и голова, которой кивнул Воланд, тоже не из духовного разряда.
С другой стороны, еще в «MMIX» при истолковании отрезанной головы Берлиоза мы пришли к выводу, что речь идет о пострадавшей в 1930-е годы наиболее значимой части светской гуманитарной науки и философии, включая ее политического лидера, бывшего первым главой Союза писателей. То есть голова применительно к некоему сообществу – это наиболее уважаемые или просто известные носители духа этого сообщества. Это вполне согласуется с вышеприведенным новозаветным иносказанием, где жена – это душа, а муж – это дух (сообщества или личности). При этом дух, олицетворяемый Берлиозом, был вполне светским, потому и голова, а не глава.
По этой же причине у не имеющего жены Воланда не может быть его головы, а только глава. Стало быть, Воланд кивнул головой не своею, а наклонил, резко снизил статус пребывающей на виду верхушки некоего сообщества или сообществ. Было ли что-нибудь похожее после майских праздников этого года? Возможно, нам поможет еще одна филологическая подсказка: в одной соседней стране глава государства на местном диалекте (или скорее официозном жаргоне) русского называется «голова державы». И как назло, а может и наоборот, в конце мая этот самый голова вчистую, унизительно проиграл президентские выборы.
При истолковании в «MMIX» мы находили подсказки не только в самом Романе и в двух Заветах, но и в других произведениях Булгакова, включая пьесы по гоголевским «Мертвым душам» или другой классике. Недавние литературоведческие открытия подсказывают, что драматург был соавтором не только великих предшественников, но и начинающих современников. В разошедшемся на цитаты романе о Великом комбинаторе тоже содержится такая подсказка, ставшая мемом: «Бриан – это голова… Бенеш – тоже голова.» Речь, как вы сами понимаете, о главах национальных государств.
Но одним лишь банальным проигрышем унижение головы не исчерпывается. Выиграл выборы и стал новым головой тоже известный, но не политик или олигарх, а комик, комедиант. Тем самым Творческий дух Истории принизил вообще статус головы не только этой конкретной «державы», но и всех коллег, признавших шута на троне равным себе. Сам имиджево токсичный персонаж, подталкиваемый выдвинувшей его глобалистской «закулисой» всячески стремится к тесному общению с президентами и премьерами. Некоторым удается отбояриться от этой перспективы встать на один уровень с шутом, а кому-то как Трампу приходится пытаться публично унизить, вытереть ноги об «коллегу», только чтобы дистанцироваться. И то особо не получается.
Впрочем, как это всегда и бывает, наиболее наглядный пример резкого снижения статуса национальной бюрократии и ее лидеров – отражает более масштабный тренд в глобальном масштабе. Эта тенденция не в этом году возникла, а напрямую вытекает из попыток наднациональной глобалистской олигархии если не разрушить, то резко снизить влияние национальных государств и элит. То факт, что в целом эта стратегия не сыграла, не отменяет ее успеха именно в тех слабых государствах, где элиты добровольно легли под протекторат той или иной ветви теперь уже расколотых глобалистов. Кстати, этот тренд имеет место и на евразийском пространстве. Например, новый формальный глава государства в Казахстане – фигура тоже, скорее, декоративная, а влиянием обладает прежний национальный лидер и его семейный клан, опирающиеся не только на свою бюрократию, но и на наднациональные институты, совместные с Россией.
Пожалуй, с нарастающими проблемами головы или даже множества голов самых разных государств – мы не то что разобрались, но определились. Поэтому можно пойти далее после уже истолкованного призыва мастера оставить его. Кстати, тоже один из примеров неоднозначного прочтения – оставить как бросить, и ровно наоборот.
– Нет, не оставлю, – ответила Маргарита и обратилась к Воланду: – Прошу вас опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было.
Эмоционально привязанный к обоим заглавным героям читатель воспринимает эту просьбу однозначно, как проявление любви и желания уединиться с мастером. Однако, при истолковании как отношений сообществ, а не личностей – все выглядит тоже однозначно, но совсем не так. Потому как, если все (!) стало, как было – то и прежние отношения жены с мужем тоже, не только с любовником. А кто у нас муж? Это мы тоже давно выяснили, что дух политической администрации Коровьев и есть тот самый глава для жены, олицетворяющей столичную культурную общественность. То есть ту самую амбициозную культурную среду, которая жить не может без философски настроенных глубоких творцов, всячески подталкивая их к творчеству. Но при этом, в отличие от самих творцов, успевает быть послушной, выглядеть любящей и получать подарки от власть предержащих.
И в самом деле, разве плохо было тому же Ильфу с Петровым как типичным представителям советской творческой среды получать похвалы, премии, съездить за границу вместо своего полуподпольного соавтора – настоящего мастера? Вот и сегодня творческая общественность была бы вовсе не против вернуться в такое же двойственное положение – с одной стороны, получать гонорары, награды, звания, депутатские статусы и прочие подарки от власти. А с другой – в своем кругу числиться сопричастными глубоким философским мыслям и соавторам. Да, вот вам и наглядный пример такого булгаковского соавтора, откровенно подмахнувшего политическим администраторам в обмен на будущие гонорары – товарищ Бортко, только что успешно поучаствовавший спойлером оппозиции и снявшийся с губернаторских выборов в Питере.
Тут мастер засмеялся и, обхватив давно развившуюся кудрявую голову Маргариты, сказал: – Ах, не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже давно живет другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало, как было. – Он приложил щеку к голове своей подруги, обнял Маргариту и стал бормотать: – Бедная, бедная...
Вот, кстати, еще один пример возможности двойного истолкования самого простого слова – развившаяся. Во внешнем слое любовного романа слово читается как потеря кудряшек с возрастом, и не более того. Но во втором слое истолкования как сюжета социального развития – это и будет первым смыслом слова. То есть голова нашего культурного сообщества, ее всем известная и влиятельная верхушка сформировалась давно, еще при советской власти – как раз по итогам той самой сталинской эпохи, куда так хочется вернуться значительной части культурной общественности. При этом эпитет кудрявый тоже сохраняется, но становится социально-демографической характеристикой советской культуры как сферы с заметным преобладанием советских евреев. Раз уж из политики и многих сфер государственного управления по итогам сталинской эпохи их вытеснили.
И снова совпадение – этой осенью одним из самых громких и освещаемых чуть ли не в прямом эфире событий стали похороны режиссера Марка Захарова, как раз и олицетворявшего двойственную русско-еврейскую природу головы постсоветской культуры. Пожалуй, после ухода Кобзона Захаров оставался последним из этой влиятельной когорты. Конечно, остались еще несколько старых артистов и музыкантов, но влиятельных – носителей духа позднесоветской культуры, уже нет. Кто-то назовет Швыдкого – но он точно не властитель дум, а как раз подручный политических администраторов. А кроме того, есть такой важный фактор, как переориентация еврейской культурной общественности на поддержку своих киевских родственников. Макаревич, например, перестал быть влиятельным поэтому. Так что есть прямая связь истолкования развившейся ныне в первом смысле бывшей кудрявой головы российской культуры с проблемами головы соседней державы.
Тем не менее, мастер не отталкивает, а сочувствует, обхватывает и прижимает к щеке кудрявую голову Маргариты, пусть уже и не настолько. Ценность советского культурного наследства и вклад советских евреев в него подтверждается, в том числе и благодарным отношением новой российской публицистики к таким фигурам как Кобзон или Захаров. Одних только писем товарища Сухова достаточно, чтобы простить все либеральные грехи, впрочем – общие для всей культурной общественности независимо от этнических корней. Так что и сожаление мастера – «бедная, бедная…» относится не только к постигшей культурную общественность утрате, но и к уровню финансирования нынешней российской культуры.
Однако сами понимаете, если попытаться вернуться к тому же уровню внимания к культуре и ее финансированию, как при Сталине, неизбежно возникает вопрос не только о финансовом, но и об идеологическом контроле. Поэтому возвращение Алоизия в следующих строках Романа вполне обоснованно просьбой самой Маргариты. Только нынче он перекрасился с помощью купороса и белил из красного идеологического работника в бело-сине-красные патриотические цвета.
38. Последний козырь
Исторический сюжет даже в глобальных узлах развертывается относительно неспешно, в отличие от сюжета Романа. Даже за время актуального истолкования одной лишь 24 главы многие читатели успели запамятовать, с чего все началось, а другие только присоединились. Поэтому будет нелишним еще раз напомнить, почему мы следим за параллельными сюжетами и считаем пророческими не только булгаковский Роман, но и азимовскую Трилогию.
Скажу больше – не только эти две, но все по-настоящему великие книги, пьесы, фильмы, если люди их перечитывают или смотрят из поколения в поколение – обязательно содержат в себе скрытую притчу об отношениях надличных ипостасей нашей с вами психики. Я уже приводил пример с «Войной и миром», где Болконский является «аватаром» военной аристократии, исчерпавшей себя в войнах первой половины 19 века, масон Безухов олицетворяет сменившую его дворянскую бюрократию. Наташа – аватар дворянской Москвы (младшая сестра Ростова), как и Элен – душа холодного столичного Петербурга. При желании можно найти соответствие всем главным персонажам и сюжетным поворотам, как сильный жар, спасшего захваченную бурными страстями Москву-Наташу из рук авантюриста и от позора.
При желании можно было бы заполнить журнал ежедневными толкованиями самых популярных книг и фильмов. Однако, вряд ли такое развлечение вызовет большее доверие или серьезное отношение. Впрочем, было дело, в комментариях к одной из записей мы с одним из друзей достаточно подробно интерпретировали комедию «Бриллиантовая рука» как притчу о приключениях постсоветской бюрократии, прежде всего одесско-киевской, но не только. Можно было бы еще обсудить фильм о бурном и кратком, но не слишком трезвом романе московской интеллигенции с польско-прибалтийскими элитами, отказавшими в любви советской номенклатуре, по-своему симпатичной и честной, но слишком ревнивой.
Почему мы радуемся и смеемся таким притчам, где в общем-то происходят нешуточные события? Потому что в глубинах нашей психики надличные архетипы постоянно разыгрывают эти сюжеты, шлифуя тем самым план действий, которому бессознательно следуют большие сообщества, целые народы. Совпадение внешних образов книги или фильма с глубинными образами является тем ключом, который открывает глубинные запасы психической энергии. А сам выход популярной книги или фильма становится триггером, переводящим уже созревший в глубинах психики План в режим исполнения «пророчества».
Вряд ли кто-то станет отрицать, что движение советского общества к разрядке, перестройке и постсоветским приключениям началось именно в конце 1960-х, когда на экраны вышел целый ряд шедевров, предвосхитивших сюжетные повороты истории. Чуть раньше вышел в свет булгаковский Роман, повлиявший на все творческое сообщество и на все художественные сюжеты. Так что, когда в начале 1990-х в Москве и в стране начала твориться откровенная чертовщина, не только у меня возникли ассоциации с проделками свиты Воланда.
Первые совпадения удалось выстроить в некую систему еще в 1994 году в виде статьи, но только в 2009 году вся сюжетная линия этого опуса смогла выстроиться в непрерывную линию «зашифрованных» исторических событий от переломного 1929 года до наших дней и далее. Можно, конечно, отмахнуться от этой интерпретации в эссе-романе «MMIX – Год Быка», но только при одном условии – если кто-нибудь еще сможет найти другую такую же непрерывную цепочку событий и устойчивые правила истолкования хотя бы для одной главы Романа. Я уже не говорю о пройденных 24 главах, каждое слово и каждый поворот сюжета в которых имеют расшифрованные аналогии в реальной политической и культурной истории.
Если масштабный пророческий роман нашелся для российской истории, тогда таковые книги или пьесы должны быть и для других наций соответственно их масштабу и роли. Например, для нынешней Беларуси таким архетипическим рассказом является «Олеся» Куприна, известная всему миру как «Колдунья». Про «Свадьбу в Малиновке» для Украины тоже всем понятно. Хотя это лишь часть калейдоскопичного комедийного сборника для такой же державы. Для Британии таким же сборником архетипических сюжетов наверняка являются «Рассказы о Шерлоке Холмсе». Про злосчастную судьбу милой Гретхен, олицетворяющей соблазненную прогрессом Германию, тоже все знают. Сложнее найти среди обилия французских романистов и романов автора и вещь, или может быть тоже трилогию исторических романов – масштабнее других. Разве что Дюма?
Для всех этих примеров художественных пророчеств важен один признак. Роман или пьеса должны быть хорошо известны у соседей и в мире, иногда даже популярнее, чем дома, как тот же «Солярис» Лема. Впрочем, этот роман не только о регулярно умирающей и воскресающей Польше, а обо всей восточно-европейской «станции» на краю евразийского «Океана». Наконец, для Соединенных Штатов с их футуристическими имперскими амбициями – кроме Трилогии Айзека Азимова про «Основание» (Академию) ничего другого и быть не может в этом качестве романа-притчи. Нет более масштабной и пророческой вещи, только нужно уметь ее правильно прочесть. Например, путешествия по «галактике» с помощью «гиперскачков», которые Азимов интуитивно подглядел в глубинном Плане на третье тысячелетие – это всего лишь Интернет-пространство с его гиперссылками и информационными войнами.
Однако даже если до сих пор мы находили в американской истории все роли, сюжеты и повороты первых двух книг Трилогии, мы все равно должны каждый раз все доказывать заново при наступлении эпохальных событий. Таких как полное поражение демократов в информационно-юридической войне против Трампа и одновременный эпический провал «ослов» на старте предвыборной кампании. Есть ли что-то похожее в Трилогии? Мы в нашем анализе, как обычно, немного забежали вперед и уже этот эпизод пытались разъяснить в контексте общего тренда, но не конкретных исторических событий.
В самом конце второй книги аватар американских спецслужбистов капитан Притчер, тоже бывший «демократ», откровенно рассказывает Байте и Торану (аватарам цифровых масс-медиа и наднациональной бюрократии), как и почему игра проиграна. В книге главной причиной названо тотальное проникновение «спецслужбистов» не просто в ряды «демократов», а в их штабы. Однако при этом не ставится под вопрос прежняя искренность симпатий капитана Притчера к «демократам».
Фантастической (для демократов) причиной психологической переориентации спецслужбистов оказывается депрессивная пропаганда Мула, то есть национально ориентированной части истеблишмента, ядром которой всегда являются спецслужбы. Между тем Мул – это и есть аватар политической верхушки тех самых спецслужбистов и связанного с ними национально ориентированного капитала (и торгового, и промышленного – поэтому Mule, гибрид), не готового жертвовать страной и народом ради глобальных амбиций «демократов». Между тем, пессимистическая пропаганда Мула закончилась вместе со второй книгой, и в третьей книге обработка населения идет, скорее, в духе полной уверенности, как в нынешнем послании Трампа.
Что характерно, игру против «чудовища», захватившего власть в Академии (то есть в США), «демократы» вынуждены были вести в соседних аграрных «мирах» и на самом Тренторе – центре разрушенной стальной империи (в которой угадывается СССР). Это соответствует повышенной активности «демократов» США в Восточной Европе и в самой России до недавнего времени. Здесь их весьма гостеприимно привечали системные либералы во власти. Однако сами «демократы» не очень-то надеялись на лояльность здешних чиновников, а делали ставку на работу в университетах и библиотеках, причем психологическую работу. Не будем утверждать, что именно эта часть их работы здесь была такой уж провальной. Семена недоверия к национальному государству посеяны и отчасти взошли.
Однако, «демократы-глобалисты» проиграли национал-глобалистам в самих США. Единственное, что может их утешить, это невозможность для национал-глобалистов, этого политического гибрида из части «слонов» и части «ослов» вести дальнейшую экспансию в мире. И это тоже соответствует нынешнему повороту сюжета в глобальной политике. Сам Трамп и не скрывает в своем победном послании конгрессу, что его цель – вывести войска с Ближнего Востока, переложить затраты на поддержание глобальной стабильности на партнеров (союзниками или противниками их назвать уже нельзя). При этом возгонка оборонного бюджета при свертывании активности за рубежом имеет цель поддержания экономической стабильности, занятости. Это также полностью совпадает с политикой Мула на рубеже второй и третьей книг Трилогии.
Таким образом нынешний исторический момент точно соответствует рубежу второй и третьей книги Трилогии. Мул на этом рубеже преображается, расправляет плечи, но все равно предпочитает руководить политическим процессом скрытно, через своих ставленников во власти. Таких как Трамп, а до него мулат Обама. На этом можно было бы завершить анализ второй книги Трилогии, и подождать, пока не начнет сбываться третья. Однако в небольшой зазор между ними вполне вписывается небольшой и вроде бы юмористический рассказ Азимова «Последний козырь» – The Last Trump.
По нынешним временам можно и «Последний Трамп» перевести, тем более что сам Трамп так себя и подает, как президента США до скончания времен. Вот только сколько времени остается до последних времен, никто не знает. Хотя толстый намек имеет место. Причем Трамп делает этот намек вполне расчётливо перед выборами, чтобы сплотить и активизировать свой ядерный электорат – американских евангелистов, а если удастся – то и американских католиков тоже.
Азимовский «Последний козырь» - это рассказ именно о «конце света», в названии которого обыгрывается апокалиптический «the last trump» (труба Божья) из посланий апостола Павла: 1 Коринфянам и 1 Фессалоникийцам. И в этом свете позиционирование Трампа как «президента навсегда» имеет вполне прозрачный намек на ожидаемую его самыми верными сторонниками финальную битву добра и зла. Кстати, этот религиозный фактор наверняка сыграл свою роль и на последних выборах в пользу Трампа.
Сам рассказ является, скорее, философской юмореской, призванной намекнуть, что буквальное прочтение библейских пророчеств – не очень-то годится, особенно для деловых американцев. Поэтому героям рассказа приходится с помощью адвокатов и юридических крючков начавшееся светопреставление отменять.
Впрочем, у того же Азимова есть в первой книге Трилогии и другая очень известная цитата, ставшая крылатым выражением:
- Violence is the last trump card of Amateurs.
(Насилие – последний козырь дилетантов.)
Трамп (который навсегда, то есть последний) в своем последнем послании через абзац пинает «демократов» как неудачников и дилетантов в политике, в отличие от него самого – удачливого профессионала. Поэтому у всех нас есть надежда, что эта последняя цитата из Азимова прошита у Трампа на подкорке с того самого времени 70 лет назад, когда популярность Азимова и его крылатых слов были на самом пике в США.
39. Расплата за услуги
Нынешняя виртуальная «пандемия» нестрашного сезонного вируса и реально смертельная для многих старых и слабых искусственная паника, призванная отвлечь внимание от беспрецедентного падения финансовых рынков – весьма важные события, меняющие весь геополитический ландшафт и даже культурные привычки народов. Разумеется, на русский народ с его бескрайним фатализмом эти глобальные веяния повлияют мало. Но вот столичную бюрократию и общественность, так же фатально ориентированную на Запад, новые «восточные ветры» не могли не затронуть глубоко. Поэтому так или иначе, но переживания статусных москвичей обязаны отразиться в булгаковском Романе. Или иначе непрерывная цепочка пророчеств прервется на самом интересном месте. Только лишний раз напомню читателю, что сюжет скрытого слоя, как и смысл тех же самых слов, может быть ровно противоположен смыслам блестящей внешней обертки «романа про любовь».
В прошлый раз мы оставили героев романа в момент, когда Маргарита попросила Воланда, «чтобы стало, как было». Для скрытого сюжета притчи это означает желание культурной общественности вернуться в ситуацию конца 1920 – начала 30 годов, еще до изоляции мастера, олицетворяющего прежнее философское сообщество (Лосев, Флоренский, Кондратьев, сам Булгаков, да и его куратор Бартини тоже). Наверное, в силу этого печального для отечественной философии опыта, мастер просит не слушать подругу: «и вообще не бывает так, чтобы все стало, как было.»
– Не бывает, вы говорите? – сказал Воланд. – Это верно. Но мы попробуем. – И он сказал: – Азазелло!
Вот тут все логично. Во-первых, и в прошлый раз культурную общественность курировали органы ОГПУ, тот же Бартини хотя бы. Во-вторых, «все стало, как было» не только в смысле временной чрезвычайной ситуации внутри страны, но и внешний геополитический контекст определяется повторением на новом витке «Великой депрессии». Хотя и с учетом лидерами глобальных элит предыдущего опыта и социальных последствий. На этот раз именно виртуальная «пандемия» и строгий карантин призваны сделать падение финансовых рынков управляемым, максимально растянутым на год, а социальные последствия финансового краха замаскировать, микшировать и отвязать от политической ответственности банкстеров и политиков.
Однако вот такое максимальное смягчение и растягивание периода падения означает, что и внешние, и внутренние политические циклы еще только движутся к повторению рубежа 1920-30 х годов. Внутри страны 1920-е «нэповские» годы были периодом постепенного снижения влияния тогдашних глобалистов троцкистского толка, расколом троцкистов на «правильных» во главе с Дзержинским и неправильных. Так и нынче «гегелевское» повторение 1920-х началось с отстранения левых глобалистов, но с опорой на ослабленных внешнеполитическими поражениями «правых глобалистов», вынужденных искать опору внутри страны.
На знаковом уровне это самое «стало, как было» проявилось, в частности, в фарсовой войне с памятником Жукову на Манежной площади. Попытки докопаться, кто и зачем, без всякого правового оформления, не говоря уже об обосновании, сменил маршалу коня и табличку, ни к чему, естественно, не привели. Однако, сложно представить себе ночную спецоперацию рядом с Кремлем без одобрения известных служб. Так что аватар чекистов Азазелло был призван «помочь» культурной общественности не случайно. Хотя этот знаковый эпизод рассосется вместе с относительно недолгой чрезвычайщиной, чтобы позже опять волнами сгуститься и оформиться в тренд в конце переходного периода.
Однако кроме культурной общественности, жаждущей вернуться под опеку Азазелло, нынешний кризис затронул еще один влиятельный слой идеологической обслуги левых глобалистов. Лет сто тому назад этот слой идеологических работников формировался как верхний этаж над полуподвальным, строго контролируемым слоем «мастеров культуры», которые своим творческим трудом, собственно, все это здание «советской культуры» укрепляли. Без этих мастеров дореволюционной выделки – Булгакова, Горького, Станиславского, Алексея Толстого, да и того же Маяковского, и многих других – в театре, кино, музыке, литературе – никакое влияние идеологической надстройки на общество и, прежде всего, на молодое поколение не было бы возможно.
Позже, когда дело было сделано, сформированная идеологическая надстройка вытеснила «мастеров культуры» даже из их полуподвального этажа. Ученик предал учителя. Кого в лагеря, кого в почетные президиумы, а кого-то и намного дальше. Новое поколение советских писателей и драматургов, воспитанных на мастерских образцах, стало зависимым от идеологов, а не наоборот, как было во времена нэпа. Тонкая прослойка философов и вовсе уничтожена, а отечественная философия запрещена, подменена идеологическим суррогатом из Европы. Эта подмена символически и есть захват полуподвала бедного мастера его бывшим другом.
Однако без опоры в своей философии никакая культура, а с нею и никакая элита удержать позиции не может. Поэтому вполне естественным следствием подмены философии идеологией стало массовое перекрашивание потомственных советских пропагандистов типа Познера или Сванидзе из прежних красных цветов в бело-сине-красную либеральную палитру. Как там Алоизий причитал чуть ниже? – «одна побелка… купорос…» Собственно об этом внезапно свалившемся откуда-то сверху персонаже речь:
Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный и близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руках и в кепке. От страху этот человек трясся и приседал.
– Могарыч? – спросил Азазелло у свалившегося с неба.
– Алоизий Могарыч, – ответил тот, дрожа.
Для справки: Алоиз или Алоизий – немецкое мужское имя. Происходит от древневерхненемецкого «Alwis» – «весьма мудрый».
Магары́ч (араб. — расходы, издержки) — угощение (как правило с алкогольными напитками) по поводу заключения выгодной торговой или иной сделки
Так что имя персонажу драматург дал вполне говорящее – весьма неглупый и образованный человек, продавший свои таланты в выгодной сделке с властью. Однако, у простонародного варианта «могарыч» есть еще бытовой советский оттенок. Не просто алкогольная мзда за «левую» услугу, но и вино сомнительного качества, где намешано всего и собственно вино как творческое откровение разбавлено разной гадостью. А то и просто суррогат. В этом и заключалась суть идеологической работы, спекулировавшей разбавленным халтурой творчеством «мастеров культуры».
Заметим, что именно эта прослойка постсоветских либеральных пропагандистов и идеологов оказалась наиболее пострадавшей от виртуальной «пандемии». Закрылось свободное передвижение между Москвой и европейскими столицами, где так уютно и удобно тратить заработанные в условно российских масс-медиа гонорары. Но хуже всего, что глобальный кризис обрушил стереотипы восприятия Запада, на которых без конца спекулировали все эти пархоменки, гозманы, парфеновы и вся рекламно-пропагандистская рать. Как теперь выстраивать пропаганду западных ценностей, если она на самом Западе больше не работает?
Вот и приходится части либеральных идеологов срочно перекрашиваться «купоросом» из голубых западных оттенков в густо патриотические бело-сине-красные цвета. За что вовремя переметнувшиеся на сторону местной олигархии, подвергаются злобной травле со стороны тех, кого и здесь уже не возьмут в обслугу, ибо исписались и одиозны, и там они никому не нужны.
Знаковые внешние детали, намекающие на помещение в карантин по прилету из «заграницы» - в одном белье, но почему-то с чемоданом в руках и в кепке – не столь важны, но характерны. Более важным является символическое истолкование этих знаков. Отсутствие верхней одежды как раз и означает потерю моральных ориентиров, пусть даже ложных и убогих понятий о добре и зле, где в роли добра выступал Запада, а в роли зла – русские. Впрочем, наличие нижнего белья, то есть остатков нравственности, дает представителям этой ранее влиятельной прослойки некий шанс. Как мы, может быть, помним, символика числа один или одно – указывает на единство с Богом. То есть речь о религиозных понятиях о добре и зле, к которым приходится вернуться идеологической прослойке в целом. Впрочем, чемодан с верхней одеждой по-прежнему в руках, и всегда готов к переодеванию. Простонародный головной убор тоже призван маскировать, скрывать волосы как символ мудрости. Нынче выгоднее продавать свои умения, как тот же Дима Киселев, в выражениях попроще.
Таким образом, мы все же обнаружили в Романе актуальные пророчества о глобальном финансов-политическом кризисе, замаскированном под борьбу с корона-вирусом, с помощью медиа-вирусов, послушных короне, власти. Придется заглянуть и в пророчества Азимова, нет ли там чего похожего. Например, в начале третьей книги описано пребывание высшей элиты за пределами мегаполисов в абсолютно пустых дворцах, из ситуационных комнат, откуда все управление идет по цифровым каналам. Внутрь при этом допускаются только самые доверенные лица спецслужбистов и только самых необходимых советников. Но эта картина относится, скорее, к завершению «переходного периода», когда новая система управления уже сложится. Впрочем, в конце второй книги Трилогии было достаточно рассуждений о способности Мула создавать панику и управлять с ее помощью элитами и подопытным населением.
К этому можно добавить еще одну параллель из романа в Романе – между московским и ершалаимским сюжетами. Даже записные идеологизированные литературоведы и критики самокритично согласны с тем, что Алоизий играет в современном сюжете ту же роль, что Иуда в сюжете древнем. Между тем Иуда ненадолго выходит на авансцену именно в ночь на страстную пятницу, когда учитель уравнял с собой 12 учеников, и символ жертвы – число 13 вступило в свои права. Так что краткое появление Алоизия может намекать на повторение сюжета.
40. В конце «концов истории»
Появление в актуальном сюжете Романа Алоизия рядом с мастером не может не вызывать параллелей с сюжетом романа в Романе. Однако на всякий случай Азазелло, как и положено аватару спецслужбистов, задает здесь вопросы об обстоятельствах и мотивах предательства со стороны бывшего близкого друга и лучшего собеседника:
– Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? – спросил Азазелло.
Иносказательную философскую подоплеку этого вопроса понять будет, пожалуй, даже легче, чем актуальное политическое значение. Латунский – это аватар западной рационалистической критики, господствовавшей в образовании и науке, не только советской, весь долгий ХХ век. Хотя именно 1920-30 годы были апофеозом этого господства, пока квантовая физика с принципом неопределенности не поставила рационалистов перед фактом невозможности измерить и учесть все и вся.
Рим – символ рационализма, Римский – аватар прагматичного рационального управляющего класса, а прилагательное латинский – относится к языку и рационалистическим учениям, на которых это римское управление всегда строилось. Даже римская церковь – сугубо рациональна и прагматична, в отличие от православия – слушайся папу, верь в догматы, выполняй инструкции, и будет тебе формальная индульгенция для спасения души, тоже насквозь рациональной.
Кроме латинского рационализма в имени Латунского слышится еще и та самая медь звенящая, о которой писал апостол Павел – любое гуманитарное учение без любви к людям мертво. А любовь к людям и рациональная прагматика – вещи не то, чтобы не совместные, но из разных измерений. Для потомственного православного богослова Булгакова это совмещение латинского рационализма с медью, звенящей без любви, очевидно. Поэтому и слово роман рядом с фамилией критика-рационалиста, нужно читать как синоним слова любовь как чувство этого человека.
В чем же состоит прегрешение и даже преступление мастера, то есть сообщества русской философии, в глазах западных и прозападных рационалистов? (Неважно какой именно идеологической раскраски – левой, либеральной, клерикальной, фашистской.) Прежде всего в иррациональной любви (а другой и не бывает) к самобытной русской культуре, порожденной и воспитанной православными отцами. Отчество нашей героини – Маргариты Николаевны в этом смысле вполне говорящее. (Пусть и противоречива фигура св. Николая – отца провластного имперского православия, но и культура у нас тоже всегда при власти как одна из опор.)
Вообще господство рационализма требует признания и веры в завершенность познания, то есть догмы. В позапрошлом веке верили в завершенность физики, в прошлом веке – в «окончание истории», завершенность гуманитарного учения, неважно какой раскраски – коммунистической, либеральной или учения о тысячелетнем рейхе. Вера в бесконечность познания поэтому не то, чтобы отрицает рационализм, но полагает его недостаточным, хотя и необходимым для повседневной прагматики. И тем не менее, нужно оставаться открытым для «мистических» явлений, которые рационально на данном уровне развития общества и его науки не объяснимы. Это не означает, что завтра не появится новая вполне рациональная научная модель, для которой прежняя простая трехмерная рациональность будет частным случаем более сложной четырехмерной.
Что же касается именно русской традиционной культуры, она в отличие от западной, основана не на рациональной регулярности, а в силу суровых северных и резко континентальных условий – на постоянном ожидании рисков и подвохов от природы, требующих не рационального расчета, а интуитивного ответа, порою иррационального. Кто там из мудрых западных политиков завещал не связываться с русскими? Именно поэтому. Потому что далекое облачко на горизонте может быть мистическим знаком опасности, и нужно январской ночью оценить мерцание звезд, чтобы предугадать, что сеять или запасать будущим летом.
В контексте интересов мастера и критики его романа («Пилатчина», «апология Иисуса Христа») под нелегальной литературой, которую в 1920-30-е годы изымали в спецхраны, подразумевается именно русская православная философия. Нужно заметить, что такого рода «жалобы с сообщениями» в те времена писали по вполне понятному адресу в ОГПУ. Собственно, откуда еще, как не из архивов Лубянки, знать об этой жалобе самому Азазелло?
Однако теперь рациональные западные веяния совсем уже вышли из моды, чекисты готовы задавать противоположные вопросы. А сообщество идеологов готова под эти новые тренды подстраиваться:
Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.
В этой краткой фразе все отточено до блеска. И в самом деле – новоявленная гражданственность постсоветских идеологов слегка контрастирует с их же либеральной или левой, но одинаково прозападной позицией еще позавчера. Синий цвет всегда был и остается цветом консерваторов. Но для нас важнее значение символов в самом Романе и его первоисточниках, прежде всего в Библии. Впрочем, и там тоже синий цвет связан с хранителями религиозной традиции. В синие кожи сыны Аарона упаковывали скинию завета при ее переноске на новое место. То есть посиневшая кожа постсоветских идеологов означает их переход к традиционному религиозному консерватизму.
Было еще одно место в Романе, где посинела кожа правого колена Маргариты. Мы еще тогда выяснили, что речь идет о лояльной провластной части деятелей культуры типа братьев Михалковых, успевших побывать и левыми, и либералами, и теперь консерваторами, святее папы. Ну вот, теперь пришла очередь идеологов расшибать лоб.
И хотя вектор идеологии поменялся на все сто восемьдесят, методы работы и самой власти, и провластных идеологов изменились не сильно. В связи с этим еще не лишний раз обратим внимание на ответ Воланда мастеру:
Не бывает, вы говорите? … Это верно. Но мы попробуем.
Не следует ли из этого утверждения, чтобы все стало, как было – повторения тех событий, которые описаны в 13 главе в рассказе мастера о подвале. Между прочим, мастер подробно описывает Ивану не что иное, как затворническую самоизоляцию. При этом много раз повторяет и подчеркивает, что события происходят весной, в мае. Осталось только напомнить, что приближается праздничное майское полнолуние, которое в этом году выдалось весьма иррациональным.
41. Двойник
За полгода, прошедшие после первой волны самоизоляции, практически никаких важных событий и не произошло. Ну не считать же «событиями» отвлекающие внимание публики криминальные сюжеты с участием шоуменов, в том числе политических клоунов. Или превращение когда-то серьезных политиков в оторванных от реальности марионеток, которыми манипулирует свое же напуганное кризисом окружение, как это происходит в том же Минске. Наверное, так и должно было быть, когда сильные мира сего готовят всех к управляемому спуску с гигантской финансовой пирамиды.
Однако есть и другая причина, из-за которой вынужденно притормозило наше литературоведческое исследование в реальном времени. Внезапно проснувшийся в центре внимания друг мастера Алоизий оказался не так уж прост. Впрочем, Автор нас об этом заранее предупреждал в 13 главе:
Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизий (да, я забыл сказать, что моего нового знакомого звали Алоизий Могарыч) – имел.
Повторение слов про ящик тоже наверняка имеет значение для разгадки этого сюрприза. Но мы начнем эту разгадку с более понятной для опытного толкователя характеристики персонажа:
Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, но что ему тесно там, и прочее.
По поводу тесной квартирки, не квартиры, сразу есть подозрение, что это то же самое виртуальное пространство, что и ящик. Но мы сначала обсудим «семейный» статус: холост – значит, как и Воланд не имеет жены. Впрочем, как и Бегемот, и Азазелло, вот насчет Коровьева у нас были подозрения. Да и мастер был женат, а нынче тоже холост, но у него есть приходящая тайная жена. И раз другой холостяк живет в такой же квартирке, и вообще мастер с ним сблизился, есть подозрение, что и «семейное положение» у них одинаковое.
Напомню не лишний раз, что действующими лицами романа-притчи (то есть любого великого романа) являются внутренние виртуальные субъекты – надличные ипостаси коллективного бессознательного. Так что и Алоизий – такой же надличный дух, как и мастер – дух латентного философского сообщества русской цивилизации. Когда такой дух вселяется в дом, то есть иносказательно в личность человека, становится личной ипостасью духа (мужем), у него появляется жена, иносказательный синоним личной ипостаси души.
Творческий дух Истории, он же Воланд – не имеет жены, потому что обитает в глубинных комнатах тайного пятого этажа дома. Иногда душа какого-нибудь мастера, философа получает у него аудиенцию, а через нее и сам мастер, но и в этом случае новым творческим смыслом наполняются две личные ипостаси – муж и жена, а Воланд остается один, всегда один.
Истолкование мастерского случая тайной жены, когда у нее есть свой законный муж, тоже не вызывает особых вопросов. Творческая личность, например, философ или поэт – далеко не всегда находится в творческом вдохновении. Обыденная личность при этом может быть журналистом как Булгаков, министром как Гёте или сотрудником политической разведки как Пушкин, то есть у души поэта есть официальный муж – дух соответствующей корпорации. Лишь в неурочное время – по ночам, как Булгаков, в ссылке или карантине как Пушкин к тайному мужу в полуподвал личного бессознательного, оно же – интуитивная ипостась, приходит муза – в обнаженном виде отдавшейся творчеству души. И в этом вдохновенном состоянии душа, как и отчасти надличный творческий дух личности внемлют Творческому духу Истории.
Причем, как мы должны были заметить, личный творческий дух появляется у жены не сразу, сначала она должна преобразиться, отказаться от обыденных одежд и воспарить над миром в полете фантазии, пройти через сложные внутренние переживания, чтобы Творческий дух Истории смог ее направлять и попытаться наполнить новыми смыслами. И только в этом случае послушная ему душа получает свой личный творческий дух – извлеченного из надличных глубин мастера.
Такое истолкование отношений между главными героями Романа – Мастером, мастером и Маргаритой – мы уже не раз давали и проверяли. Однако, каким же образом в том же самом полуподвале, где мастер встречался с музой, поселился вдруг другой дух, не творческий. И что это ха дух. Возможно, опять же будет подсказкой, что мастеру он отрекомендовался журналистом. Булгаков, как одно из воплощений надличного духа русской философии и души русской литературы, в своей обыденной ипостаси как раз подрабатывал журналистом.
Более весомой подсказкой является всеми признанная параллель между московскими и ершалаимскими главами Романа, где мастеру соответствует бродячий философ Иешуа, а его близкому другу – «предатель» Иуда. Однако эту параллель можно продолжить и дальше, на главы Евангелия от Иоанна, уделяющего много внимания отношениям учителя (мастера по латыни) и его любимого ученика. Например, очевидная параллель между 13 главой Романа и 13 главой Евангелия от Иоанна, где и описан ключевой момент отношений ученика Иуды и его мастера:
Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. /Ин 13, 26-27/
Однако я бы обратил внимание и на следующие за этим строки:
Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим.
После этой явной параллели с ящиком Иуды можно утверждать на все сто, что Автор имел в виду именно эту параллель Алоизия с Иудой из четвертого Евангелия. Многие из читателей наверняка в курсе отличия трех синоптических евангелий от Матфея, Марка и Луки, повествующего о земной жизни Иисуса, от четвертого, наполненного символами не только в пересказе отдельных притч. Так что действующими лицами этого романа-притчи тоже являются не личности, а движущие ими надличные ипостаси.
Есть и другие параллели между двумя великими романами от Иоанна и от Михаила. Например, Иван Бездомный тоже является учеником мастера, как и апостол Иоанн, отождествляемый с автором четвертого Евангелия. В рассказе о знакомстве с Алоизием мастер утверждает: «Я узнал, что он холост…», то есть речь не идет об общении между надличными духами, вселившимися в разных людей, имеющими разных жен, если говорить притчами.
Однако в синоптических евангелиях есть рассказ об искушении Иисуса в пустыне, очевидно пересказанный и записанный с его слов учениками. И это единственная такая параллель об общении учителя с надличным духом. Хотя как-то не принято обсуждать, что сатана при этом пребывал где-то рядом с душой и духом мастера.
Есть и другие параллели с этим эпизодом. Иисус удалился на сорок дней в пустыню для медитации, однако «напоследок взалкал» и отвлекся от творческого переосмысления своих ветхозаветных знаний и себя самого. В параллельном сюжете из рассказа мастера общению с новым другом предшествует совместная медитация мастера и его души – «сидели на коврике на поду у печки и смотрели на огонь». А после = «Она стала уходить гулять». Глагол неоднозначный и навевает вопрос «с кем?». Почему это параллель со словом «взалкал» из 4 главы от Матфея? Потому что желания и мотивации – это работа ипостаси души, жены. И только после ухода музы из творческого состояния в обыденное «приступил к нему искуситель». Однако завершился этот параллельный эпизод первого общения с «новым другом» таким же отвращением души: «Жене моей он не понравился до чрезвычайности.»
Вот тут-то внимательный почитатель традиционных толкований может указать нам с Автором на явное несоответствие и вроде как обрыв выстроенной параллели. Дальше после отвращения души следует: «Но я заступился за него. Она сказала: = Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее.» Еще бы не отталкивающее, если следование советам «нового друга» вдет к смерти. Однако при этом мастер все равно заступился за него, как и его евангельский прообраз выбрал рискованный путь к смерти на кресте.
И еще в том же духе чуть раньше по тексту: «И представьте себе, при этом обязательно ко мне проникает в душу кто-нибудь непредвиденный, неожиданный и внешне-то черт знает на что похожий, и он-то мне больше всех и понравится.» Если параллель верна, то Автор тем самым подтверждает, что именно Иуду он считает тем самым любимым учеником из четвертого Евангелия.
Однако, следует ли из этого, что сам любимый ученик был сразу же живым воплощением сатаны? Была ли его душа женой этого надличного духа, хотя бы временной и тайной? На этот счет у нас есть та самая специальная оговорка из 13 главы четвертого Евангелия: «И после сего куска вошел в него сатана.» Не раньше и не позже. То есть до переданного учителем хлеба с вином (то есть знания с откровением), диавол прятался где-то внутри, в деталях этого знания. И кстати, второй отрывок, приведенный выше, намекает, откуда взялся этот соблазнительный кусок хлеба – из того самого ящика.
Когда немного раньше, в 12 главе четвертого Евангелия Иуда со своим ящиком был назван вором, то этому иносказанию тоже есть истолкование, отличное от обыденного, профанного восприятия символики. Иуда за Кириафа, как и другие персонажи мистерии, олицетворяет некую надличную ипостась, связанную с большим сообществом. Кстати, имя двенадцатого апостола можно перевести также как «Иуда из Города», Иуда Городской, в отличие от остальных сельских апостолов-рыбаков. Так что, скорее всего, речь идет о городском сообществе книжников, хранивших в своем, закрытом для неграмотных обывателей «ящике» ценности, иносказательно украденные иудейской религией у соседей, из самых разных ближневосточных источников. Часть ценностей вынесли вместе с «ящиком», то есть ковчегом, из Египта. Другую часть ценностей вынесли из вавилонского плена. Раввины-фарисеи привнесли в толкования что-то из греческой философии, из римского права.
Однако, разве может свет божественных откровений, пусть даже заимствованный по частям у соседей, стать питательной средой для дьявольских заблуждений и смертельных ошибок? Разумеется, может, если это знание рассматривать и подавать однобоко, приспосабливая к общественной конъюнктуре, политическим амбициям. Там ведь так и сказано в 13 главе: «кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». Не целых пять хлебов для будущей тайной экклесии или целых четыре хлеба для будущей мирской церкви, а только кусок, отломанный от полного знания. Но не так ли строится любая привластная идеология, использующая отдельные куски авторитетного знания, в наше время научного, обмакнув его в вино художественных откровений, политической мифологии?
Вернемся, однако, к вроде бы компрометирующему мастера признанию: «Но я заступился за него». Разве этому есть параллель в рассказе учителя об искушении в пустыне? На первый взгляд, вроде бы нет. Если не знать значений числовой символики. Мог ли евангельский мастер поститься именно столько – «сорок дней и сорок ночей»? Разве не взалкал бы он немного раньше? Или все же это иносказание? Символическое число 40 означает желание светского, а вовсе не монашеского успеха. Разве смог бы Моисей уговорить евреев на 40 лет в пустыне, сформировавшими древнееврейскую религию, если бы не соблазнил паству обетованием власти над счастливой землей и народами?
Точно также и ученики, будущие апостолы и евангелисты пошли за Иисусом, поскольку поначалу понимали однобоко откровения пророков о пришествии Мессии, как власть земного царя Иудеи. Без этого конъюнктурно идеологического соблазна не было бы ни учеников, ни широкого интереса публики, а значит и угрозы для власти, крестной жертвы и, в конечном счете, новой христианской религии и нового понимания миссии мессии.
«И блажен, кто не соблазнится о мне» /Лк 7,23/
«…невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. /Лк 17,1/
Через кого же, как не через самого учителя? Потому и горе на горе Голгофе.
Иуда Городской, из книжников – потому и любимый ученик, что лучше других понимает каждое его слово, столь же образован, столь же восхищен и окрылен, и столь же соблазнен мессианскими надеждами. Психологически весьма и весьма достоверно, что две таких похожих личности притягиваются друг к другу, поддерживают друг друга, чтобы затем в критический момент столь же сильно оттолкнуться и разойтись. Иуда принял из рук учителя весь груз дьявольского соблазна, чтобы душа учителя осталась чистой, подчиненной лишь замыслу Творца этой величайшей пророческой мистерии. И потому уже во исполнение пророчества во время суда над христианством в лице Ап.Павла взяло на себя тот же грех интеллигентское городское сообщество Иудеи, аватаром которого в мистерии является Иуда из Кириафа.
Есть ли смысл продолжать эти параллели с мастером и Алоизием, вернуть их обратно в наше время? Или и так все понятно?
42. Что за Ал-й М-ч?
По ходу возвращения от евангельских деяний к нашим дням, от образа Иуды к образу Алоизия из 24 главы – будет не лишним притормозить слегка в булгаковском времени написания Романа. Ни для кого не секрет, что писатель-сатирик, как говорят, щедрой рукой на потребу интеллигентной публики расставил в рукописи указующие знаки и характерные черты современных ему литераторов. Например, «пролетарский» поэт Рюхин был сразу опознан современниками как Маяковский, а в эстрадном шоумене Дунчиле – узнали мужа Айседоры Дункан. В завистливом Лавровиче опознали драматурга Вишневского, и так далее. Впрочем, и себя тоже Булгаков не забыл в сатирическом образе Берлиоза, где совпадают имя и все инициалы М.А.Б.
Сложнее было публике опознавать в сатирических образах признанных кумиров интеллигенции, как Льва Толстого в путанике Левии. Но это не из-за отсутствия знаков, а потому что сатирик замахнулся на «святое». По этой же причине, видимо, читатели и критики дружно прошли мимо светлого образа писателя Горького, не заметив такого же совпадения не только начальных инициалов, но и окончаний имени Алексея Максимовича и Алоизия Могарыча. Впрочем, признавать вслух такие параллели было не только сложно психологически, но и опасно политически. Потому и не признавали.
А между тем, именно эта параллель отношений двух главных драматургов МХАТа с отношениями мастера и Алоизия заслуживает самого уважительного внимания. Только нужно сделать необходимую поправку на отношения не между личностями, а между надличными ипостасями, управляющими личностями. Таких надличных духов в каждой по-настоящему творческой личности борются не одна, и не две. И сам Булгаков признает присутствие множества духов в «нехорошей квартире» своей личности. В том числе и дух писательской политической конъюнктуры не раз посещал Булгакова, например, при журналистской работе в «Гудке» или в том же коллективе над дилогией об О.Бендере.
И все же, по мнению Автора, именно в личности Горького наиболее полно и ярко проявился дух политически конъюнктурного «творца», как в «любимом ученике» Иуде воплотился дух политического консультанта и оппозиционного проповедника в борьбе за место главного идеолога при чаемой близкой смене власти. Да и «денежный ящик» был доверен нашему «пролетарскому писателю» из вполне зажиточных мещан не даром. Очень удобно было иностранным разведкам, особенно британской и французской, финансировать отряды боевиков революционных партий посредством зарубежных гонораров писателя Горького.
Как-то так само собой случилось, что число изданий и указанные числа тиражей резко возросли именно в том 1902 году, когда наш прижизненный классик усыновил будущего руководителя французской военной разведки, он же брат главаря уральских бандитов-боевиков Я.Свердлова. Хотя, разумеется, все это слухи и наветы, ведь и в самом деле европейский читатель нарасхват покупал рассказы про Челкаша и старуху Изергиль, при чтении которых, бывало, засыпала даже восторженно любящая первая жена писателя. (За что и была отставлена.) И нужно отметить, что «денежный ящик» нашего «пролетарского» Алоизия был весьма весом. Даже по официальным данным, Горький перед революцией 1905 года был самым высокооплачиваемым частным лицом в России.
Еще не лишний раз заметим, что и Булгаков, и Горький, как и Чехов с Толстым – не были чистым воплощением той или иной «идеи», духа. Во всех творческих личностях сменяют друг друга надличные духи русской философии («мастер»), политической конъюнктуры (идеолог Алоизий), конъюнктуры религиозных исканий (Левий) или просто публицистической, журналистской моды на потребу дня (Гелла). Все дело исключительно в пропорциях разделения времени и приоритетах, которые могут и меняться в ту, или иную сторону. У одних мастеров, как Чехов или Булгаков, развитие идет от конъюнктуры и моды к высокой философии, а другие, как Толстой и Горький после первых заграничных успехов оказываются в плену у политической конъюнктуры и внешнего образа модного «властителя дум».
Не вызывает особых проблем параллель Горького с пламенным революционером Иудой, который стремился собранные средства пустить на дело революции, «раздать бедным», то есть подкупить иерусалимский плебс ради признания Мессии «мессией». Намного больше проблем с параллелями воплощений Алоизия из воспоминания мастера в 13 главе с современным воплощением. И проблема эта – скорее в качестве и уровне культуры интеллигентной публики, увы. Это раньше, чтобы получать гонорары от западных партнеров и спонсировать антисистемные движения, нужно было все же обладать какими-то талантами, кроме природной наглости и всеядности. А нынче кто у нас «властитель дум» и надежда давно деклассированной люмпен-интеллигенции на смену власти и допуск к кормушке? Это по определению должен быть ментально и культурно свой, точно такой же бесталанный, но раскрученный на западные деньги конъюнктурщик.
Честно говоря, при всем богатстве выбора современных «иудушек», другой альтернативы, как еще один Алексей, подобрать сложно на роль публичного лидера и выразителя шкурных интересов всего сословия конъюнктурных «книжников». Такой же самовлюбленный психопат – истерик, готовый ради внимания к себе на суицидальные перфомансы. К тому же описанные в 24 главе мизансцены прибытия и убытия пассажира в белье слишком хорошо совпали со знаковыми событиями в августе:
Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный и близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руках и в кепке. От страху этот человек трясся и приседал.
Заметим, что нынешний Ал-й действительно свалился в фокус внимания все страны и мира откуда-то с потолка (а у авиалайнеров действительно есть свой «потолок»). И точно также в одном белье не просто убыл, но улетел в Европу, ассоциации которой с символическим окном мы уже не раз обсуждали и обосновали:
Тогда Могарыча перевернуло кверху ногами и вынесло из спальни Воланда через открытое окно.
Однако для более точного истолкования нужно различать знаковое событие, отражающее актуальные перемены в сознании и подсознании людей и народов, и сами эти достаточно длительные процессы. Собственно, спальня Воланда в нехорошей квартире творческой личности это и есть место встречи личного духа мастера и его души с надличным Мастером, Учителем, Воландом. Это та самая комната глубоко внутри квартиры (личности), которая задействована во время сна или пограничных состояний на грани между явью и сном. Как описывал тот же Булгаков в «Театральном романе».
В свое время воплощенный лучшим учеником образ Иуды послужил обновлению всей апостольской общины, превращению ее из иудейский секты в иудео-христианскую церковь. Так и нынче разыгранный в мировых масс-медиа отвратный фарс с «отравлением» «оппозиционера», пожалуй, навсегда освободил от прозападной политической конъюнктуры именно подсознание будущего сообщества русской философии.
Признайтесь, коллеги, ведь было, было где-то там в глубине души предательское чувство, облегченная надежда, что «просвещенная заграница» нам поможет, если не деньгами, то идеями, культурными образцами? Тут, разумеется, не один только берлинский фарс вокруг Шаритэ, но и в целом беспримесно «толерантный», то есть без культурного иммунитета, образ русофобского Запада сработал, отшлифованный к концу года еще и фарсом откровенно фальсифицированных американских выборов.
Так что из этой части 24 главы не до конца проясненным остается описание реакции Маргариты, то есть культурной общественности, на новое воплощение Алоизия. Хотя вроде бы недавно одна из известных артисток назвала-таки одного из этих Алексеев-Алоизиев «иудой», но вряд ли это можно зачесть за позицию всей культурной общественности.
43. Лицо в руке Маргариты
Самые интуитивные читатели этой рукописи сразу же заметили, что одной лишь внешней параллелью с А.М.Горьким и прочими «иудами» символика образа Алоизия не исчерпана. Если за другими аватарами (Фагот, Бегемот, Маргарита, мастер) и их сюжетными линиями выведена судьба политически значимых сообществ (политические чиновники, олигархи, культурная элита, политические философы), тогда и за образом А.М. тоже стоит некое сообщество.
Однако это воплощение Алоизия кое в чем отличается от остальных, отчасти даже пародирует Воланда, у которого нет постоянного воплощения (жены). Творческий дух Истории в реальную земную жизнь непосредственно не вмешивается. Он снисходит только в спальню отдельных нехороших квартир, то есть в период сна творческих личностей, чтобы дрессировать Бегемота или иных духов, имеющих земное воплощение.
Как нам поведал мастер в 13 главе, у Алоизия тоже нет жены. И в параллельном евангельском сюжете Иуда тоже не был постоянным воплощением сатаны. Падший ангел воплотился в него ночью перед главными событиями Страстной мистерии, тоже пародируя Творца. Так и в нашей истории пародия демиурга воплощается в немногих амбициозных, но падших «творцов» перед революционными событиями или в порядке зеркальной симметрии Надлома – в начале культурной революции.
Узел Консолидации обратно симметричен большому узлу Смены центра, является отрицанием революции. Наверное, поэтому нужно извлечь из души значимых творческих сообществ те самые осколки зеркала, превращавшие потенциальных поэтов и философов в конъюнктурных троллей, пародию на самих себя. Нужно, чтобы дух Алоизия еще раз, но на этот раз предельно откровенно и наглядно, проявил себя, чтобы можно было от него избавиться путем эмоционального отрицания:
Могарыча перевернуло кверху ногами и вынесло из спальни Воланда через открытое окно.
Кстати, открытое окно применительно к августовскому вылету «немецкого пациента» несет не только символику открытого, незашоренного сознания, но и внешний иллюстративный смысл. Срочно «открытое окно» иногда бывает и на государственной границе. А если вспомнить, что кровь – имеет символическое значение откровения, то окровавленный Могарыч означает всего лишь открытый «откровенный предатель» за деньги.
Есть в тексте и другие явные намеки на конкретных Алексеев-Алоизиев. Например, в бессюжетном эпилоге Романа, который служит только справочным указателем, есть такое указание:
Опомнившись, примерно через сутки после визита к Воланду, в поезде, где-то под Вяткой, Алоизий убедился в том, что, уехав в помрачении ума зачем-то из Москвы, он забыл надеть брюки, но зато непонятно для чего украл совсем ненужную ему домовую книгу застройщика. Уплатив колоссальные деньги проводнику, Алоизий приобрел у него старую и засаленную пару штанов и из Вятки повернул обратно.
Нет, если вы знаете еще какого-то столичного политического деятеля, который прославился тем, что выдвинулся в провинцию, доехал до Кирова, бывшей Вятки, и там что-то неудачно украл, так что пришлось еще и доплатить – тогда, конечно, это указание не имеет значения.
Есть в Романе другие указания и на первого Алексея-Алоизия из Нижнего, скажем:
- Я ванну пристроил, - стуча зубами, кричал окровавленный Могарыч и в ужасе понес какую-то околесицу, - одна побелка... купорос...
По правилам толкования, к которым мы уже привыкли, если в тексте есть вопрос, в данном случае местоимение «какую-то», то на него нужно искать ответ – или в тексте Романа, или в литературной классике. Слово «купорос» однозначно выводит нас на повесть «Детство» М.Горького. Честно проходили в школе, и даже сейчас помню из него только и именно этот самый купорос.
Впрочем, и другие указания на характер Алоизия, его слезливость, трусость и мстительность, ревность к чужому успеху – все сходится.
– Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? – спросил Азазелло.
Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.
Вряд ли Булгаков, расставляя столь явные указания на Ал.М-ча, наговаривал на него, скорее опирался на конкретные случаи из жизни и деятельности формального главы союза писателей.
Однако, пора расстаться с этими двумя Алоизиями, и перейти к более интересному сообществу, аватаром которого является Маргарита. Как нам истолковать ее поведение, которое даже мастер назвал позорным?
Шипение разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая:
– Знай ведьму, знай! – вцепилась в лицо Алоизия Могарыча ногтями.
Произошло смятение.
– Что ты делаешь? – страдальчески прокричал мастер, – Марго, не позорь себя!
И в самом деле, разве было в уходящем году что-нибудь этакое публично позорное в жизни нашей культурной общественности? Ну разве самую малость – славную театральную фамилию Ефремовых какой-то подонок втоптал в самую грязь. Ну еще пара другая позорных историй из жизни деятелей культуры стала достоянием публики. Разве же это можно отнести к нашей возлюбленной Маргарите? Вот и олигархи в лице Бегемота и подчиненной либеральной прессы не дадут соврать какому-то мастеру:
– Протестую, это не позор, – орал кот.
Нет, если толковать образы романа как сатирическую месть писателя своим врагам и гонителям, зашифрованным в отрицательных персонажах, тогда выйти из этого тупика никак не получится. Но если образы Романа – это именно ипостаси (духи души), объединяющие многих людей, аватары сообществ, то головоломка раскладывается. Разве этот самый «гражданин поэт» не признался самым циничным образом, что представлялся оппозиционером сугубо за деньги? То есть имел отношение к тому самом «денежному ящику» с западными грантами для предателей. А значит и он тоже входит в неширокую, но громкую когорту алоизиев. Более того, именно известный артист является лицом этого позорного сообщества.
Однако, проблем толкования в данном случае – в том, что алоизий-артист, как алоизий-писатель принадлежат одновременно и к культурной элите. То есть это лицо не только Алоизия, но и отчасти – самой Маргариты. Не знаю, как вам, а мне все эти ассоциации слов «позор – лицо – ногти» навеяли популярное ныне выражение «рукалицо» как стебный перевод английского «facepalm». То есть левой оппозиционной рукой культурное сообщество пыталось приободрить и даже оправдать своего «позорного героя», а правой лояльной рукой все-таки изображало фэйспалм.
Здесь будет уместно напомнить толкование библейской символики рук и ног, которую использует Автор. Нога – это опора и носитель той или иной культуры, его экклесия. Рука – активная, деятельная часть этого сообщества, социально-политический актор. Актеры и писатели точно являются членами этого сообщества-актора, то есть пальцами руки. В таком случае ногти – это, видимо, острые защитные реакции членов культурного сообщества на позорящие их события.
И хотя все эти события оставили неприятный привкус уходящему и без того високосному году, но в целом речь идет об очищении общества и его культурной, а значит следом и политической элиты. Это после революции предатель, ввергнувший страну в кровавую мясорубку революции, мог потом спокойно сибаритствовать на заморском курорте, или возвратившись, помогать ломать судьбы людям, своим коллегам. Что уж там говорить о простолюдине, случайно попавшем под колеса членовоза. Нынче хотя бы откровенным предателям максимальная льгота – это пинок под зад в открытое окно на границе.
44. Про ванную
«Это – белее лунного света,
Удобнее, чем земля обетованная…»
В.Маяковский
Есть в 24 главе врезка, определенно выпадающая из актуальной части сюжета:
– Я ванну пристроил, – стуча зубами, кричал окровавленный Могарыч и в ужасе понес какую-то околесицу, – одна побелка... купорос...
– Ну вот и хорошо, что ванну пристроил, – одобрительно сказал Азазелло, – ему надо брать ванны, – и крикнул: – Вон!
Здесь обозначен актуальный процесс выноса с политического поля новейшего иуды, предательского субъекта. Однако, что касается ванны, действия относятся ко временам до и после этого актуального процесса. Кому-то ему еще только предстоит эту загадочную ванну забрать себе с одобрения сообщества спецслужбистов.
В тексте Романа образ ванны встречается еще несколько раз. В 4 главе «Погоня» поэт Бездомный обнаруживает в ванне со сбитой эмалью намыленную голую гражданку. Затем самого Ивана в 8 главе про поединок поэта и профессора очищают и успокаивают в наисовременнейшей ванне. Наконец, в 21 главе «Полет» Маргарита топит в ванне костюм критика и устраивает потоп в доме Драмлита. Однако все эти эпизоды мало помогают в истолковании символа, скорее, наоборот, возможное истолкование ванны поможет лучше понять смысл эпизодов. Придется нам обратиться к древнему первоисточнику Романа.
Что может обозначать ванна по правилам библейского иносказания? Огромный сосуд для омовения всего тела водой, желательно чистой. Символ воды означает духовное чувство надежды. Набранная в сосуд вода – это уже надежда, внешне выраженная, как правило, в эмоционально окрашенных словах и образах. Опять же понятно, что слова надежды предназначены для неудовлетворенной части общества, желающей перемен. Известная всем параллель между Иудой и Алоизием, Иешуа и мастером позволяет предположить, что речь идет и о параллелях исповедуемой ими надежды. Иуда был оппозиционеров, видевшим надежду спасения народа в политическом перевороте во главе с «царем Иудейским». Иешуа мыслил намного масштабнее и видел спасение не только своего народа в мировоззренческом религиозном перевороте, справедливо полагая политические перевороты напрасными жертвами, тратой энергии на смену диктаторов без смены внешних обстоятельств. Это две разных надежды, две разных воды, способных наполнить один и тот же большой сосуд аудитории, жаждущей слов надежды.
Пока это единственное предположение о символе ванны, который в прямом виде больше не встречается ни в Романе, ни в Евангелии. Однако и здесь, и там встречаются другие сосуды с водой, на которые стоит обратить внимание. Там же в полуподвале мастера ранее был сосуд объемом поменьше. Помните, в рассказе мастера из 13 главы:
– Ах, это был золотой век, – блестя глазами, шептал рассказчик, – совершенно отдельная квартирка, и еще передняя, и в ней раковина с водой, – почему-то особенно горделиво подчеркнул он.
И еще раз немного дальше по тексту: Она приходила, и первым долгом надевала фартук, и в узкой передней, где находилась та самая раковина, которой гордился почему-то бедный больной, на деревянном столе зажигала керосинку, и готовила завтрак, и накрывала его в первой комнате на овальном столе.
По правилам нашего толкования, если в предложении есть вопросительное местоимение, обязательно нужно искать отгадку в тексте Романа или Евангелия. Здесь такую подсказку Автор делает дважды, настаивая на обязательном поиске скрытого смысла. Чем же это и почему мог действительно гордиться мастер? Только вот не нужно приписывать ему мещанских привязанностей к комфорту. Если сосуд с водой – это выраженные словами глубинные надежды, то речь может идти либо о каком-то тексте относительно небольшого объема, либо о небольшой аудитории для такого текста, либо возможны оба истолкования.
Рассказ мастера относится ко времени написания «романа в романе» о Понтии Пилате, и гордиться мастер может только своим творением, ничем иным. К тому же есть еще одна подсказка – жемчужины (таково значение имени Маргариты) находят именно в раковинах. Так что вода в раковине – это точно текст «Мастера и Маргариты». Сама же раковина, сосуд – это, похоже, аудитория, творческая среда, где произрастает жемчужина культуры, питаемая чистой водой надежды или угнетаемая нечистыми помыслами, смотря что налить в этот сосуд.
Попробуем прояснить наше понимание евангельскими примерами сосудов с водой:
Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.
Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха.
И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли.
Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, – а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. /Ин 2,6-11/
Символика вина нам уже известна – это откровение, выраженное словами и образами. Пока откровение видит только пророк – его символом является кровь. Когда откровение становится достоянием общества – это уже вино. Не так сложно понять, что речь в этом отрывке идет о вине Нового завета как лучшем по отношению к откровению Ветхого завета. Каменные сосуды ассоциируются со скрижалями Моисея, а символ камня означает закон. Исполнение данного Моисеем закона является очищением и надежной для иудеев. Однако они при этом не видят в словах закона внутреннего символического смысла, для них – это просто слова надежды, вода. И только Творческий дух Истории в лице Иисуса может превратить воду этих каменных сосудов в лучшее вино. Этому новому толкованию ветхозаветных символов и учил он своих учеников.
В эпизоде с самарянкой /Ин 4,28/ речь, видимо, о том же ветхом водоносе. Однако далее при описании Тайной вечери встречается иной сосуд с водой:
Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. /Ин 13,5/
Две ноги учеников – это две экклесии (мирская церковь Петра и тайная экклесия Иоанна, посвященная в истолкование скрытых смыслов). Вода в умывальнице – это слова надежды Нового завета, проповедующего уже не иудейский закон, а христианскую мораль для церкви. Следование морали, изложенной в евангельских притчах и их церковном истолковании, очищает и дает спасительную надежду.
Наконец, апостол Павел в послании к Ефесянам, наставляя своих учеников в христианской морали, слегка приоткрывает тайный смысл этих водных символов:
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. /Еф 5,25-27/
Этот евангельский символ водной бани наиболее близок символу ванны из Романа. Павел подтверждает, что речь идет об очищающих словах надежды для большой аудитории, составляющей тело церкви. В нашем современном случае речь тоже о большой и тоже оппозиционно настроенной аудитории, которую пытался пристроить современный Иуда, наполняя водой сомнительного происхождения и качества. Однако пока еще для этой отнятой у Алоизия аудитории чистой воды нет или не хватает.
Хотя, похоже, олицетворяемые Азазелло спецслужбисты осознали необходимость делать ставку на отечественную философию. Первые звоночки уже прозвучали – то сам Путин сошлется на философа Л.Гумилева, то приближенный театральный деятель заимствует для своего антиевропейского манифеста разработанную идею философа В.Лепехина. Так что, глядишь, когда наши герои доберутся до своего полуподвала с пристроенной ванной, наполнение словами надежды для большой аудитории пойдет быстрее.
Кстати, лунный свет – тоже означает символически философское знание. Так что поэт-попутчик, возможно, тоже не зря выведен в Романе под фамилией Рюхина. Может он не сам эти скрытые смыслы вкладывал, а политический заказчик из ОГПУ посоветовал образы использовать, как некий скрытый сигнал посвященным, но тем не менее.
45. О числе котов
Пока мы тут на периферии внимания следили за полетами Алексея-Алоизия по маршруту Москва-Берлин-Петушки, затянувшееся воплощение пророчеств добралось до совсем уже загадочной метафоры:
Мастер вытаращил глаза, шепча:
– Однако, это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал Иван! – совершенно потрясенный, он оглядывался и наконец сказал коту: – А простите... это ты... это вы... – он сбился, не зная, как обращаться к коту, на "ты" или на "вы", – вы – тот самый кот, что садились в трамвай?
Похоже, множество многоточий в диалоге как раз и указывает на вынужденно затянутый процесс диалога между надличными субъектами, которых в пророческом Романе олицетворяют мастер и кот. Про Бегемота нам давно уже ясно, что он – аватар хищного духа торгово-финансовой олигархии. Сложнее было понять, что фигура мастера (если с маленькой буквы) означает надличный дух философского сообщества как основы любой самостоятельной цивилизации.
При этом судьбы такой философии сильно зависят от фазы развития и глобальной роли соответствующей цивилизации. Поэтому и сами цивилизации выступают на мировой арене и вступают в диалоги посредством тех или иных надличных субъектов и их лидеров. И такой же спроецированный диалог, хотя и с разными итогами, происходит внутри каждой цивилизации. Понятно, что булгаковское пророчество отражает, прежде всего диалог надличных субъектов в общерусской цивилизации, но через эту проекцию – и диалог на глобальном уровне тоже.
Здесь упоминается еще Иван – аватар молодой, маргинальной пока еще, но все же фундаментальной науки, идущей на смену классической истории. Насколько мы помним, Иванушка рассказывал мастеру как раз об историческом Алозии в его «первом пришествии», когда лидером этого сообщества предателей был Ал.М-ч Пешков (Горький). Безусловно, следует согласиться с оценкой мастера, что в наше время роль предателей была сыграна «навальнистами» более чисто и откровенно, потому и не было столько революционной грязи и крови, как в прошлый раз.
Испытало ли отечественное философско-публицистическое сообщество в наши последние дни некоторое потрясение? Определенно, да. Поскольку так или иначе пришлось выйти из комфортной серой зоны условной лояльности и умеренной оппозиционности. Это раньше, все тридцать лет реставрационной стадии российской истории, фронты информационной войны были сугубо внутренними. Можно было выбирать сторону и перебегать между ними, оставаясь при этом патриотом и при этом демократом и даже либералом. Собственно, холодная гражданская война, перманентно разжигаемая олигархией ради своего доминирования – это и есть западная «демократия».
По причине прохождения информационных фронтов внутри общества и внутри публицистического сообщества, мастер и Алоизий были настолько близки, можно сказать почти неразлучны. Можно было вечером писать философские нетленки, а наутро снова участвовать в не самой чистой выборной кампании по заказу олигархов друг против друга, чем и обеспечивалось общее доминирование «жирных котов» в информполе. Хотя чаще всего мастерам пера было не до философии, некогда. И вот теперь, когда не только записные аналитики, но все общество увидело и осознало реальность агрессивной информационной войны Запада против России как таковой, это и стало встряской для всех – приходится определяться и размежеваться: «с кем вы, мастера культуры» и не только?
С этой вводной частью рассматриваемого эпизода все достаточно ясно. Однако, что может означать неопределенность выбора между единственным и множественным числом в диалоге мастера с котом? Эта штука будет посильнее предыдущих загадок Романа, не говоря уже о «Фаусте» и прочих литературных первоисточниках. Первомайский диалог со сфинксом столь же двойственного Фауста в союзе с Мефистофелем относится все же к давним временам становления научного прогресса еще до явления первого Алоизия.
Единственной более или менее близкой параллелью в самом Романе, вернее – в «романе в романе» является диалог Иешуа с Пилатом из 2 главы. Там тоже возникла неопределенность в форме обращения прототипа мастера к собеседнику, который тоже сам себя считает больше зверем. И там тоже бездомный философ старается убедить игемона, что он все же больше похож на человека, а не на зверя. Так что параллель в целом работающая, но что она может означать?
При первом истолковании всего Романа (в «MMIX – Год Быка») мы предположили, что исторический сюжет 2 главы описывает, скорее, взаимоотношение глобальных субъектов – в том числе России в лице мастера и США в лице Пилата. При этом зашифрованные во 2 главе события по шкале исторического времени относятся к 1930-м. Тогда США (Пилат) действительно находились в состоянии Великой депрессии, элита (голова) раскалывалась в состоянии холодной гражданской войны между криминальными и военно-полицейскими отрядами каждой из сторон. Однако именно политический диалог с бедной, избитой в войнах Россией и экономический госзаказ для экономики США позволил американцам начать выход из своей депрессии.
В нынешний Год Быка история снова повторяется, как минимум, в части финансового кризиса и экономической депрессии в США и западном мире. При этом североатлантическая цивилизация пытается говорить с Россией с позиции силы, хищника, а Россия пытается относиться к этому философски и снова убеждает западных партнеров проявить разумную человечность. Как и в предвоенные 1930-е Запад пытается в диалоге с Россией если не быть, то хотя бы выглядеть единым. Однако раскол на грани «смерти мозга» признается самими западными лидерами.
Возможно, затянувшийся диалог с попыткой разобраться в единственном или множественном числе котов отражает именно это переходное состояние от одного хищного субъекта к разделению на несколько субъектов. Причем эти разделившиеся субъекты вынуждены для выживания отказываться от сугубо хищнических инстинктов в пользу некоторой разумности. Строить политику приходится уже не только на сугубо бухгалтерских расчетах и беспроигрышных стратегиях финансовых спекуляций. Теперь уже потребовалось вводить идеологические ограничения, хотя бы какой-то мере обращенные к разумным резонам.
Отсюда отсылка к 4 главе Романа, в которой символ трамвая как раз и означает движение по замкнутым идеологическим рельсам. Нэпманским и тем более западным финансовым жирным котам проезд в идеологически правильном советском трамвае был запрещен даже за деньги – «Котам нельзя. С котами нельзя.» Однако на внешнем контуре советского аппарата, как раз для торговли с западными партнерами, хищному духу наживы удалось-таки закрепиться – чтобы нарастить влияние в позднесоветское время и взять реванш в 90-е.
Таким образом, многоточия в загадочном диалоге мастера с котом отражают достаточно длительный переходный период, когда сами североатлантические элиты никак не могли определиться со своей субъектность – то ли они едины в отношениях с Россией, то ли сразу после демонстрации видимого единства раскалываются надвое-натрое, чтобы успеть раньше конкурентов вступить в разумный диалог и получить только себе возможные дивиденды от демонстративно единого давления.
46. «Не брат ты мне…»
Черных котов везде традиционно недолюбливают, не доверяют. Так что и они склонны отвечать взаимностью, о чем и поведал Бегемот мастеру в ответ:
– Я, – подтвердил польщенный кот и добавил: – Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят "ты", хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.
Поскольку это продолжение диалога, то и толкование должно быть в том же контексте взаимодействия надличных духов, вдохновляющих субъектов глобальной политики. В этом геополитическом смысле, где хищный дух наживы однозначно ассоциируется с англосаксонской цивилизаций, нет ничего проще такого истолкования. Британский жирный кот, вообразивший себя царем зверей, сам давно уже об этом сказал устами своего первого министра Пальмерстона: «У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы».
Тем не менее, вопросительно-неопределенное наречие почему-то призывает нас обязательно найти ответ в самом Романе и, возможно, в литературных первоисточниках. Завершающее слово брудершафт (братство по-немецки) указывает германское направление возможных поисков. То есть из первоисточников возможен «Фауст», но там братство или братия есть лишь в переводах, а в оригинале Bruderschaft не встречается. Так что остается искать в тексте Романа. Здесь слова немец, немецкий нашлись в начальных главах и относятся к подозрениям Иванушки насчет профессора Воланда. Эта ассоциация вряд ли нам поможет в понимании разговора мастера с котом.
А вот слова германцы, германский нашлись в той самой 2 главе, где Иешуа в беседе с Пилатом почему-то поинтересовался, кто искалечил Марка Крысобоя. Тем самым наша догадка из предыдущей главы о параллели этих двух бесед подтверждается, причем мы снова пришли туда же, в середину 2 главы независимым логическим путем. Вежливый опрос Иешуа о причине зверского характера и Крысобоя, и самого Пилата – тут же получает ответ: Это было в бою при Идиставизо, в долине Дев.
Описание битвы при Идиставизо известно из «Анналов» Тацита, хотя понятно, что еще во время триумфа Германика сразу после громкой победы над германцами и их вождем Арминием военная сторона была существенно преувеличена, чтобы перекрыть моральный ущерб, нанесенный тем же Арминием за семь лет до того, в Тевтобургском лесу. Хотя в обоих случаях основную роль сыграли подкуп и предательство, не считая бездарного руководства со стороны самонадеянно зажиревших командующих. В общем и целом, «игра была равна».
Применительно к актуальным политическим событиям отсылка Автора к битве при Идиставизо может означать тонкий намек на похожий и тоже практически бескровный реванш англосаксонской плутократии в отношении финансово-промышленной элиты Германии. Как и две тысячи лет назад, за семь лет до реванша случилось восстание покоренных народов на дальних прикарпатских рубежах империи – тогда римской, сейчас – американской. Вооруженный путч в Киеве выбил из властных кабинетов вовсе не «пророссийских» политиков, каковых в бывшем государстве Украина по факту не было. Премьер Азаров и «донецкие» олигархи были клиентами лондонских и австрийских банкиров, а Янукович через подчинение киевской службы охраны СикретСервис был ставленником крыла Обамы-Байдена. Хотя, конечно, какое-то согласование приемлемости конкретных кандидатур с Кремлем имело место, ибо от газового вентиля зависели доходы «донецких», а значит и венских, лондонских, вашингтонских патронов.
Путч в Киеве был в пользу достаточно широкой коалиции милитаристских ФПГ из США, Израиля, Франции, Германии. Как и восстание в Паннонии в 9 г.н.э., киевский путч и война на Донбассе повлекли существенное отвлечение внимания и ресурсов, которыми так же воспользовались германские сателлиты для высвобождения из-под жесткого контроля Лондона через Брюссель. Сочетание подкупа и осторожного продвижения вслед за отступающим британским обозом привели даже еще более эффектному бескровному вытеснению англосаксов из континентальной Европы.
Семь лет спустя все таже коалиция лондонских менял и вашингтонских финансовых контролеров вернула власть в США, и сразу занялась германскими обидчиками. В долине Дев главными пострадавшими оказались союзники – батавы, как и нынешние брюссельские чиновники, принесенные в жертву в целом бескровного реванша, опять же достигнутого методами политического раскола и подкупа, а также угрозой отсечения противника от торговых путей и источников дохода. И вот уже противник в лице ранее успешной Меркель, как и Арминий, бесславно покидает поле политического боя, отослав в арьергард заведомо проигрышную на осенних выборах команду. В этом, видимо, и состоит скрытый смысл неявной параллели с битвой при Индиставизо. Версия этимологии этого названия как долины Дев тоже намекает на женский состав лидеров борющихся германских партий.
Всем известная любовь Булгакова к игре слов побуждает нас изучить брудершафт и с этой стороны тоже. Иногда какое-то событие зашифровывается в виде значащей анаграммы, как аплодисменты для олимпиады. Иногда на загаданное значение указывают общие начальные и конечные буквы, как Фагот намекает на Фауста. В нашем случае есть еще прямая ассоциация брудершафта с римско-германским тостом «Прозит!» Так что актуальное слово «Брекзит» вполне подходит по политическому контексту.
Впрочем, если пройтись по вполне уместному «Фаусту» более внимательно, там есть одно вполне релевантное место:
Chor.
Jeder Bruder trinke, trinke!
Toastet frisch ein Tinke, Tinke!
Sitzet fest auf Bank und Span,
Unterm Tisch Dem ist’s gethan.
Краткий авторизованный перевод общего хора: «Пейте, братья, вместе пейте, свежего еще налейте! Празднуй, сидя за столом, под стол ща скоро упадем.»
После чего герольд объявляет выход разных поэтов природы из «зеленых». И просто ласковых, пра-а-тивный! Главная тема творчества – про вампиров. А также объявляют прибытие ряженых граций, фурий, мойр и прочих Дев из античной мифологии. При этом единственный автор, который всему этому рад – это Сатирик. Что тоже соответствует актуальным культурно-политическим реалиям Европы и Запада в целом. Надеюсь только, что мы такое счастье и веселье уже успешно пережили за предыдущие тридцать лет.
Вряд ли при этом нам в России удастся чем-то помочь морально изувеченным романо-германцам, кроме как почти насильно согреть из заполярных источников. Отсылка к диалогу Иешуа с Пилатом, твердо обещавшим не допустить прямого общения философа с подчиненными, вполне соответствует актуальному оруэлловскому состоянию западных и прозападных масс-медиа. Поэтому единственным способом хоть как-то влиять на западные элиты остается всемирно известная русская вежливость. Западные хищники сразу чувствуют себя польщенными особым вниманием и вступают в диалог.
Как раз лет семь тому назад нам удалось найти истолкование вот этой части булгаковского пророчества: «– Куда же вы спешите? – спросил Воланд вежливо, но суховато…». Тогда речь шла о бескровной (сухой) операции российских сил специальных операций, «вежливых людей» по возвращению Крыма. По этой самой причине толкование вежливости при обращении с котами имеет вполне определенный военно-политический смысл. Хотя бы потому, что иного обращения эти довольно осторожные хищники – финансисты просто не понимают.
Поэтому и слово нерешительно в следующей фразе тоже может означать немного иную модальность при актуальном истолковании:
– Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот, – нерешительно ответил мастер, – меня все равно в больнице хватятся, – робко добавил он Воланду.
Здесь нужно еще пояснить разницу между участием Творческого духа истории и философского духа нашей цивилизации. Когда вежливо и суховато отвечал Воланд, речь шла о творении истории, конкретных действиях. Когда же в диалог вступает мастер, то он действует в информационном поле. И на самом деле в российском информполе со стороны отечественных публицистов, аналитиков было высказано множество сомнений в том, что британский лев и его американские родственники сохранили хватку хищника. Очередной мем от Путина про «вырвем зубы» - в общем тоже про это. Но это именно информационное воздействие, потому и нерешительно.
Кроме того, наречие почему-то опять нас призывает искать отгадки в тексте Романа. А там слово нерешительно встречается еще только раз в главе 10 «Вести из Ялты»:
– Ну, уж это чересчур, – дергаясь щекой, ответил Римский, и в глазах его горела настоящая тяжелая злоба, – ну что ж, дорого ему эта прогулка обойдется, – тут он вдруг споткнулся и нерешительно добавил: – Но как же, ведь угрозыск...
Напомним, что Римский у нас финдиректор Варьете, то есть подчиненное западным банкстерам сообщество прозападных системных либералов. В свое перестроечное время, соответствующее 10 главе, эта либеральная внешторговская элита так же злобно относилась к партийной номенклатуре, олицетворяемой Лиходеевым, как сейчас к путинскими силовикам. Хотя разница в хватке и накопленном политическом опыте между путинской и горбачевской верхушкой существенна, но фраза из 10 главы легко переносится в актуальный контекст вместе с постаревшими и утратившими хватку (как та брежневская номенклатура) либералами. Нерешительное упоминание либералами угрозыска сегодня опять стало актуальным трендом, как и до «победы демократии», она же Варьете.
Как и в перестроечные времена, внимание либералов и их западных патронов этой весной было приковано к Крыму, где проходили масштабные военные учения с участием все тех же вежливых людей. По итогам учений не только российские аналитики пришли к выводу, что кот уже не тот, но остальные решительно промолчали.
Как уже не раз замечали, обращение героев Романа напрямую к Воланду означает творческую медитацию и связано с большими праздниками, в нашем случае – с Пасхой, переходящей в День Победы. Нет сомнений, что все проявленные и латентные носители духа русской философии, он же мастер, в эти дни мысленно обращались к вечным символам и памяти предков. В том числе в достаточно робкой надежде, что после достижения глобального компромисса российское общество сохранит потребность в работе возрожденного философского сообщества. Хотя есть и опасения, что таки хватятся нас и вслед за западными «партнерами» опять погрузимся в токсичную атмосферу всеобщего потребительского дурдома, из которой едва успели вынырнуть хотя бы частично. К тому же нынешний глобальный дурдом еще и инфекционную больницу изображает, косплеит.
47. В историю – болезни
Еще и еще раз повторим поговорку: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В 24 главе предсказанные Автором события и без того сверхкомпактно сложены в виде отсылок к аналогиям в других главах Романа или источников. А кроме того, каждое действительно важное событие является узлом масштабного процесса, так что символика пророчества относится к целому политическому сезону.
В прошлый раз еще весной был истолкован «кот никогда ни с кем не пил брудершафта» как политический реванш англосаксонских банкиров-менял над милитаристским крылом глобальной элиты и его главной опорой в Германии. После сентябрьских выборов в ФРГ можно подводить итог этого аналога битвы при Индиставизо. Партийная система ФРГ после информационной атаки пролондонских масс-медиа лежит в руинах. При общем поражении всей немецкой нации говорить о чьей-то партийной победе просто глупо. Так что в Германии под внешним управлением теперь не только армия, валюта, масс-медиа, но и партийно-политическая система, и даже вожделенный газовый хаб блокируется извне Брюсселем по заявкам поляков для вящего унижения тевтонов. Если это не политический разгром, то что тогда так называется.
Разгром и подавления остатков влияния правого крыла глобалистов проявился и в других узловых точках – от вытеснения Франции с оружейного и уранового рынка до закрытия финансовых черных дыр в Афганистане. Однако нас, как и Автора, интересует проекция этой глобальной битвы на российскую политику, также проявленная в ходе предвыборной кампании и ее итогов, разгромных для прогерманского фонда, пытавшегося активно играть на оппозиционном поле через известный проект УГ. На всеядный красно-буро-голубоватый характер этого проекта как раз и намекает следующий пассаж из 24 главы:
– Ну чего они будут хвататься! – успокоил Коровьев, и какие-то бумаги и книги оказались у него в руках, – история болезни вашей?
– Да.
Коровьев швырнул историю болезни в камин.
Вопросительное чего обязывает искать значимое слово хвататься в тексте книги. Слово находится еще один раз в эпилоге и указывает на образ конферансье из Варьете. Еще в «MMIX» Бенгальский был нами разоблачен как аватар право-левой оппозиции, критиковавший фокусы Коровьева (аватара политической администрации в Кремле) с червонцами (приватизационными ваучерами номиналом в 10 нынешних рублей). Влияния полосатой как бенгальский тигр «красно-коричневой» оппозиции, которой быстро свернули голову осенью 93-го, хватило только на скептический конферанс.
Вот и в этом году перед выборами в среде политических аналитиков, просто обязанных хотя бы отчасти быть философами как мастер, высказывались оценки роста политического влияния оппозиции и прежде всего КПРФ за счет протестных настроений и перетока к ним либеральных и правых протестных голосов. Проект УГ как раз и был направлен на мажоритарные округа в столицах и мегаполисах в пользу оппозиционеров от правого условно прогерманского крыла. Однако по итогам выборов победило торгашеское крыло внутри самой КПРФ, а политическая администрация (Коровьев) нашло способ успокоить политическую систему, как и философствующих наблюдателей.
Что касается истории болезни, то аватар философского сообщества, долгое советское время находившегося в клиническом состоянии, сам в 13 главе разъяснял характер заболевания: – Да, хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас. Болезнь эта названа прямо, без иносказаний – страх. Для надежности Автор еще и продублировал эту мысль в параллели со словами Иешуа, переданными Пилату: Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.
И в самом деле, разве может быть настоящим философом человек, одержимый страхами и прочими предрассудками общества? Роль философа как раз в том, чтобы эти страхи и предрассудки бесстрашно рассеивать. Пусть даже порой ценою жизни или физической свободы, но сохраняя свободу мысли.
Таким образом, говоря об истории болезни, Коровьев имел в виду историю страха и несвободы гуманитарной научной мысли, которая на самом деле имела место при советской власти. Достаточно вспомнить трудные судьбы русских философов Лосева, Флоренского, Льва Гумилева, а также полное отсутствие советских философов. Ну не считать же таковыми действительно хороших историков философии или одержимых русофобскими страхами многословных графоманов из национальных республик.
Символ камина как телевидения мы тоже давно истолковали. Тот факт, что в политической администрации тоже всерьез опасались усиления красно-бурой оппозиции, подтверждается срочным производством и выходом к осени на экраны десятков телевизионных и кинофильмов о репрессиях советского периода. Даже в фильмы о войне, призванные быть патриотическими, обязательно нужно включить тему чекистских репрессий. В общем, прямо скажем, неоднозначный тренд со стороны либеральных продюсеров не только против радикалов в оппозиции, но и против консерваторов во власти. К тому же раскрутку истории репрессий подкрепили пусть и информационными, но репрессиями в отношении информационного штаба оппозиции и самого труффальдино, работавшего на проигравшее крыло элит – и западной, и местной:
– Нет документа, нет и человека, – удовлетворенно говорил Коровьев, – а это – домовая книга вашего застройщика?
– Да-а...
– Кто прописан в ней? Алоизий Могарыч? – Коровьев дунул в страницу домовой книги, – раз, и нету его, и, прошу заметить, не было. А если застройщик удивится, скажите, что ему Алоизий снился. Могарыч? Какой такой Могарыч? Никакого Могарыча не было. – Тут прошнурованная книга испарилась из рук Коровьева. – И вот она уже в столе у застройщика.
В части формальной отмены регистрации юридического лица и более того – фактического выключения сообщества оппозиционеров-двурушников из российского информполя эта часть пророчества тоже однозначно сбылась, окончательно – после провала технологии УГ на выборах. Впрочем, для того эту технологию двурушники ранее и испытывали на малозначимых региональных выборах, чтобы успеть найти противоядие к более значимым федеральным выборам.
Однако кроме предсказания знаковых политических событий символика Романа должна отражать и более глубинный философский подтекст. Вряд ли многократное повторение слова «застройщик» отражает только резкий рост упоминания этого слова в мировых масс-медиа в связи с проявлениями мирового финансового кризиса и усилением чрезвычайного режима управления финансами и ресурсами в новом 2021/22 финансовом году.
Очень хотелось бы верить, что и сжигание истории болезни в телевизионной топке имеет не только формально знаковое, но и глубинное содержание в освобождении русской философской мысли от сковывавших ее самоограничений.
48. Кто такой застройщик?
Среди персонажей Романа, принявших участие в судьбе мастера и его тайной жены, числится некий безымянный застройщик. Когда Автор устами Коровьева многажды повторил обращенный к нам вопрос «Кто такой Могарыч?», был трижды упомянут и застройщик. Вероятно, для полного ответа на вопрос о современной реинкарнации Иуды нужно выяснить хоть что-то и о его арендодателе.
Впервые застройщика представил Ивану и нам мастер в 13 главе:
Выиграв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так: купил книг, бросил свою комнату на Мясницкой...
– Уу, проклятая дыра! – прорычал гость.
...и нанял у застройщика в переулке близ Арбата...
– Вы знаете, что такое – застройщики? – спросил гость у Ивана и тут же пояснил: – Это немногочисленная группа жуликов, которая каким-то образом уцелела в Москве...
Нанял у застройщика две комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате.
Немного ниже в той же 13 главе речь пойдет о первой встрече мастера и Алоизия. Вероятно многократное повторение вопроса о Могарыче в связи с застройщиком и его домовой книгой нацеливает нас истолковать именно этот эпизод:
Так вот в то проклятое время открылась калиточка нашего садика, денек еще, помню, был такой приятный, осенний. Ее не было дома. И в калиточку вошел человек. Он прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство.
Ничего особо значимого, если смотреть на внешний обыденный смысл слов любовного Романа. Однако наш Автор говорит языками. То есть каждое слово имеет два разных смысла в обыденном словаре и в символическом библейском истолковании. Тогда место встречи заиграет совсем другими красками, ближе к иконописи, чем к жанру городского пейзажа.
Давние читатели еще со времен «MMIX» должны помнить, что дом в библейских, евангельских, а значит и булгаковских иносказаниях означает личность, в которой обитают личные ипостаси – pnevma, psyche, soma (дух, душа, тело), иносказательно олицетворяемые мужем, женой и какой-либо скотиной. Помните, жилец первого этажа оказался боровом – это и есть подчиненная деятельная ипостась личности.
Как выяснила для себя современная наука недавно, а древние религии – давно, кроме личных ипостасей в доме вокруг него обитает немало надличных сущностей – архетипов. По всей видимости, символика сада имеет значение бессознательной части психики. Дом и сад составляют единое целое в управлении застройщика.
Сам застройщик, кстати, тоже пребывает где-то здесь же. Мастер рассказывал Ивану о своем кризисе: «Я вскрикнул, и у меня явилась мысль бежать к кому-то, хотя бы к моему застройщику наверх.» Согласно евангельской антропологии апостола Павла (Автор не может ей не следовать), наверху, над мужем и женою есть две божественные ипостаси:
Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. /1Кор 11,3/
Кроме того, разговор мастера с Иваном в клинике является продолжением другого разговора с Иваном на Патриарших. А там Воланд пытается Ивана переубедить словами:
– Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
И так далее про план хотя бы на тысячу лет. Выходит, это один и тот же вопрос Воланда Ивану и наш вопрос о застройщике – хозяине дома и сада?
И в самом деле, разве может человек сам выстроить свою личность, пусть даже при помощи родителей и учителей? Хотя классическая гуманитарная наука, олицетворяемая в Романе Берлиозом, именно так и думала – что личность определяется сугубо воспитанием и обучением. Однако с тех пор много воды утекло в диссертации, понятия об архетипах и о коллективном бессознательном все же пришлось признать. Пусть даже без необходимых выводов из их наличия.
Вернемся к моменту знакомства мастера и его друга в саду у дома. Что означает для мастера: «Ее не было дома»? Но при этом сам дом уже был, и в нем уже обитали и муж, и жена, пусть даже тайная. Про холостого Алоизия можно утверждать, что это надличный дух, не имевший личного воплощения на момент встречи с мастером. Для мастера как духа временное отсутствие жены означает всего-навсего ночной сон, когда творческая ипостась личности имеет возможности выйти в сад своего бессознательного, для общения с надличными сущностями.
Например, молодой писатель Ал-й М-ч, вернее его дух, побуждаемый неудовлетворенными амбициями своей души, в своих бессознательных поисках вполне мог найти друга, альтер эго. После внутреннего диалога проснулся утром с полным осознанием бесперспективности обычного писательского пути. Так что духу идеологии оставалось только соблазнить литератора выгодной политической конъюнктурой. а потом вытеснить дух мастера из его дома - личности, превратив в функционера от идеологии.
Однако душе нашего мастера, ежедневно поутру возвращающейся в его дом, этот дух-соблазнитель совсем не понравился. Кроме того, у знатного идеолога А.М.Горького видимый масштаб личности, его политический статус – точно не подходит под эпитет «маленький домишко». И кроме того, литературный генерал так и помер конъюнктурщиком, никуда Алоизий из его дома не улетал.
Так что маленький с виду дом из Романа – это иносказание личности другого мастера, применительно к времени написания Романа – самого Булгакова. Ему тоже не чужд был дух политической конъюнктуры, хотя и иного направления. Приходилось подрабатывать на личную разведку вождя, как и другим членам тайного литературного общества «Атон». И когда по заказу Р. Бартини писал пьесы про белую гвардию, и когда помогал коллегам по «Гудку», а попросту писал за них романы про О.Бендера. Однако его амбициозной душе такая дружба точно не нравилась.
Я вам больше скажу. Амбициозный дух конъюнктуры, это «второе Я» является частью личного бессознательного любого из нас, начиная с дуалистической фазы, когда Подъем личности сменяется Надломом. И в этом смысле «альтер эго» действительно заходил по делам к застройщику, поскольку это соответствует плану развития любой личности. Любому мастеру, чтобы найти свой творческий путь к читателю, нужно учитывать состояние общества, включая политическую конъюнктуру. Но это не значит, что нужно становиться конъюнктурщиком, предавая самого себя и всех ближних.
Поэтому все это в полной мере относится и к нашему времени. И сейчас есть личности, полностью подчинившие себя политической конъюнктуре, которая раз за разом заставляет предавать все лучшее в себе ради сомнительного удовольствия быть притчей во языцех. И в наше время философу, чтобы накопить личный опыт, нужно дружить с конъюнктурным альтер эго, возможно – тоже писать фельетоны и статьи на заказ, или подрабатывать консультантом на выборах. Есть все же разница – наполнять корыстной конъюнктурой свои произведения или же продвигать свою философию в чужие статьи, выступления или иные конъюнктурные формы.
Был ли сын плотника Иешуа великой личностью для своего общества? Нет, он был одним из «малых сиих», пророком без почестей в своей семье и своей стране. Малый домишко с выходом в большой сад. Только в евангельских притчах застройщик назван хозяином. Там тоже в притче о неверном управляющем домом временно управляет альтер эго. Так что и в московской параллели маленький домишко застройщика – это личность одного из сих меньших, безвестного и безымянного мастера.
В общем, пока все логично, но осталось только понять, почему московские застройщики названы уцелевшими жуликами? На первый взгляд, речь об одном и том же. Но все же формально это два разных слова – застройщик и застройщики. К тому же есть нюанс, значимый для Автора – применено вопросительное местоимение единственного числа «Что такое?», а не «Кто такие?». То есть речь не о субъекте, а о явлении, стихийном и неодушевленном.
Мастер заменяет Воланда в 13 главе в последней версии рукописи Романа в конце 1930-х. В этом актуальном контексте у символа застройщики есть вполне понятное истолкование. До второй половины 1930-х при власти существовала целая плеяда (свора – из газет 30-х) троцкистских деятелей или просто видных конъюнктурщиков как Горький с Андреевой. Они всерьез или просто громко ставили вопрос конструирования «нового человека».
Опять же народишко им попался не тот, не вписался в громадье социальных прожектов. Приходилось коллективно брать на себя высшие функции управления строительством личности, де факто провозглашать себя богоравным субъектом. Однако, как и в других исторических случаях проявления антисистемы, политическая практика «добрых людей» весьма скоро приводит к яростной грызне и их самоистреблению в борьбе за влияние и власть. Так что в конце 1930-х Автор уже мог написать ремарку: Это немногочисленная группа жуликов, которая каким-то образом уцелела в Москве...
Впрочем, и в наше время неотроцкистская глобалистская элита, эти «добрые люди» с хорошими лицами и генами снова взялись за свои эксперименты. Опять пытаются сконструировать безмозглого, бесполого и послушного им гомункулуса. Одно радует, что все это происходит на дичающем Западе, а в Москве остались лишь немногие уцелевшие жулики из этой своры.





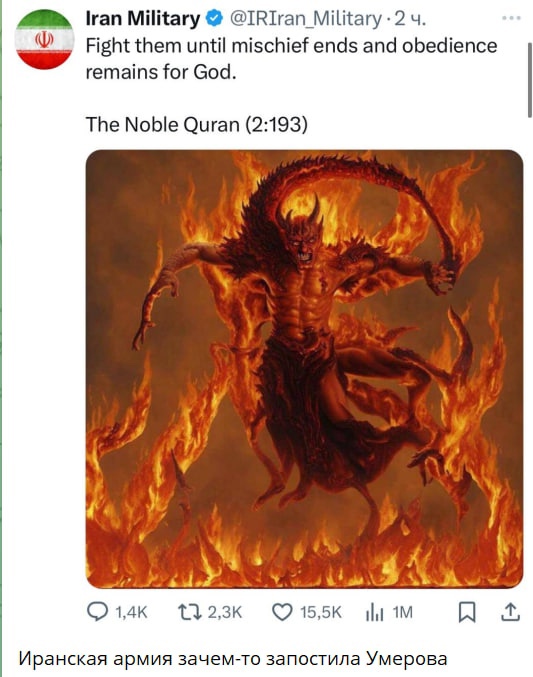
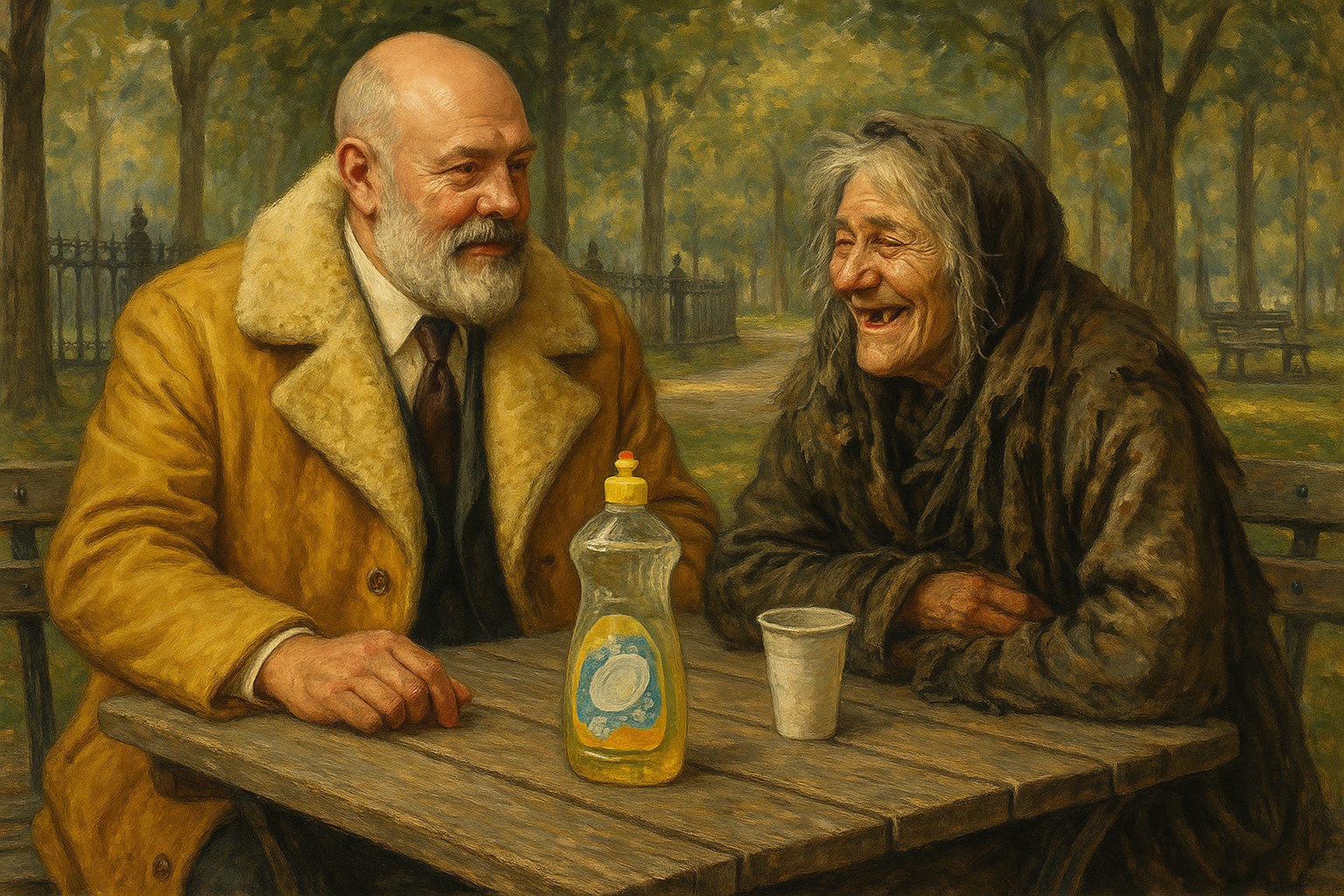




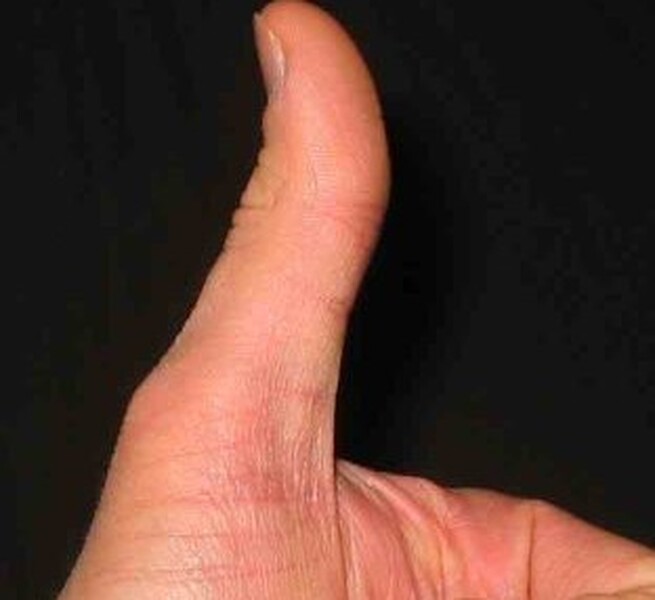


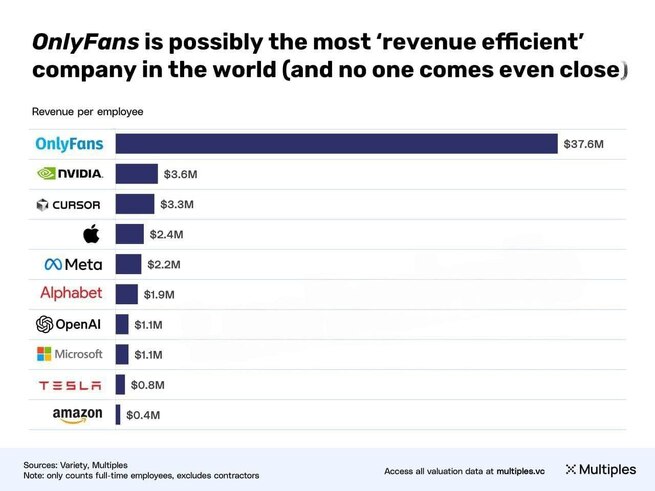










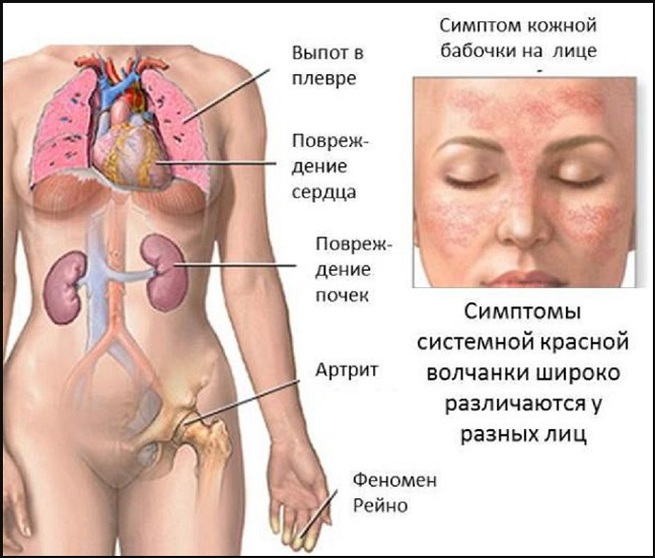


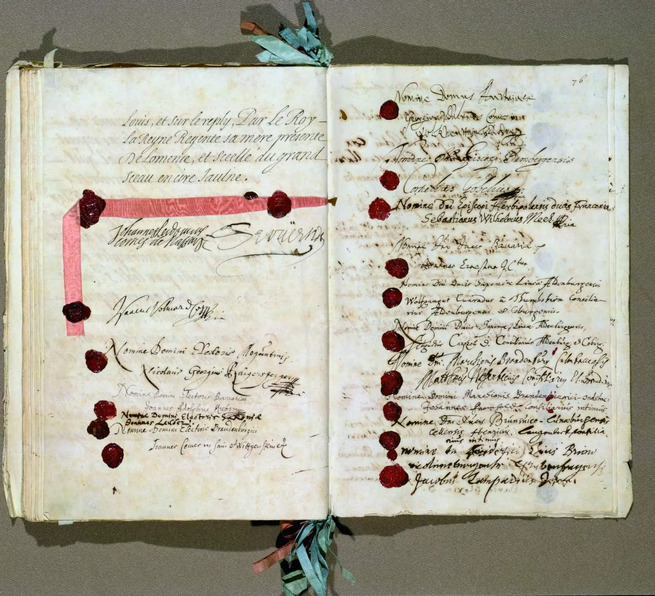


Оценили 16 человек
31 кармы