Мы с подругой спустились в длинный подземный переход из жары в прохладу, и пошли медленно-медленно, отдыхая от зноя. Впереди маячила худая, высокая, длинноволосая фигура с гитарой. Он что-то пел, опираясь на стену, и положив перед собой чехол от гитары для пожертвований.
Гитарист лет 30-ти был весь на понтах. Чёрные густые длинные волосы не просто рассыпались по его плечам и свисали почти до пояса. Часть из них была заплетена в две косички. А другая часть, аккуратно завязанная под резиночку, образовывала на затылке кулю, какие можно наблюдать в прическах светских дам и древних старушек.
- Интересно, что может петь это чудо с косичками,- спросила я свою подругу.
- Да, что-нибудь вроде: «Ты ушла, и я ушел. И тебе и мене хорошо».
Когда мы поравнялись с ним, он пел финальный куплет какой-то песни, это чувствовалось по нарастающей мощности звука гитары и его голоса.
Я бреду по бездорожью, мысли рвутся как в бреду,
Каждый шаг неосторожный мне из радости в беду,
Будто в плен, или на волю должен долю выбрать я,
Чьей судьбы, любви и боли мне откроются края.
Вот те раз… Это была песня Константина Никольского из нашей молодости.
И что-то тихо защемило в груди…И почему-то вспомнился хутор Орехово, где мы были на уборке хлеба, и где я впервые увидела настоящую Степь без конца и без края. И поняла, что Степь – это такая же стихия, как море-океан, или непроходимый лес, или вздыбленные складки земли – горы. По степени воздействия на мои органы чувств это было также захватывающе и незабываемо.
Не зря ведь даже Гоголь, мастер льющегося слова, про степь смог сказать только семь слов: «Чёрт вас возьми, степи! Как вы хороши!»
Когда я пришла домой, рука сама потянулась к томику Чехова, открыла мою любимую «Степь»… и я зачиталась…, зачиталась до слёз… от осознания совершенства и высоты мастерства владения им художественным Словом.
«…Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...»
«…Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью — я, мол, готово — и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце».
«…И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!»
«…Одному человеку бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три... Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче....»
«…Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе...»
«…Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие, черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром.»
«…— Свят, свят, свят... — шептал он. Вдруг над самой головой его со страшным, оглушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки.
«…Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людями по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе, Егорушка!»
Боже мой, как хорошо! …
У Чехова, всё, на что падает его внимание, одухотворяется и становится живым, трепетным, дышащим и объёмным. Люди, звёзды, трава, ночная птица, гром, молния, капли дождя и даже придорожная пыль – всё оживает и становится одушевлённым только от одного соприкосновения со взглядом мастера.
Вот так и происходит чудо. Прямо у читателя на глазах…
Скучная, бесконечно длинная, выжженная степь встает перед нами, как спящая красавица из хрустального гроба, как бы говоря нам, что даже самая унылая жизнь может быть сказочно прекрасна.
А вот песня Никольского, сделавшая мой сегодняшний день.












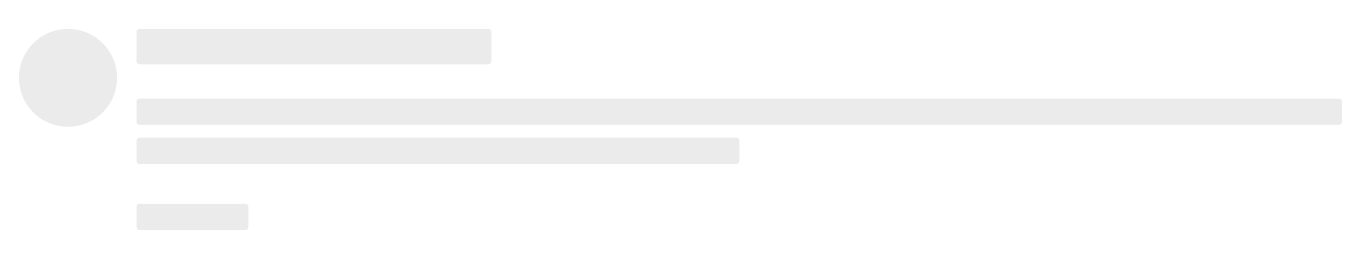





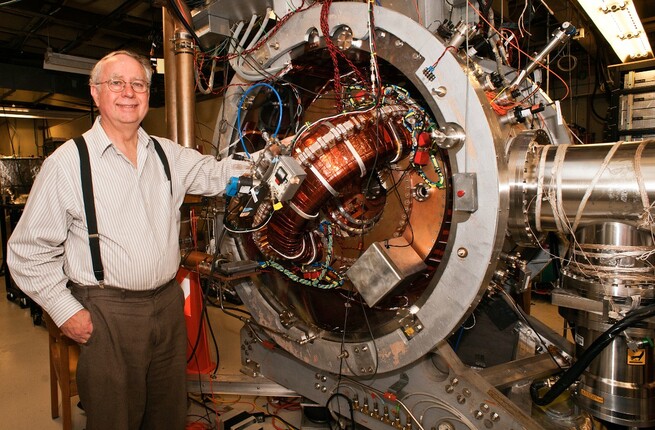







Оценили 14 человек
32 кармы