
Френдесса domestic-lynx вспоминает поздний СССР, заграничные командировки и импорт:
Попросту говоря, массовая и беспрепятственная езда тогда ещё советских людей за границу началась где-то в 1989 г.
Вышло какое-то послабление, отменили т.н. выездные визы, стали выдавать желающим загранпаспорта – ну народ и потянулся.
А в советское время, в эпоху Застоя, посещение Западной Европы или США, всё равно в каком качестве, было свидетельством жизненной состоятельности.
«Из заграниц не вылазит», — такая была в те времена была восхищённо-завистливая похвала удачливому карьеристу.
Работать сколь угодно мелким служащим в МИДе (хуже – во Внешторге) означало, как выражаются итальянцы, прикоснуться к звёздам.
В наши дни, бывая изредка в мидовской высотке на Смоленской, где всё пристойно отремонтировано, а в полуподвале устроен базарчик, — так вот прогуливаясь по этому базарчику, я неизменно поражаюсь прихотливости фортуны: вот сюда, в это здание, люди когда-то мечтали попасть, как истинноверующий в рай.
Я же в начале 80-х недолго служила во Внешторге. Там народ не работал и не жил – он ждал. Ждал поездки в т.н. «длительную командировку» — на несколько лет за границу.
«Х. уехал в длительную командировку во Францию» – «А сколько он ждал?» — этот речевой оборот я услышала только поступив туда.
В романе Юрия Трифонова «Старик», очень модном в 70-е-89-е годы и, считалось, очень смелом, был персонаж, впрочем, второстепенный, – работник Внешторга, карьерист. Этот герой ценой адских интриг и хитростей добивается длительной командировки в Мексику. И лететь ему придётся через Париж, и он сможет там задержаться дня на два – вот оно, советское счастье!
Люди попроще – всякие там моряки загранплавания, дальнобойщики, стюардессы – те рвались на Запад за шмотками: и самим приодеться-приобуться, и, главное, привезти и толкнуть. Эти люди имели прямой взгляд на вещи и понятные цели.
Интеллигенты сами себе в таких простых желаниях не признавались. Обычно они считали, что хотят увидеть своими глазами то, о чём они лишь только читали, походить по «святым камням Европы», поговорить (кто умел) на иностранном языке… Да и вообще, как мне, «европейски образованному интеллектуалу», прилежному читателю журнала «Иностранная литература», не ездить в Париж и в Рим?
В конце концов, поездка за границу – это духовный и интеллектуальный рост, а я хочу расти, чёрт побери! А мне не дают проклятые большевики. И вообще я хочу везде бывать, я хочу видеть мир!
Это ощущение выразил Евтушенко в известном стихотворении:
Границы мне мешают…
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса,
Нью-Йорка.
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
со всеми говорить —
пускай на ломаном.
Мальчишкой,
на автобусе повисшим,
Хочу проехать утренним Парижем!
На самом деле, это, конечно, интеллигентский самоблеф (словцо, придуманное замечательным знатоком застойной интеллигенции Юрием Трифоновым).
Никто не беспокоился, что он не был на Байкале или даже вообще в Сибири (вот я лично – не была). Что не был на Памире или на Алтае. А также не работал на стройке, не служил в армии и уж тем более не участвовал в боевых действиях. А ведь всё перечисленное – очень расширяет сознание и способствует культурному и духовному росту.
Духовно и информационно обогащает всё: работа в стройотряде и служба в армии. Но не нужно нам такого роста… нам подавай Париж – «отечество мысли и воображения».
Для тех, кто не протырился за границу, был импорт.
Сегодня к слову «импорт» возвратилось его исконное и свойственное другим языкам значение: ввоз товаров из-за границы, т.е. это отглагольное существительное. В Советском Союзе брежневской поры это слово означало не действие по ввозу товаров, а сами товары – дивные, сияющие, желанные, нездешние, как перо Жар-птицы.
Импорт, дивный импорт!
Более мечта, чем реальность, потому что в реальности западных потребительских товаров было в обиходе очень мало. Их надо было не покупать, а – доставать. Но, следует заметить, те, которые всё-таки доходили до наших палестин, были очень высокого качества. Иногда попадавшиеся итальянские туфли, одежда – всё очень хорошее.
Забавно, что мой отец рассказывал, как в 60-х годах он нередко покупал итальянские ботинки в универмаге в посёлке, где я сейчас живу (универмаг жив и поныне): какое-то количество этих ботинок туда привозили, а селяне их не ценили. Много лет спустя для меня было своеобразным открытием, что в Италии встречается и дрянноватая одежонка.
Были и валютные магазины «Берёзка», теоретически для загранработников (тоже термин той поры), которые там заработали валюту. Но иностранные деньги ввозить было нельзя, и их меняли на т.н. чеки, а на чеки уже покупали.
Чеки на чёрном рынке шли один к двум. То есть товары, недешёвые сами по себе, оказывались неимоверно дорогими. Но покупатели находились.
У советского обывателя прочно укоренился в сознании образ достойной и счастливой жизни: это жизнь в окружении импорта.
Помню описание квартиры одной из них: там нет ни одной советской вещи – завистливо доносит журналист. Такой был идеал жизни.
Простые люди хранили какие-то заграничные безделушки, даже банки-бутылки.
Помню, когда-то мне подарили бутыль amaretto di Saronno. Дивный, как казалось тогда, напиток, циничные люди называли его «бабоукладчик», и не зря, вероятно, называли. Потом, через много лет, уже в новое время, привелось мне опять попробовать это самое амаретто: неимоверная дрянь, подслащённая парфюмерия.
Потом ещё был какой-то ликёр, забыла название: сгущёнка, растворённая в самогоне.
Но это сейчас, а тогда… Это был дивный вкус недоступной жизни. И с этим нелепым напитком было принято как-то особым образом носиться.
А ту бутыль я сберегла и хранила в ней подсолнечное масло. Я жила тогда в районе Арбата и ходила в Смоленский гастроном, а там стоял автомат, который за 50 коп. наливал в подставленную бутылку порцию подсолнечного масла – видимо, пол-литра, т.к. вряд ли бутыль из-под амаретто была литровая.
Ну а кому не досталось дивного напитка – хоть кофеёчку выпить в отстроенном на рубеже 70-х и 80-х годов Центре Международной Торговли на Красной Пресне, где бесшумно ходит стеклянный лифт и воткнуты настоящие берёзки а la russe c пластмассовыми листочками.
Зайти туда просто так, с улицы, не дозволялось, только по делу: на встречу какую-нибудь или на семинар. И вот тут-то иностранцы или какие-нибудь там руководящие товарищи непременно приглашали испить кофеёчка – и это был не просто пустяковый эпизод, а выражение сопричастности высшей жизни.
Такова была атмосфера, этим дышали.
Материал: https://domestic-lynx.livejournal.com/110032.html
ИСТОЧНИК: https://atnews.org/etim-dyshal...





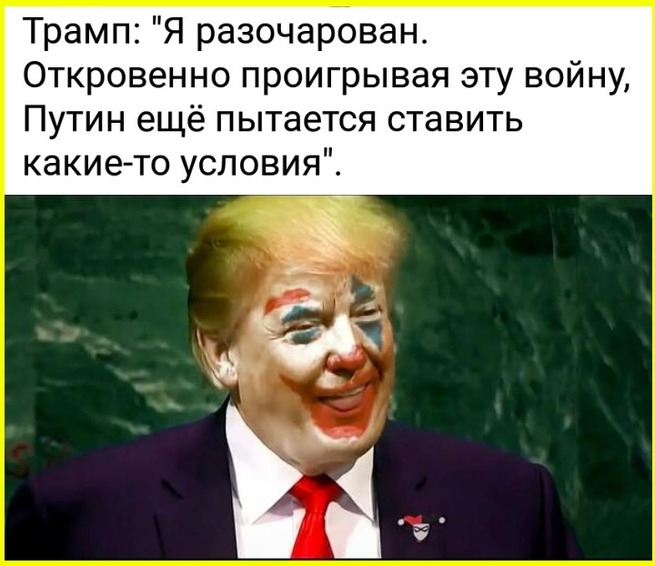
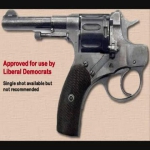


Оценили 7 человек
12 кармы