
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.
А. Пушкин

Подъезд был угловой, старый и затаённо-влажный, каким он всегда и помнился. Мужчина сидел на лавочке, смотрел. Позади было то, что звалось когда-то двором, а нынче, уходя и растворяясь в пустотах между легковесных многоэтажек, сделалось ничьим междомьем для проходящих. В этот подъезд мужчину внесли из родильного дома и в тот подъезд (уже можно было утверждать наверняка) ни при какой погоде он не вернётся никогда.
‹Вот так вот‚ — повторял про себя мужчина, — вот так!..»
Белобрысенькая, утомительно шустрая его дочка лазила здесь же поблизости, среди подкопчённых деревянных строеньиц, предназначенных якобы для детской игры, но в сущности бутафорских и неудобных для неё. У соседней лавки без пригляда стояла коляска с младенцем — наверное, его бабушка или мать отлучились ненадолго по какой-нибудь необходимости. Дочь то и дело подбегала к младенцу и с вопросительной, слегка усмехающейся женской улыбкой, заглядывала внутрь коляски, поднимаясь на цыпочки.
— Ты стё? Ты стё? Стё смотрись! — улыбалась она.
Собравшись с духом, мужчина взял наконец девочку за руку и повёл её в подъезд.

Лестница была та самая, с широкими пологими ступеньками, и мужчина хлопал ладонью по довоенным мощным перилам, без радости, как чужое, узнавая нечёткие фигуры оленей, выбитых на чугунных их кругах. Аляповатые и грубые, они казались ему раньше красивыми эти рогатые олени, торжественными, немножко таинственными.
— Здесь! — остановился он у дверей на четвертом этаже. — Вот здесь, доча, мы и жили.
— Кто’! Кто зил?
Пальчики девочки шевельнулись в его повлажневшей ладони.
— Бабушка, дедушка, твой папа и тети.
— А давай зайдём к бабуське! — предлагая новую игру, засмеялась тоненько девочка.
Он представил себе коридор, двери к соседям, ванну, туалет и напротив туалета плохо почему-то различимую, подмытую в памяти дверь т у д а, «к бабуське», представил пол — длинные толстые доски с выщербленными окаёмами краски между щелей. Можно было что-то придумать — сказать например, что соседей снизу нет, а мы по обмену, по объявлению и разрешите, если можно, если вас не затруднит, взглянуть. Да врать было отчего-то затруднительно сейчас, не к душе.
— Пойдём, — позвал, потянул он за руку девочку. — Пойдём-ка обратно, доча. Хватит нам с тобой.
Спустились, и первое, что увидел мужчина, оказалась белая торцевая стена дома, заступавшего в бывший ею двор‚ — глухая без окон и дверей панельная стена, за которой по совпадению жила ею другая, оставленная десять лет назад старшая дочь.
— Знаешь, кто тут живет? — кивнул мужчина на стену.
— Да-а! — закричала, заподпрыгивала от радости девочка. — Знаю! Пойдём-пойдём к ней, папа, сяс зе!
Он вернулся в город с полгода назад, а на это дело — соединять дома, свой бывший и новый, где жила Старшая, отваживался в первый раз. Проходя он ощущал до сегодня дома по отдельности — дом справа и дом слева, тот или этот, а нынче, сейчас вот, ухватясь за парашютное кольцо ручки Младшей, он решил всё-таки попробовать — соединить. Человек рождается чистым — вынужденно согласился он с чужими не понятными раньше словами, — и в том дарованная ему небом натура. Но окружающий мир подступает к человеку и зарождает в нём желания — любовь и ненависть, которые не имеют предела. И окружающий мир подступает к человеку, и человек истощает себя в желаниях.
— Вот тут, доча, и тут, — объяснял он зачем-то дочери, — стояли бараки, а тут гаражи, а тут забор,
— Папа, а мы зайдём? — дергала, тащила его за руку девочка к панельному дому, — зайдём к ней?
Но «папа» сказал — нет, они не зайдут. Старшая уехала трудиться в трудовой лагерь, объяснил он, и заходить потому бесполезно,
Старшей, когда он её оставил, было столько же, сколько скоро исполнится Младшей. Для облегченья он придумал тогда себе, что в этом возрасте, возрасте детской гениальности, она как-нибудь догадается про его уезд, не осудит строже, чем он заслужил, и, приезжая, виделся потом с нею раз за разом, и это была одна голимая бесконечная мука, но он всё равно ездил, приезжал, заставляя себя, и, встречая, говорил вязнувшие в зубах, внешние ненужные им обоим слова, чуть не нарочно терзал и загонял себя в угол — да-да. это моя дочь, говорил он себе тогда, её пальчики, и её голос, и её мягкие лучшие на свете светло-русые волосы, и я, думал он, это я, я, я оставил её — я!
Он ждал её обычно где-нибудь в школе — тоже по совпадению в той, где учился когда-то сам, И, дождавшись и увидав, поражался всякий раз неожиданной и избыточной, как казалось ему, хрупко-прозрачной её, его дочери, красоте, её неисполненной, ускользающей всё куда-то близости, а потом, позднее, когда народилась Младшая, он, невольно сравнивая, пугался больше и больше сходству. И смех, и нежная тень в ямочках, когда они, его дочери, улыбались ему, и чуть прячущееся радостное или, напротив, грустно-укоряющее любопытство в слегка продолговатых косульих глазах. Иногда казалось, что это одна такая девочка-дочь, что крутится вперёд-назад одна и та же запутавшаяся киноплёнка, возвращает знакомый, разве чуточку подновлённый, но узнаваемый по ознобу, по холоду в животе мучительный сладкий сон. Сон его жизни. И, (как и надеялся он в глубине души) чем быстрее подрастала-взрослела Младшая, тем легче, посильней становилась ему его память и даже тот её, тот тяжкий и самый неподъемный её миг, когда он стоял, задрав голову в подъезде Старшей и слушал, как бегут, убегают, убывают от него, топоча по ступеням, её сандалики, и, неожиданно нащупав в кармане им самим надписанные конверты — жалкая, так и не осуществившаяся уловка ‹переписки», он крикнул, позвал её с середины пути, выкрикнул на весь подъезд им же когда-то придуманное имя, и она, послушная девочка, вернулась к нему и, не взглянув, с той же добросовестной сосредоточенностью бега, не взглянув, не приостановившись и не переведя дыхания, забрала из его руки конверты и снова, с нуля, повторила ужасный, невозможный, добивающий его до мокренького, пробег.

Дверь наверху бахнула, осела, опустилась на ступени какими-то чёрными хлопьями тишина и в стылом, пустопорожнем подъездном молчании и изведалось им тогда н е ч т о, растворённо-скрытый до поры замысел собственного его существования, а может быть и не только его. Это было, показалось ему, дно жизни, до которого, говоря торжественно, он сподобился донырнуть
— Ну пап, пап! — канючила, волоча его за руку Младшая.— Ну позялуйста, ну зайдём, ну пап!
Он уступил. Так, из экономии сил, чтобы просто не спорить с ней. И они очутились в подъезде, в узеньком и игрушечно-несерьёзном, как и вся эта новая, по ощущенью мужчины, скороспелая, скомканная и не сознающая себя жизнь, и его Старшая, кто б мог подумать, оказалась дома — в лагере труда и отдыха осуществлялась как раз пересмена.
Неохотно, но всё-таки Старшую отпустили с ним и Младшей, разрешили погулять в парке час, и теперь, втроём, они доехали троллейбусом до парка, до карьера, до камней и сосен вокруг него, до лёгкого и чистого ещё песочка, из которого, присев на корточки, Младшая тотчас выстроила им всем Дом.
— Вот, — объяснила она Старшей, завершая работу, — мы будем зесь зить. Ты, папа и я. — грязным пальчиком указала поочередно будущих жильцов — ты, он и я. — Я — строительница Младшая, населяющая дома по собственному усмотрению.
Старшая, когда выбирались наверх, поднималась первой, и он её отец, видел, как чуть плоскостопо, чуть слабосильней, чем ему хотелось бы, подвернулась, соскользнув с камня её нога, и это тоже было, конечно, к н е м у — к нему, но он — он справился и, когда подъём был позади, спустил с рук на траву Младшую и напоследок оглянулся назад, вниз. Он хотел запомнить место, где отныне будет стоять их общий на трёх членов семьи дом. Вода в тени карьера мелко рябила от ветерка, а на солнце была гладко-прозрачной, серовато-голубой, как глаза его красавиц-дочерей, а слоистые коричнево-серые камни, укутанные снизу в нежно-зелёный мох и изогнутые маленькие сосны, — отдалённо походили на средневековую гравюру. Человек рождается чистым.
Они, Старшая и Младшая, шли впереди, взявшись за руки, Младшая подпрыгивала и что-то говорила Старшей, а та, слегка принагнувшись, как и должна Старшая сестра, слушала и улыбалась ей. И ему сделалось легче, проще, он стал им теперь как товарищ, а не псевдоопытный, псевдоуяснивший себе устройство мира отец, — и он благодарил в себе потихоньку за всё это Младшую и не боялся больше любоваться Старшей. Лишь бы он, примечталось ему, не помешал им как-нибудь со своим подступившим к нему миром.
— До сидания, до стреци! — срываясь голоском, кричала в подъезде Младшая Старшей, а он, отец, держал её ладошку в своей руке и впервые за долгие годы разлука со Старшей была ему по плечу.
Они с Младшей ещё разок обошли старый дом, дом, куда его принесли из роддома и с которого они начали сегодня, и, обойдя снаружи, с внешней стороны, стали ждать троллейбус на троллейбусной остановке Что ж, думал про себя мужчина, вроде бы всё получилось неплохо с соединением.
В троллейбусе Младшая быстро отыскала пустое место у окошка, заняла его, но не смотрела туда, а крутилась и корчила всякие рожи. Соседка по сиденью, пожилая, со строгим, педагогическим выражением лица сделана ей замечание,
— Убери язык, — предупредила она знающе вещим голосом, — а то микроба сядет.
Младшая удивленно взглянула, вскинула на неё косульи глаза, но язык не убрала.
— Сядет микроба, — усиливала внушительность строгая женщина, — и ты будешь болеть.
Младшая снова на неё покосилась, но язык высунула ещё дальше. Язык был розовый, свежий и широкий, с небольшим беловатым налетом у корня.
— Мы уберём, — зашла тогда с другой беспроигрышной стороны опытная педагогша‚ — у нас микроба не сядет, а они, — мотнула она головой на двух детишек с передних кресел, — не уберут и заболеют. Они плохие, а мы хорошие. Они не уберут и заболеют, а мы уберём и не заболеем. Мы ведь хорошие!
Но и тут Младшую не удалось провести. Не-ка, — закрутила она из стороны в сторону курчаво-светлой своей башочкой, — нет, она, Младшая, не хорошая! — понял её он, её отец.
«Баба пошла за водичкой, — вспомнился ему давнишний, десятилетней давности рассказ Старшей, — и на неё напали гуси. А она как закричит: „Деда, деда, помоги!“ И деда помог».
Троллейбус остановился. Мужчина вылез, вытащил из потной, перенабитой, но покамест вежливой его тугизны Младшую за подмышки и осторожно поставил на тротуар.
— Ну что, доча, — спросил он у неё, отдуваясь и слегка робея,— правильно мы с тобой сегодня съездили?
И ждал, смотрел на неё, почти почему-то уверенный в положительном ответе. Девочка же, опустив глаза, стукала рантом сандалика по асфальту и не отвечала ему. «Я знаешь как тебя люблю? — вспыхнули в нём тогда забытые, поросшие быльём и, как надеялось ему, навек погребённые в Лете слова Старшей. — Я люблю тебя до небушка!»
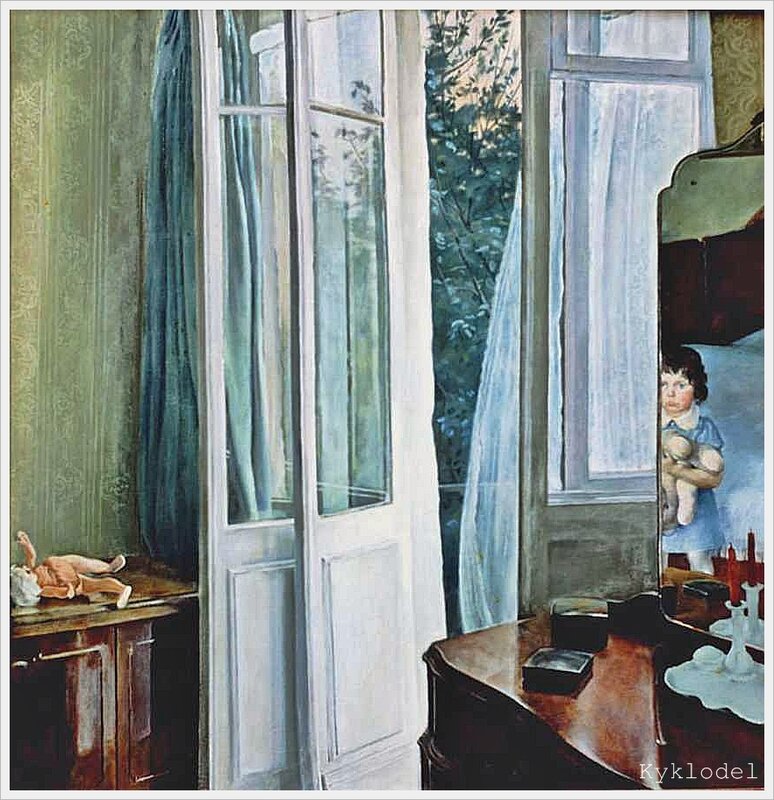

"… Мне представляется важным рассказ «Микроба». Он наиболее житейский, людской и от этого ещё более пронзителен. Мотив возвращения в покинутый когда-то дом высвечен у Курносенко по-новому, без пафоса, но ситуативно. И переплетается с «домой возврата нет» так искусно, как голоса контрапункта оплетают основную тему в добаховском многоголосии. И хоть ужас расколотой семьи сюжетно преодолеваем в крошечном по объёму рассказе, читателю становится легче от причастности к описываемым переживаниям, и он верит в лучшее.."
Максим Замшев, главный редактор «Литературной газеты»
















Оценили 17 человек
45 кармы