После смерти Сталина

Вспоминая сегодня, 1 июня 1971 года, те дни, вынужден честно заявить, что мы получили после смерти Сталина тяжелое наследство. Страна была разорена. Руководство ею, сложившееся при Сталине, было, если так можно выразиться, нехорошим. Собрались в кучу разношерстные люди. Тут и неспособный к новациям Молотов, и опасный для всех Берия, и перекати-поле Маленков, и слепой исполнитель сталинской воли Каганович.
В лагерях сидели 10 миллионов человек. Тюрьмы были переполнены. Имелась даже особая тюрьма для партийного актива, которую создал по специальному заданию Сталина Маленков. В международной обстановке не виделось просвета, шла вовсю холодная война. Нагрузка на советский народ от примата военного производства была неимоверной. Во время похорон Сталина и после них Берия проявлял ко мне большое внимание, выказывал свое уважение. Я этим был удивлен. Он вовсе не порывал демонстративно дружеских связей с Маленковым, но вдруг начал устанавливать дружеские отношения и со мной. Если, бывало, они вдвоем соберутся пройтись по Кремлю, то и меня приглашают. Одним словом, стали демонстрировать мою близость к ним. Я, конечно, не противился, хотя мое негативное мнение о Берии не изменилось, а, наоборот, укрепилось еще больше.
Существовала договоренность: составлять повестку дня заседаний Президиума ЦК вдвоем – Маленкову и Хрущеву. Маленков председательствовал на заседаниях, а я только принимал участие в составлении повестки дня. Берия же все больше набирал силу, быстро росла его наглость. Вся его провокаторская хитроумность была пущена им тогда в ход. Тогда же произошло первое столкновение других членов Президиума ЦК с Берией и Маленковым. Президиум уже изменился по составу. Мы вернулись к более узкому кругу членов, а Бюро, которое было создано Сталиным на пленуме сразу после XIX съезда партии, мы ликвидировали[794].
Берия и Маленков внесли предложение отменить принятое при Сталине решение о строительстве социализма в Германской Демократической Республике. Они зачитали соответствующий документ, но не дали его нам в руки, хотя у Берии имелся письменный текст. Он и зачитал его от себя и от имени Маленкова. Первым взял слово Молотов. Он решительно выступил против такого предложения и хорошо аргументировал свои возражения. Я радовался, что Молотов выступает так смело и обоснованно. Он говорил, что мы не можем пойти на это, что тут будет сдача позиций, что отказаться от построения социализма в ГДР – значит, дезориентировать партийные силы Восточной, да и не только Восточной, Германии, утратить перспективу, что это капитуляция перед американцами. Я полностью был согласен с Молотовым и тотчас тоже попросил слова, поддержав Молотова. После меня выступил Булганин, который сидел рядом со мной. Потом выступили остальные члены Президиума. И Первухин, и Сабуров, и Каганович высказались против предложения Берии – Маленкова относительно ГДР. Тогда Берия с Маленковым отозвали свой документ. Мы даже не голосовали и не заносили в протокол результаты обсуждения. Вроде бы вопроса такого не было. Тут была уловка.
Разошлись мы после заседания, но на душе осталась горечь. Как можно по такому важному вопросу выходить с подобным предложением? Я считал, что это – антикоммунистическая позиция. Мы понимали, конечно, что Берия использует Маленкова, а Маленков, как теленок, пошел вместе с ним в этом деле. Кончилось заседание, и вышли мы из зала втроем – Маленков, Берия и я. Но ничего не обсуждали. В тот же день я увиделся с Молотовым, и он сказал мне: «Я очень доволен, что вы заняли такую позицию. Я этого, признаться, не ожидал, потому что видел вас всегда втроем и считал, что вы занимаете единую позицию с Маленковым и Берией, думал, что Хрущев уже, наверное, заавансировался по этому вопросу. Твердая, резкая позиция, которую вы заняли, мне очень понравилась». И тут же предложил мне перейти с ним на «ты». Я, в свою очередь, сказал, что тоже доволен, что Вячеслав Михайлович занял такую правильную позицию.
А спустя некоторое время звонит мне Булганин: «Тебе еще не звонили?» Я сразу все понял без дальнейших разъяснений: «Нет, не звонили. Мне и не позвонят». «А мне уже позвонили». «И что ты ответил?» «Они сказали, чтобы я подумал еще раз: хочу ли я занимать пост министра обороны?» «А кто именно тебе звонил?» «Сначала один, потом другой. Оба позвонили». «Нет, мне не позвонили, потому что знают, что их звонок может им навредить». После этого со стороны Берии отношение ко мне внешне вроде бы не изменилось. Но я понимал, что тут лишь уловка, «азиатчина». В этот термин мы вкладывали такой смысл, что человек думает одно, а говорит совсем другое. Я понимал, что Берия проводит двуличную политику, играет со мной, успокаивает меня, а сам ждет момента расправиться со мною в первую очередь, когда наступит подходящее время.
На одном из заседаний он внес такое предложение: «Поскольку у многих заключенных или сосланных кончаются сроки заключения или ссылки и они должны возвращаться по месту прежнего жительства, предлагаю принять решение, с тем чтобы никто из них не имел права возвращаться без разрешения министра внутренних дел и оставался жить в районах, предуказанных министерством». Я возмутился и выступил против, сказав: «Категорически возражаю, это – произвол. Произвол уже был раньше допущен. Этих людей арестовывала госбезопасность, следствие вела тоже госбезопасность и судила госбезопасность. “Тройки”, которые были созданы в госбезопасности, творили, что хотели. Ни следователя, ни прокурора, ни суда, ничего не было, просто тащили людей и убивали. Теперь люди, которые отбыли срок своего наказания даже по приговору “троек”, опять лишаются всего, остаются преступниками, и им указывается место жительства Министерством внутренних дел. Это недопустимо. Все другие меня поддержали. Берия опять ловко отозвал свое предложение. Протокол подписывал Маленков, и вопрос вновь не был запротоколирован.
Тут прозвучал уже более серьезный сигнал со стороны Берии. Потом он же вносит, казалось бы, либеральное предложение: изменить такое-то решение (назывались время и его номер), которое предусматривало аресты и осуждение арестованных «тройками» на срок до 20 лет тюрьмы или ссылки. Берия предложил уменьшить срок до 10 лет. Казалось, милое предложение. Но я правильно понял Берию и сказал:
«Категорически против этого, потому что надо пересмотреть всю систему арестов, суда и следственной практики. Она произвольна. А вопрос, на 20 или на 10 лет осудить, особого значения не имеет, потому что можно сначала осудить на 10 лет, а потом еще на 10 лет и еще раз на 10. Такое уже было. К нам поступают документы, гласящие, что подобные методы практикуются. Поэтому я категорически против». И Берия опять отозвал свое предложение.
Так я активно выступил против Берии по двум вопросам. По первому вопросу поддержал выступление Молотова, по второму все другие поддержали меня. Таким образом, у меня не осталось сомнений, что Берия теперь правильно понимает меня и уже намечает свои «меры», потому что он не может смириться с тем, что кто-то стоит на его пути. Такие сложились условия работы. Что же потом предложил Берия, эта бестия? Как-то мы ходили, гуляли, и он стал развивать такую мысль: «Все мы ходим под Богом, как говорили в старое время, стареем, все может случиться с каждым из нас, а у нас остаются семьи. Надо подумать и о старости, и о своих семьях. Я предложил бы построить персональные дачи, которые должны быть переданы государством в собственность тем, кому они построены». Для меня был уже не удивителен такой, не коммунистический ход мышления. Он полностью вязался с образом Берии. И, к тому же, я был убежден, что все это говорилось в провокаторских целях. А он продолжает: «Предлагаю строить дачи не под Москвой, а в Сухуми. О, какой это город!». И стал говорить, какой это чудесный город. «Но предлагаю строить в Сухуми не на окраинах. Зачем идти за город? Надо освободить в центре города большой участок, посадить там сад, развести персики». И стал хвалить, какие растут там персики, какой виноград. Потом развивал свои мысли дальше.
У него все было продумано: какой нужен обслуживающий персонал, какой штат. Все ставилось им на широкую, барскую ногу. «Проект и строительство будет вести Министерство внутренних дел. В первую голову, считаю, надо построить для Егора (то есть для Маленкова), потом тебе, Молотову, Ворошилову, а затем и другим». Я молча слушаю его, пока не противоречу. Потом говорю: «Подумать надо». Кончили разговор, и мы оба с Маленковым поехали на дачу. Ехали в машине втроем. Подъехали к повороту с Рублевского шоссе. Там мы с Маленковым должны ехать дальше налево, а Берия – прямо. И я сел с Маленковым в одну машину. Говорю ему: «Как ты на это смотришь? Это же чистейшая провокация». «Ну, почему ты так относишься к его словам?» «Я его вижу насквозь, это провокатор. Разве можно так делать? Давай сейчас не противоречить, пусть он этим занимается и думает, что его замысел никто не понимает».
И Берия начал развивать свою идею. Поручил составить проекты. Когда их закончили, пригласил нас, показал проекты и предложил начать строительство. Докладывал нам по этим вопросам известный строитель. Сейчас этот товарищ работает начальником строительства предприятий атомной энергии. Я его знал еще до войны и по событиям в войне. Берия считал его близким себе лицом, ибо он работал у Берии и выполнял то, что тот ему говорил. После новой встречи я сказал Маленкову: «Пойми, у Берии есть дача. Он нам говорит, что себе тоже там выстроит, но он не будет себе строить. А вот тебе построит, и это будет сделано для твоей дискредитации». «Нет, нет, ну что ты!». А для меня существенным был факт, что Берия предлагал построить собственные дачи обязательно в Сухуми. В проекте уже было намечено место, где будет возведена дача Маленкова. По плану предвиделось выселение большого количества людей, проживавших там. Министр, который нам докладывал, говорил, что надо выселить огромное их количество и что такая стройка – для людей сущее бедствие. Шутка ли сказать, там их собственность, сколько поколений там прожило, и вдруг их выселяют?
Берия же объяснял, что место выбрано таким образом, чтобы Маленков из своей дачи мог видеть Черное море и за Турцией наблюдать. Он даже шутил: «Турецкий берег будет на горизонте, очень красиво». А когда все разошлись и мы опять остались наедине с Маленковым, я говорю ему: «Ты разве не понимаешь, чего хочет Берия? Он хочет сделать погром, выбросить людей, разломать их очаги и выстроить там тебе дворец. Все это будет обнесено забором. Начнется клокотание негодования в городе. Всех будет интересовать, для кого это строят? И когда все будет закончено, ты приезжаешь, и люди видят, что в машине сидит. Председатель Совета Министров СССР, весь погром, все выселение людей сделаны для тебя. Возмущение проявится не только в Сухуми, оно перебросится в другие места. А это и нужно Берии. Ты сам тогда попросишь об отставке». Маленков призадумался.
Поговорил Берия о дачах и с Молотовым. Я не ожидал такого от Молотова, но Молотов вдруг согласился. Он сказал только, что ему пусть построят не на Кавказе, а под Москвой. Я был удивлен. Я-то думал, что Молотов вспыхнет и начнет возражать. Не знаю, как это получилось. И так как никто пока не высказался активно против, машина заработала. Подготовили проекты, Берия просмотрел их. После работы мы заезжали к Берии, и он показывал мне проект моей дачи. «Эй, слушай, какой хороший дом, смотри, какой». Я ему: «Да, мне очень нравится». «Возьми проект домой». Привез я проект домой и, признаться, не знал, куда его деть. Нина Петровна, жена, говорит мне: «Что это у тебя?» Я признался ей. Жена возмутилась: «Это безобразие!». Я не смог ничего объяснить Нине Петровне и сказал только: «Давай, уберем его, потом поговорим».
Итак, дело завертелось. Берия форсировал строительство, но до его ареста так ничего и не было сделано по существу. Когда же его арестовали, мы тотчас все отменили. А проект дачи долгое время валялся где-то у меня. Тогда же Берия развил бешеную деятельность по вмешательству в жизнь партийных организаций. Он сфабриковал документ о положении дел в украинском руководстве. Первый удар из числа им задуманных он решил нанести по украинской парторганизации. Я полагал, что он развивал это дело с тем, чтобы втянуть туда и мою персону. Он собирал нужные ему материалы через Министерство внутренних дел УССР и начал втягивать в подготовку дела начальников областных управлений МВД. Начальником УВД во Львове был Строкач[795]. Ныне он уже умер. Это был честный коммунист и хороший военный. До войны он был полковником, командовал погранвойсками. Во время войны работал начальником штаба украинских партизан и всегда докладывал мне о положении вещей на оккупированной врагом территории. Я видел, что это честный и порядочный человек. После войны он был назначен уполномоченным МВД по Львовской области, где действовали бандеровцы.
Позднее мы узнали, что когда к нему обратился министр внутренних дел Украины и потребовал от него компрометирующих материалов на партийных работников, то Строкач сказал, что это не его дело, а секретаря обкома партии, пусть обращаются туда. Тогда Строкачу позвонил Берия и сказал, что если он станет умничать, то будет превращен в лагерную пыль. Но в 1953 году мы сначала ничего не знали, хотя чувствовали, что идет наступление на партию, ее подчиняют Министерству внутренних дел. Записку Берии о руководящих кадрах Украины мы обсуждали в ЦК КПСС. В результате было принято решение освободить Мельникова от обязанностей секретаря ЦК КПУ, а на его место избрать Кириченко[796]. Идея Берии состояла в том, что местные, национальные кадры якобы не допускаются к руководству, что их не выдвигают, и предложил ввести в состав Президиума ЦК КПУ Корнейчука. Так и было сделано на пленуме. Но мне рассказали товарищи уже после того, как Берия был арестован, как проходил тот пленум. Корнейчук неправильно понял, почему его кандидатура была выдвинута, и начал говорить всякие словеса в пользу Берии. Не сообразил, ради чего Берия так старается.
Следующая записка Берии касалась прибалтов, потом Белоруссии. И все той же направленности. В его предложениях далеко не все было неправильным. ЦК КПСС и сам к тому времени взял курс на выдвижение национальных кадров. И мы приняли решение, что в республиках пост первого секретаря ЦК должен занимать местный человек, а не присланный из Москвы русский. Вообще же у Берии имелась антирусская направленность. Он проповедовал, что на местах царит засилье русских, что надо их осадить. Так все и поняли и начали громить не только русские, но и те национальные кадры, которые не боролись с русским «засильем». Это произошло во многих партийных организациях национальных республик.
Я не раз говорил Маленкову: «Неужели ты не видишь, куда клонится дело? Мы идем к катастрофе. Берия подобрал для нас ножи». Маленков мне: «Ну, а что делать? Я вижу, но как поступить?» Я ему: «Надо сопротивляться, хотя бы в такой форме: ты видишь, что вопросы, которые ставит Берия, часто носят антипартийную направленность. Надо не принимать их, а возражать». «Ты хочешь, чтобы я остался один? Но я не хочу». «Почему ты думаешь, что останешься один, если начнешь возражать? Ты и я – уже двое. Булганин, я уверен, мыслит так же, потому что я не один раз обменивался с ним мнениями. Другие тоже пойдут с нами, если мы будем возражать аргументированно, с партийных позиций. Ты же сам не даешь возможности никому слова сказать. Как только Берия внесет предложение, ты сейчас же спешишь поддержать его, заявляя: верно, правильное предложение, я «за», кто «против»? И сразу голосуешь. А ты дай возможность высказаться другим, попридержи себя, не выскакивай и увидишь, что не один человек думает иначе. Я убежден, что многие не согласны по ряду вопросов с Берией».
И я предложил: «Мы ведь составляем повестку дня. Давай поставим острые вопросы, которые, с нашей точки зрения, неправильно вносятся Берией, и станем возражать ему. Я убежден, что мы тем самым мобилизуем других членов Президиума, и решения Берии не будут приняты». Маленков наконец-то согласился. Я был, честно говоря, и удивлен, и обрадован. Составили мы очередную повестку дня заседания Президиума ЦК. Сейчас не помню, какие тогда вопросы стояли, прошло много лет. На заседании мы аргументированно выступили «против» по всем вопросам. Другие нас тоже поддержали, и идеи Берии не прошли. Так получилось подряд на нескольких заседаниях. Только после этого Маленков обрел надежду, что, оказывается, с Берией можно бороться сугубо партийными методами, оказывать собственное влияние на решение вопросов и отвергать те предложения, которые, с нашей точки зрения, не являются полезными для партии и страны.
Мы видели, что Берия стал форсировать события. Он уже чувствовал себя над членами Президиума, важничал и даже внешне демонстрировал свое превосходство. Мы переживали очень опасный момент. Я считал, что нужно срочно действовать, и сказал Маленкову, что надо поговорить с другими членами Президиума по этому поводу. Видимо, на заседании такое не получится, и надо с глазу на глаз поговорить с каждым, узнать мнение по коренному вопросу отношения к Берии. С Булганиным я по этому вопросу говорил раньше и знал его мнение. Он стоял на верных позициях и правильно понимал опасность, которая грозила партии и всем нам со стороны Берии. Маленков тоже согласился: «Да, пора действовать». Мы условились, что я прежде всего поговорю с Ворошиловым, поеду к нему. Имелась какая-то комиссия, в которую входили и Ворошилов, и я. Я решил использовать это обстоятельство, позвонил Клименту Ефремовичу и сказал, что хотел бы встретиться с ним, поговорить по такому-то вопросу. Ворошилов ответил, что он сейчас приедет ко мне в ЦК. «Нет, – говорю, – прошу меня принять, я сам приеду к тебе». Но он настаивал, что это он приедет. В конце концов я настоял на своем. Мы условились с Маленковым, что после разговора с Ворошиловым (это было перед самым обедом) я приеду домой, зайду к Маленкову, и мы отобедаем вместе. Мы жили тогда с Маленковым в одном доме на улице Грановского, 3 (сейчас – Романов переулок. – С.Х.), и в одном подъезде, только я на пятом этаже, а он этажом ниже, на четвертом.
Приехал я к Ворошилову в Верховный Совет, но у меня не получилось того, на что я рассчитывал. Как только я открыл дверь и переступил порог его кабинета, он очень громко стал восхвалять Берию: «Какой у нас, товарищ Хрущев, замечательный человек Лаврентий Павлович, какой это исключительный человек!». Я ему: «Может, ты зря так говоришь, преувеличиваешь его качества?» Но я уже не мог говорить с ним о Берии так, как было задумано. Моя-то оценка была совершенно противоположной, и я бы своим мнением поставил Ворошилова в неловкое положение. Он мог не согласиться со мной просто из самолюбия: только что, когда я вошел, он восхвалял его, а потом сразу перешел на мою позицию, которая сводилась к необходимости устранения Берии. И я перебросился с ним словами по вопросу, о котором официально договорился по телефону: чепуховый какой-то вопрос. И сейчас же вернулся обедать, как мы условились с Маленковым.
Рассказал Маленкову, что у меня ничего не получилось, что я не смог поговорить с Ворошиловым, как было задумано. Я полагал, что Ворошилов мог так говорить, рассчитывая, что его подслушивают, и говорил это для «ушей Берии». С другой стороны, он считал меня близким к Берии, потому что часто видел нас втроем: Берию, Маленкова и меня. Значит, и тут он говорил это для Берии, что тоже свидетельствует об обстановке, которая вынуждала людей идти на такие приемы поведения и брать грех на душу против своей совести.
Мы договорились с Маленковым, что далее я поговорю с Молотовым. Молотов был тогда министром иностранных дел. Он мне звонил несколько раз сам, говорил, что хотел бы со мной встретиться в ЦК и поговорить по вопросам мидовских кадров. Я воспользовался одним из таких его звонков и сказал: «Ты хотел со мной встретиться? Я готов. Если можешь, приезжай, поговорим с тобой о кадрах». А когда он приехал, я ему сказал: «Давай о кадрах, только не мидовских». И начал высказывать ему свою оценку роли Берии. Говорил, какая опасность грозит сейчас партии, если не остановить начатый им процесс разгрома партийного руководства. Молотов, видимо, сам немало думал об этом. Не мог не думать, потому что он сам все знал и видел похожее еще при жизни Сталина. Когда Молотов пользовался у Сталина еще доверием, я лично слышал, как он очень резко высказывался против Берии, но не при Сталине, а когда выходил от Сталина, имея в виду провокационный метод Берии. Если Берия вносил какое-то предложение, а Сталин высказывался против, то Берия тут же обращался к кому-то из сидящих: «Ну, что ты предлагаешь? Это не годится!». Так он не раз поступал с Молотовым, и Молотов реагировал очень резко.
Поэтому, как только я заговорил с Молотовым, он полностью со мной согласился. «Да, верно, но хочу спросить, а как держится Маленков?» – «Я разговариваю сейчас с тобой от имени и Маленкова, и Булганина. Маленков, Булганин и я уже обменялись мнениями по этому вопросу». – «Правильно, что вы поднимаете этот вопрос. Я полностью согласен и поддерживаю вас. А что вы станете делать дальше, и к чему это должно привести?» – «Прежде всего нужно освободить Берию от обязанностей члена Президиума ЦК, заместителя Председателя Совета Министров СССР и от поста министра внутренних дел». Но Молотов сказал, что этого недостаточно: «Берия очень опасен, и я считаю, что надо пойти на более крайние меры». «Может быть, задержать его для следствия?».
Я говорил «задержать», потому что у нас прямых криминальных обвинений в его адрес не было. Я-то мог думать, что он был агентом мусаватистов, как об этом говорил Каминский. Но такие факты никем не проверялись, и я не слышал, чтобы имело место хоть какое-то разбирательство этого дела. Правда ли то было или неправда, однако я верил Каминскому, потому что это был порядочный и сугубо партийный человек. Но в отношении провокационного поведения Берии все у нас было основано на интуиции. А по интуитивным мотивам человека арестовать невозможно. Поэтому я говорил, что его надо задержать «для проверки». Это как раз было возможно.
Итак, мы договорились с Молотовым, а потом я рассказал все Маленкову и Булганину. И мы решили, что следует форсировать ход дела, потому что нас могут подслушать или кто-либо нечаянно проговорится, сведения о наших шагах дойдут до Берии, и Берия нас просто арестует. Тогда же мы условились, что я должен поговорить с Сабуровым[797], тоже членом Президиума. Сабуров очень быстро ответил мне: «Я полностью согласен». И тоже спросил: «А что Маленков?» Об этом спрашивали все, с кем я заговаривал. Кагановича в то время в Москве не было, он находился на лесозаготовках, проверял, как идут там дела. Когда Каганович вернулся, я попросил его заехать в ЦК. Он приехал вечером, и мы сидели с ним очень долго. Он подробно мне рассказывал о Сибири, о лесозаготовках. Я его не останавливал, хотя у меня голова была занята совершенно другим. Я проявлял вежливость, тактичность, ждал, когда его тема иссякнет.
Когда я увидел, что наступил конец, то сказал: «Это все интересно, о чем ты рассказывал. Теперь я тебе хочу рассказать, что делается у нас». Каганович сразу навострил уши: «А кто “за”?» Он поставил так вопрос, чтобы разведать, каково соотношение сил. Я сказал, что Маленков, Булганин, Молотов и Сабуров согласны, так что, собственно говоря, и без него у нас имеется большинство. Тогда Каганович заявил: «Я тоже “за”, конечно, “за”, это я просто так спросил». Но я его правильно понял, и он меня понял. Затем спрашивает: «А как же Ворошилов?» И я ему рассказал, какая у меня получилась неловкость с Ворошиловым. «Так он тебе и сказал?», «Да, он стал хвалить Берию». Каганович выругался в адрес Ворошилова, но незлобно: «Вот старый хрыч. Он неправду тебе сказал. Он сам мне говорил, что просто невозможно жить дальше с Берией, что он очень опасен, что он может на все пойти и всех нас уничтожить». «Тогда нужно с ним побеседовать еще раз. Может быть, с ним поговорит Маленков? Мне-то лучше не возвращаться к этому разговору, чтобы не ставить его в неловкое положение». На том и согласились.
Каганович спрашивает: «А Микоян?» «С Микояном я по этому вопросу еще не говорил, тут сложный вопрос». Мы все знали, что у кавказцев Микояна и Берии существовали наилучшие отношения, они всегда стояли один за одного. И я сказал, что с Микояном поговорить, видимо, надо попозже. О новом разговоре я поведал Маленкову, и он тоже согласился, что с Ворошиловым в данной ситуации лучше поговорить ему. Теперь оставался Первухин[798]. Маленков: «С Первухиным я хочу потолковать сам». «Учти, что Первухин – человек сложный, я его знаю». – «Но и я его знаю». – «Ну, пожалуйста!». Он пригласил Первухина к себе и потом звонит мне: «Вызвал Первухина, рассказал ему все, а Первухин ответил, что подумает. Это очень опасно. Я тебе это сообщаю, чтобы вызвать его поскорее. Неизвестно, чем это может кончиться». Я позвонил Первухину. Он приехал ко мне, и я ему рассказал все в открытую. Михаил Георгиевич ответил: «Если бы мне Маленков все сказал так, как ты, так и вопросов у меня не возникло бы. Я полностью согласен и считаю, что другого выхода нет». Не знаю, как именно Маленков говорил ему, но кончилось так.
Таким образом, у нас со всеми членами Президиума дело было обговорено, кроме Ворошилова и Микояна. И мы с Маленковым решили начать действовать в день заседания Президиума Совета Министров СССР. На заседании Президиума Совмина я всегда присутствовал: в протоколе было записано, что я должен принимать участие в таких заседаниях. На этих заседаниях отсутствовал Ворошилов. Поэтому мы решили, созвав заседание Президиума Совмина, пригласить Ворошилова. Когда все соберутся, открыть вместо заседания Президиума Совмина заседание Президиума ЦК. Условились еще, что я перед самым заседанием побеседую с Микояном, а Маленков – с Ворошиловым.
Утром того дня я был на даче. Позвонил оттуда Микояну и пригласил его заехать за мной, чтобы вместе отправиться на заседание Президиума Совета Министров СССР. Микоян приехал, и тут я провел беседу. Она была очень длительной. Припоминаю, что мы разговаривали часа два, подробно все обговорили, а потом еще несколько раз возвращались к обговоренному. Позиция Микояна была такой: Берия действительно имеет отрицательные качества, но он не безнадежен, в составе коллектива может работать. Это была совершенно особая позиция, которую никто из нас не занимал. Пора было кончать разговор, времени оставалось только на то, чтобы прибыть на заседание. Мы уселись вместе в машину и уехали в Кремль. Приехали. Перед началом заседания Микоян зашел в свой кабинет, а я поспешил к Маленкову. Пересказав ему свой разговор с Микояном, я выразил сомнения и тревогу в связи с таким его ответом. К тому времени Маленков уже поговорил с Ворошиловым. «Ну, и как? Он по-прежнему хвалил Берию?» – «Когда я ему только заикнулся о нашем намерении, Клим обнял меня, поцеловал и заплакал». Так ли это было, не знаю. Но думаю, что врать Маленкову было незачем.
Выявился и такой вопрос: мы обсудим дело, задержим Берию. А кто именно его задержит? Наша охрана подчинена лично ему. Во время заседания охрана членов Президиума сидит в соседней комнате. Как только мы поднимем наш вопрос, Берия прикажет охране нас самих арестовать. Тогда мы договорились вызвать генералов. Условились, что я беру на себя пригласить генералов. Я так и сделал, пригласил Москаленко и других, всего человек пять. Маленков с Булганиным накануне заседания расширили их круг, пригласив еще Жукова. В результате набралось человек 10 разных маршалов и генералов, их с оружием должен был провезти в Кремль Булганин. В то время военные, приходя в Кремль, сдавали оружие в комендатуре. Мы условились, что они станут ожидать вызова в отдельной комнате, а когда Маленков даст им знать, то войдут в кабинет, где проходит заседание, и арестуют Берию.
И вот открылось заседание. Ворошилов как Председатель Президиума Верховного Совета СССР, естественно, обычно не присутствовал на заседаниях Президиума Совета Министров СССР. Поэтому его появление показалось вроде бы непонятным. Маленков, открыв заседание, сразу же поставил вопрос: «Давайте обсудим партийные дела. Есть такие, которые необходимо обсудить немедленно, в составе всех членов Президиума ЦК». Все согласились. Я, как условились заранее, попросил слова у председательствующего Маленкова и предложил обсудить вопрос о Берии. Берия сидел от меня справа. Он встрепенулся, взял меня за руку, посмотрел на меня и говорит: «Что это ты, Никита? Что ты мелешь?» Я ему: «Вот ты и послушай, как раз об этом я и хочу рассказать».
Вот о чем я говорил: на предвоенном Пленуме ЦК (23-28 июня, 1937 г. – С. Х.), когда обсуждали положение дел в партии и всех там критиковали, попросил слова Каминский, нарком здравоохранения СССР. Он вышел на трибуну и сделал примерно такое заявление: «На этом пленуме нас призвал тов. Сталин рассказать всю правду друг о друге, покритиковать друг друга. Хотел бы сказать, что когда я работал в Баку, то там упорно ходили слухи среди коммунистов, что Берия работал в мусаватистской контрразведке. Хочу сказать об этом, чтобы знали в нашей партии и проверили это». Заседание тогда закончилось, и никто больше по данному вопросу не выступал, сам Берия тоже никакой справки не дал, хотя присутствовал. Был объявлен перерыв, все разошлись на обед. После обеда пленум продолжался, но Каминский уже туда не пришел, и никто не знал, почему. Тогда это было закономерно. Многие члены ЦК, которые присутствовали на одном заседании, на второе не приходили, попадали во «враги народа» и арестовывались. Каминского постигла та же участь.
Каминского я узнал, когда стал работать секретарем Бауманского, потом Краснопресненского райкомов партии Москвы и особенно с ним сблизился, когда был избран секретарем Московского городского комитета партии в начале 1932 года. Каминский дружил с Мишей Кацеленбогеном[799] (Михайловым). Это был очень хороший человек и перспективный работник. Я его весьма уважал и тоже дружил с ним. Естественно, у меня складывалась дружба и с Каминским. Поэтому я верил, что Гриша – порядочный человек. Он был человеком какой-то особой чистоты и морали. Тем не менее, хотя никто на пленуме не дал никакого объяснения насчет судьбы Каминского, он как в воду канул. Так пропал не только Каминский. Люди исчезали десятками, сотнями, тысячами. Потом уже объявляли, что они являются «врагами народа», да и то говорили не о каждом. У меня давно в голове бродила мысль, почему, когда Каминский сделал такое заявление, никто не дал объяснения? Правильно или неправильно он говорил, было ли это или этого не было, неизвестно…
Потом я рассказал о последних шагах Берии, уже после смерти Сталина, в отношении партийных организаций – украинской, белорусской и других. В своих записках Берия поставил вопросы (эти записки находятся в архиве) о взаимоотношениях в руководстве национальных республик, особенно в руководстве чекистских органов, и предлагал выдвигать национальные кадры. Это правильно, такая линия всегда была налицо в партии. Но он поставил этот вопрос под резким углом антирусской направленности в выращивании, выдвижении и подборе кадров. Он хотел сплотить националов и объединить их против русских. Всегда все враги Коммунистической партии рассчитывали на межнациональную борьбу, и Берия тоже начал с этого.
Затем я рассказал о его последнем предложении – насчет отказа от строительства социализма в ГДР, и о предложении относительно людей, осужденных и отбывших наказание, когда он предложил не разрешать им возвращаться к месту жительства, а право определять их местожительство предоставить Министерству внутренних дел, то есть самому Берии. Тут уже узаконенный произвол! Сказал я и о его предложении вместо радикального решения вопроса о той недопустимой практике ареста людей и суда над ними, которая была при Сталине, снизить максимальный срок осуждения таких лиц органами МВД с 20 до 10 лет. На первый взгляд предложение вроде бы либеральное, а по существу узаконивающее то, что существовало. Осудить на 20 лет или на 10, положения не меняет. Пройдет 10 лет, и, если нужно, Берия еще добавит 10 лет, а потом снова 10, пока не дождется смерти неугодного человека. И я закончил словами: «В результате наблюдений за действиями Берии у меня сложилось впечатление, что он вообще не коммунист, а карьерист, который пролез в партию из карьеристских побуждений. Ведет же он себя вызывающе и недопустимо. Невероятно, чтобы честный человек мог так вести себя».
После меня взял слово Булганин. Мы с ним еще при жизни Сталина были единого мнения о Берии. Он тоже высказался в том же духе. И другие проявили принципиальность, но за исключением Микояна. Микоян высказывался последним. Он выступил (не помню сейчас деталей его речи) со следующим заявлением: повторив то, что сказал мне, когда я с ним беседовал перед заседанием, заявил, что Берия может учесть критику, что он не безнадежен и в коллективе сумеет быть полезным. Когда все высказались, Маленков как председатель должен был подвести итоги и сформулировать постановление. Но он растерялся, и заседание оборвалось на последнем ораторе. Возникла пауза.
Вижу я, что складывается такое дело, и попросил Маленкова, чтобы он предоставил мне слово для предложения. Как мы и условились, я предложил поставить на пленуме вопрос об освобождении Берии (это делает Президиум ЦК) от всех постов, которые он занимал. Маленков все еще пребывал в растерянности и даже не поставил мое предложение на голосование, а нажал сразу секретную кнопку и вызвал таким способом военных. Первым вошел Жуков, за ним Москаленко и другие. Жуков был тогда заместителем министра обороны СССР. К Жукову у нас тогда существовало хорошее отношение, хотя он на первых порах не назывался в числе тех военных, которые должны были помочь нам справиться с Берией.
В кабинет вошли человек 10 или более того. И Маленков мягко так говорит, обращаясь к Жукову: «Предлагаю вам как председатель Совета Министров СССР задержать Берию». Жуков скомандовал Берии: «Руки вверх!». Москаленко и другие обнажили оружие, считая, что Берия может пойти на какую-то провокацию. Берия рванулся к своему портфелю, который лежал на подоконнике, у него за спиной. Я схватил Берию за руку, чтобы он не мог воспользоваться оружием, если оно лежало в портфеле. Потом проверили: никакого оружия там не было, ни в портфеле, ни в карманах. Он просто сделал какое-то рефлекторное движение.
Берию взяли под стражу и поместили в здании Совета Министров, рядом с кабинетом Маленкова. И тут же мы решили, завтра или послезавтра, так скоро, как это будет возможно, созвать пленум ЦК партии, где поставить вопрос о Берии. Одновременно освободить от занимаемой должности генерального прокурора СССР, потому что он не вызывал у нас доверия, и мы сомневались, сможет ли он объективно провести следствие. Новым генеральным прокурором утвердили Руденко и поручили ему провести следствие по делу Берии. Итак, Берию мы арестовали. А куда его девать? Министерству внутренних дел мы не могли доверить его охрану, потому что это было его ведомство, с его людьми. Тогда его заместителями были Круглов и, кажется, Серов[800]. Я мало знал Круглова, а Серова знал лучше и доверял ему. Считал, да и сейчас считаю, что Серов – честный человек. Если что-либо за ним и имелось, как за всеми чекистами, то он стал тут жертвой той общей политики, которую проводил Сталин. Поэтому я предложил поручить охрану Берии именно Серову. Но другие товарищи высказались в том смысле, что нужно быть все-таки поосторожнее. Круглову же мы все не доверяли. И договорились, что лучше всего поручить это дело командующему войсками Московского округа противовоздушной обороны Москаленко. Москаленко взял Берию, поставил вокруг своих людей и перевез Берию к себе на командный пункт, в бомбоубежище[801]. Я видел, что он делает это, как нужно. На этом заседание закончилось.
Как только оно закончилось, ко мне подошел Булганин: «Ты послушай, что рассказывает мой начальник охраны». Тот тоже подошел ко мне. Говорит: «Я узнал, что только что задержали Берию, и хочу сообщить вам о том, что Берия изнасиловал мою падчерицу, школьницу седьмого класса. Год или несколько больше тому назад умерла ее бабушка, а жена получила инфаркт и слегла в больницу. Девочка осталась в доме одна. Однажды вечером она бежала за хлебом мимо дома, где жил Берия. Там она встретилась со стариком, который пристально на нее посмотрел. Она испугалась. Потом ее вызвали чекисты и привели в дом Берии. Берия усадил ее с собой ужинать, предложил тост за Сталина. Она отказывалась, но он настоял, что за Сталина надо выпить. Она согласилась, выпила, а потом заснула, и он изнасиловал ее». Я ответил этому человеку: «Все, что вы рассказали, прокурор учтет при следствии».
Потом нам дали список, в котором имелись фамилии более чем 100 женщин. Их приводили к Берии его люди. А прием у него был для всех один: всех, кто попадал к нему в дом впервые, он угощал обедом и предлагал выпить за здоровье Сталина. В вино он подмешивал снотворное. Потом делал с ними, что хотел. Когда изолировали Берию, он попросил авторучку и бумагу. Мы посоветовались (у некоторых имелись сомнения) и решили дать ему: может быть, в нем пробудилось какое-то стремление искренне рассказать, что он знает о том, в чем мы его обвинили. И он начал писать. Сначала – записку Маленкову: «Егор, такой-сякой, ты же меня знаешь, мы же друзья, зачем ты поверил Хрущеву? Это он тебя подбил», и прочее. Ко мне он тоже обратился с запиской, в которой писал, что он честный человек. Таким образом он послал несколько записок. Маленков очень волновался, когда читал эти записки. Потом стал говорить, что это они вместе с Берией предложили идею сворачивания строительства социализма в Восточной Германии, и он боится, что дело, направленное против Берии, обернется и против него. Но мы ему сказали, что сейчас обсуждается не этот вопрос. Вопрос же о Берии гораздо глубже, чем о Германии.
Когда Руденко стал допрашивать Берию, перед нами раскрылся ужасный человек, зверь, который не имел ничего святого. У него не было не только коммунистического, а и вообще человеческого морального облика. А уж о его преступлениях и говорить нечего, сколько он загубил честных людей![802]
Спустя какое-то время после ареста Берии встал вопрос о Меркулове[803], который в то время был министром Госконтроля СССР. Я, признаюсь, раньше с уважением относился к Меркулову и считал его партийным человеком. Он был культурным человеком и вообще нравился мне. Поэтому я сказал товарищам: «Тот факт, что Меркулов являлся помощником Берии в Грузии, еще не свидетельствует о том, что он его сообщник. Может быть, все-таки это не так? Ведь Берия занимал очень высокое положение и сам подбирал себе людей, а не наоборот. Люди верили ему, работали с ним. Поэтому нельзя рассматривать всех, кто у него работал, как его соучастников по преступлениям. Вызовем Меркулова, поговорим с ним. Возможно, он нам даже поможет лучше разобраться с Берией». И мы условились, что я его вызову в ЦК партии. Вызвал я Меркулова, сообщил, что нами задержан Берия, что ведется следствие. «Вы много лет с ним проработали, могли бы помочь ЦК». «Я с удовольствием, – говорит, – сделаю все, что смогу». И я ему предложил: «Изложите письменно все, что сочтете нужным».
Прошло сколько-то дней, и он написал большой текст, который, конечно, остался в архиве. Но эта записка ничем нам не помогла. Там были общие впечатления, умозаключения, вроде некоего сочинения. Меркулов пописывал кое-что, включая пьесы, и привык к сочинительству. Когда я послал его материал Руденко, тот прямо сказал, что Меркулова надо арестовать, потому что следствие по делу Берии без ареста Меркулова затруднится и окажется неполным. ЦК партии разрешил арестовать Меркулова. К моему огорчению, выяснилось, что зря я ему доверял. Меркулов был связан с Берией в таких преступлениях, что сам сел на скамью подсудимых и понес одинаковую с ним ответственность. В своем последнем слове, когда приговор был уже объявлен судом, Меркулов проклинал тот день и час, когда встретился с Берией. Он говорил, что это Берия довел его до суда.
Продолжение следует
Предыдущая глава 24 здесь







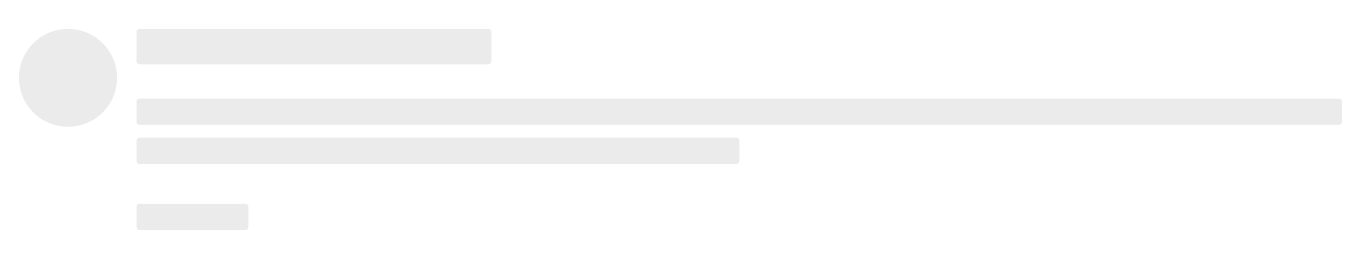









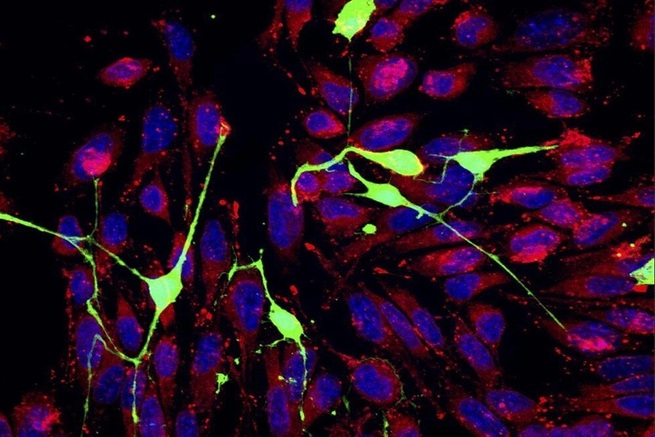



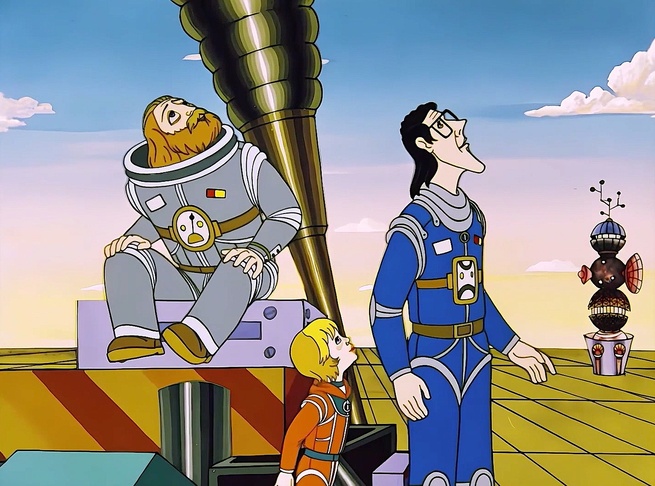



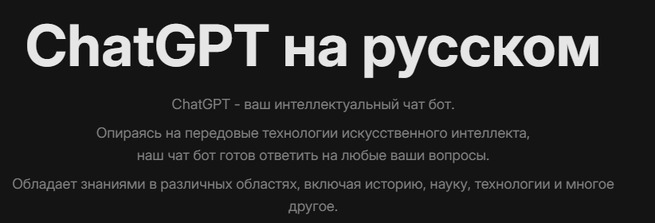
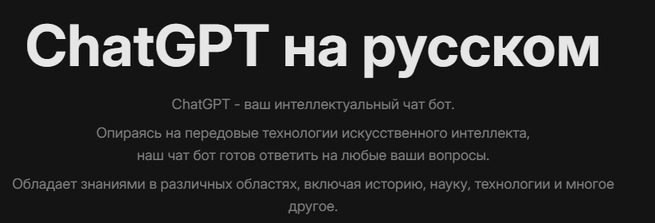



Оценил 1 человек
3 кармы