
Ольга Рейнольдс не ассоциируется с нею… Такой славной, общительной, светлой, сладенькой, но и жёсткой, с ямочками, играющими на щеках и подбородке, красавицей, все понимали, сидевшей за тобой — на русском языке и литературе. Ольга. Мирошникова… Красивая такая, чем-то таинственно мерцающая, вороха счастья сулящая фамилия… Вот она идёт со своим эрделем: курчавым, большим, всегда с собаками: идёт гулять, как-то алхимически тайно, почти смешивая в теле своём персик и мясное филе… Рано вызрела…
Рано, стремительно, жадно, будто боясь чего-то не успеть, всех поражая…
— Ольга хорошо танцует? — спрашивал одноклассник одноклассника.
— Ещё как! — отвечал, закатывая глаза…
Да, сама собой увлекалась в танце: и пара будто не нужна, что-то выстраивала движением, срывая двери с петель, якоря выдирая из подпочвенных вод… Ольга. Кругло… Было в ней что-то круглое, округлое, тёплое, дружественное: равно — насмешливое… Продрать язычком могла… В начале девяностых, когда всё разлетелось, и все ждали, насколько поранят осколки и обломки, многие женщины, используя свою манкую суть, уезжали за комфортом. Она уехала. В США. Школа ведь была английская: и, между прочим, англичанка, столь же нестандартная, сколь и добрая Маргарита Григорьевна, Ольку обожала…
Она вышла замуж за мормона, по слухам, работала у него садовницей, впрочем, как всякие слухи, имеющие в виду такую территориальную необъятность, равно пространственное удаление, могут быть йогуртом вчерашнего дня. Несъедобными оказаться. Впрочем, теперь у неё другая фамилия: вышла опять замуж, разведясь с тем своим… гипотетическим мормоном… Флюиды, субстанции жизни-плоти исходят от неё сильно: чувствуют охотники, чувствую владельцы особняков… Приезжала в Россию последний раз, всё хочется сказать, в Союз, хоронить не то маму, не то отца; квартиру продала, и отчалила в край, где улицы золотом вымощены — как говорил один старый мафиози: из фильма, показывающего Сицилию пятидесятых так колоритно…
Сплошная роскошь особняков и каменные цветы кладбищ…
— Оль, ты была в Италии?
Слышишь её голос? Переписывались по фейсбуку, опьянев, надрались с одноклассником, у которого был роман с Ольгой (привет, небесный Бестужев-Марлинский), слал ей запоздалые признания в любви, вибрировал, вспоминая, как боялся подойти, заговорить: так хороша… Чего боялся? Проста, естественна, одна из любимых фраз: «Буду рада тебя видеть…» — Правда, Оль? Помнишь, послал тебе стихи про Атлантиду, про фантазию её и реальность, но я ощущаю оный мир недрами сердца, тонкой составляющей души, и ты в ответ прислала репродукцию своей картины? Цветы… Что-то, пьяно сбиваясь, писал про Эль Греко, про фильм, кстати, где огненный мастер икон, перетолкованных своеобразно, кидает озверевшему инквизитору, бывшему другу: «Ты хочешь меня сжечь? Нельзя сжечь того, кто всю жизнь горел в свете!»
…на выпускном, когда я нелепо облачился в костюм, Оль, мама говорила: «Господи! Вот Саша, а вот костюм, будто разные сущности!» — ты такие танцевальные фортеля выделывала! Не повторить в сознание, но — пусть память и залита кислотами забвения, пусть возраст и густеет, как кисель, всё равно вспоминаются твои — рваные, плавные, эффектные. Приседала как-то виртуозно, движения: всё вместе, взахлёб, будто никто не нужен, будто яблочко танца держишь за горло…
Слепая учительница преподавала у нас спецкурс: английскую литературу: и звали странно: Эттери Георгиевна: слепая, тонкая, подвижная, занималась бегом… Вызвав меня, велев прочитать наизусть текст (Шекспир улыбнётся едва ли, но, может быть, подмигнёт нежный Китс, для которого мир оказался слишком грубым), услышала в ответ, мол, не выучил; тогда сказала, чтоб прочитал по книге. Стоял, читал, чувствуя, как нечто происходит… Ольга наливается густотою, гнев распространяется тонко по прекрасному лицу, смотрит вниз, будто стыдясь, и, когда я закончил, прозвенел, вибрируя Ольгин голос: «Тебе не стыдно, Саш?»
Я не успел начать оправдываться: Эттери сказала: «Оля, всё нормально, я попросила Сашу прочитать по книге». Зачем ты обвинила меня, прекрасная Мирошникова? До сих пор стыд кусает, как щенок: но я же ни в чём не виноват… Все в чём-то виноваты, да, Оль? Что ты там, в роскошной своей американе, ставшей пожизненной, рисуешь сегодня? Все мальчишки, храня код тайны, были влюблены в тебя — такую лёгкую, игравшую в иллюзию доступности, умненькую, с вымпелами горящих ямочками: на щеках, подбородке…
Со шпаной ты дружила: романила, играла? Мишка Михалёв из первых на улице, профессиональный драчун, ножебой, смотавшийся туда же, где ты, сначала мыл бензоколонки, потом стал хозяином одной… другой… он умер. Погиб, вероятно: едва ли характер позволил бы тихо сойти на нет в своей кровати. Мы сходим на нет, Ольга?
Или мы, растворяясь в воспоминаниях, остаёмся на нескольких планах, и сейчас, когда колоритный наш, могучий, басоголосый, чревастый словесник вызовет меня читать стихи наизусть, я, умея это делать как мало кто, буду работать на тебя, сидящую на второй парте: мол, потрясу её, пусть зайдётся восторгом, но всё равно — не решусь, не решусь подойти после уроков, позвать гулять… Какой пейзаж лучше — американский или российский? Привет, Ольга…
Светлячки
Типовая кухня гранит воздух выходного дня. При чём тут светлячки? Из кухни — отрезок коридора, две логичные двери: ванна и туалет; хозяин, гость и гостья, связанные тугими и сложными отношениями, орнамент запутан, усложняется ещё, по мере продвижения в неизвестность жизни… Они банально играют в дурака, потягивая пиво. …старое, советское, жигулёвское: они, трое, не знают, что живут в последнее время страны, которая кажется незыблемой, они молоды и не представляют бури истории, которая захватит их, накроет, как всех. Женщина бьёт серьёзным королём курчавого валета: она никогда не остаётся дурой.
Вдруг спрашивает хозяина:
— Слушай! У тебя горячая вода есть?
— Ну да.
— У меня отключили. Я приму душ?
— Ага.
Она встаёт.
Вдруг, не ожидая от самого себя, глядя в гладь стола, гость спрашивает:
— А подглядывать можно?
Она фыркает. Вымпелы весёлой эмоциональности играют на лице её. Она сдёргивает блузку и кидает на стул, потом скрывается в ванной.
— Иди к ней, раз решился, — спокойно говорит хозяин, разливая очередную бутылку. — Он, гость, переполнен любовью к этой женщине: опыт её манит, также, как и всё, связанное с ней.
Он — неопытен. Не смел. Он пишет стихи, ещё не ведая, что попадёт в печать, но это не принесёт счастья. Он боится её, любит, горит, залитый огненным веществом любви.
Он открывает дверь. Живой жемчуг драгоценного тела, омытого прозрачными струями, мерцает манко. Улыбка женщины легка, как полёт бабочки.
…в ином измерении, сквозь сложные приборы, существа, внешне напоминающие людей, — нет, это люди напоминают их своей косной тяжёлой материальностью, а те существа легки и сияют, и во лбу у них мерцает цветок внутреннего зрения, тем не менее для изучения дальних миров они используют сложные приборы, которые создают волевыми усилиями. Высший класс. Двое из этих существ смотрят в трубу одного из приборов. Сначала один. Потом другой.
— Видишь? — спрашивает второй.
— Да, но не совсем понимаю.
— А что тут понимать? Светлячки загораются в том мире, когда существа проявляют себя любовью.
— Даже физической?
— Она им необходима, увы, хотя это и есть низовая её форма…
Пожилой человек, завершая прогулку по дворам, возвращается домой. У подъезда на скамейке сидит сосед: рослый, до пятидесяти был жизнерадостным, потом стали одолевать болячки, и волна радости жизни пошла на спад. Возвращающийся присаживается.
— Привет, Коль.
— Здорово, Сань.
— Давно не виделись. Как жизнь?
— Ничего, потихоньку. У тебя как? — Дежурные фразы не значат, что всё — всё равно. Многое ещё важно, хоть и стремителен экспресс возраста.
— Да тоже, знаешь, потихоньку. Катька как?
Дочка. Поздняя дочка.
— Ты знаешь, скрипкой увлеклась. Так нравится в студию ходить!
— Ну? Здорово… Мой всё каратэ своим занимается. Думал — бросит. Нет, пока тянет…
Они прощаются. Подъём на лифте не займёт много времени, хотя лифт, порой кажется, обладает своим характером: замедленным, неспешным, вальяжным. Японцы оценили бы такое отношение к вещам.
Человек, открыв дверь, позвенев ключом, входит в коридор, больше напоминающий книжный сплошной стеллаж, и, отразившись в зеркале, простирающемся от пола до потолка, в минуту прокрутив в голове фрагменты жизни, включающие смерть мамы, от которой не отойти, и жизнь старинных предметов — зеркала, шкафа и буфета, принадлежавших некогда знаменитой певице, почти забытой ныне, идёт к компьютеру. Включив его, переодевшись, отправляется в ванну, где вода, ожив, омывает пузырчато руки, и, закрыв кран, возвращается в комнату, кубически гранящую воздух выходного дня. И, сев к старому отцовского столу, пишет рассказ про светлячков.
Пока величественные существа, не ведаю, как обозначается их род, смотрят в свой прибор:
— Вот видишь, — говорит один другому, когда отрываются. — Снова загорелся светлячок.
— Здесь уже любовь к слову.
— Да, иная форма любви.
— Всё же светлячков у них не так мало.
— Это вселяет надежду…
Тётя, вы когда придёте?
Володя — пергаментно-сушёный, возраст чувствуется, как и восторг — по поводу банкнот, которые он продаёт, будучи обладателем одной из крупнейших в России филателистических коллекций; но марки от меня отпали…
— Володь, а Австро-Венгрия есть?
…о! роскошь ветшающей империи, ограды и дворцы, осенние листья метёт ветер, и Ульрих, человек без свойств, проходя страницами романа, заходит ко мне в душу…
— О, вы ценитель!
Два альбома — великолепные в своём наполнении — распахиваются пышными телами, и мелькают банкноты, слоятся, идут, поют историю — те, старые, исполненные, как гравюры банкноты… Не верится, что такой красотой можно платить. Володя делит павильончик с Пашей: нумизматом. Меня монеты больше интересуют — банкноты в дополнение. Паша: великолепно-жизнерадостен, всегда приветствует однозначно: Очень добренькое утро! Другого не допускает, как Пятачок… Альбомы его — тяжеленные, наполненные и кажется переполненные серебром, сейчас за разум нумизматической Ойкумены переплеснуться, хранятся в сейфе, с меня ростом, я возглашаю цель прихода, он открывает, достаёт… Как-то раз пришёл я… У них закрыто: в то время, когда кто-нибудь должен быть, и стою обречённо, пялясь на замок, а сзади скрипучий голосок раздаётся:
— Я не знаю, где он шляется. Должен быть.
Оборачиваюсь — Володя… Нет, Паша пришёл тогда… Я перекидываю тяжёлые пласты монет, он рассказывает:
— Один раз повезло. В Англии было. Перебирал у старичка коробку меди английской, и соверен попался, он же по виду — такой же, как медь… Вот…
Мне не везло. Ничего. Я перекидываю пласты страниц. Монголия двадцатых с великолепным соёмбо, символом неба и земли, смотрит в меня, но не хватит, не хватит денег на неё… Наполеон мелькает: стёртый французский пятифранковик… Чего я возьму сегодня? Возможно, болгарскую Шипку 1978 года, где столь роскошно воспроизведён памятник, а! к ней хотел ещё 20 франков… забыл какого бельгийского короля… Герб сияет. Сложносочинённый герб…
…интересно, если бы у меня был, что легло бы в поля его? Чем выражается — на уровне образа — страсть к монетам? Пристрастие к иезуитам? Постоянное сочинительство? Боль…по всем ушедшим? Я хотел Зейпеля ещё: мне нужно добить двухшиллинговую серию: Австрия тридцатых… Речь Зейпеля. Религиозная проповедь длится, вливаясь в реальность, строго и жёстко. Он был политик — Игнатий Зейпель, узнавший работу тех механизмов, что соединены с человеческой алчбой и благородством…
— Паш, а картина чья? — Отвлекаясь от монет, гляжу на стену, на которой…
— Ой, не скажу, на реализацию принесли…
Шуршат деньги. Внизу стеклянных, а кажется хрустальных, стеллажей, сидит кукла: в пене платья, изящно исполненная, и скамеечка хороша… Мелкие вещи мира — в сущности щиты, которыми стремишься загородиться от смерти. Тётя, вы когда придёте? Медленно капает время… Ничего нет лучше монет — да, Паш? Но Володя, открывая альбом со старинными банкнотами, не согласится…
Гародуам!
В серёдке города, обращённой цветком в небеса, столь привлекательные извечно, началось: под фундамент яму копали всеми возможностями, — и экскаваторы, обливаясь масляным потом, и работяги, — обычным, вгрызались в землю… Договор с муниципалитетом слился в указание оного — Возвесть! И все горожане, включая малышей — согласились.
— А зачем нам башня? — спрашивали, было, одни…
— Башня — необходима! — утверждали другие. — Только возводя её, неустанно и неприступную, мы постигнем… А что — не говорили…
Город был велик. В нём сочеталось, эклектикой играя, несовместимое: сквозные колонны белеющих снежно храмов словно отражались славно в стекле небоскрёбов, и пока в последних носились по лестницам, поднимались по лифтам, парились в офисах бессчётные рыбки-клерки, в первых свершались, окутанные дымокурениями, таинственные обряды. Можно было, распутывая городские лабиринты, выбрести на задворки, где слепые лабазы смотрели в заросшие лопухом овраги; ленты дорог петляли всюду, открывая бульвары, весьма тенистые, городские пруды, отливавшие чёрным золотом… Гудело метро, отправленное пестро, как положено, под землю, а наверху, совместно с автомобилями, по специально отведённым дорогам, двигались конки.
— И — ещё башню? — недоумевали фельетонисты.
Им отвечали вечно бодрые репортёры:
— Конечно, башню.
Муниципалитет, достигнув соглашения со строительными конторами, сам решил… Стягивались маршруты… Конки, проезжавшие мимо, вспыхивали удивлением коней: какие огромные экскаваторы! Сколь кропотливы люди, роющие землю…
— Как же без проекта?
О, не объявлялось никаких конкурсов: просто — все лучшие силы были брошены на созидание оного, и, объединившись, архитекторы быстро пришли к шаловливому консенсусу: башня не будет иметь конца.
— Технологии позволяют! — утверждал седоусый старик, старейшина цеха.
…впрочем, технологии давно отменили цеха, оставив корпорации… Но — башня должна сочетать в себе элементы зиккурата, гоппурама, небоскрёба, античного храма, средневекового аббатства, и всё это, соединённое, будет подниматься в лепную синь. Небо над нами всегда будет синим… Нужно ли возводить подсобки для житья строителей? Или они, чрезмерно усердные, сами готовы тянуть и тянуть всё вверх и вверх? Строительные материалы подвозились со всех концов Ойкумены, не ведавшей концов, и бурливший котлован заполнялся постепенно соответствующими растворами, что, окрепнув, должны были выдержать махину, не имевшую никакого завершения…
— Как вы впишите свои колонны и портики в пределы небоскрёбов, устроенные совершенно по-другому? — Тикают часы. Они тикают неустанно, отсчитывая бремя риска.
— Очень просто: мы произведём радикальные распилы, и в щели небоскрёбов поместим грандиозные постройки сияющей белизны.
Глыбы мрамора уже обрабатываются учениками Фидия: мелькают специальные инструменты, куда острее любых ножей, обтачивая земное мясо мрамора. Башня растёт. Она растёт странно: первые ярусы уже можно посещать: о! они пространны и просторны! тут сияют витрины, предлагая любые товары, и вежливые манекены, сходя с постаментов, просто, как люди, посещают церкви, где католические фрагменты соседствуют с протестантской строгостью. Ещё никогда не было такого размаха. Специальные, усложнённые краны поднимают роскошные, ребристые колонны на второй ярус, вмещая их в разъёмы небоскрёбов, сияющих стеклом, как драгоценностями. Мальчишки бегают…
— Па, а будет Колосс?
Да, мы же забыли про фрагменты моря, суда, всё это необходимо втиснуть в пределы, обработав соответствующе… Как же вы будете обрабатывать море? Очень просто — бассейнами. Башня поднимается. Ужас — она начинает застить небеса. Без укоризны им — громоздится новый ярус, где ступени зиккурата слоятся, будто волны, идущие вверх, а начинка? Но в зиккурате главное плоская вершина: вот она, распростёршись, показывает градус истовой мольбы… Нет, мольба отставлена давно: собственное дерзновенье захватывает многих: ведь подумать — кирпич и туф, стекло и бетон, сталь и лёгкий, полётный алюминий совмещаются легко, посверкивая… Всё тут. Все города, все миры, и, желая выразить восторг, некто восклицает:
— Гародуам!
Мальчишка, стоящий рядом, дёргает отца:
— Па, что сказал дядя?
Отец, недоумевая, глядит на мальчишку, отвечая:
— Барокат?
Глаза мальчишки расширяются, становясь похожими на монеты.
— Клиус?
— Камень…
— Керпеть…
— Сатанола!
Звучат, вертясь и вихрясь, непонятные, шут знает как организованные слова… Неделя ушла на то, чтобы постичь — люди больше не могут понимать друг друга: никто: архитектор не объяснится с архитектором, менеджер с резчиком по камню, каменотёс со священнослужителем, продолжающим бухтеть нечто невразумительное… Неделя ушла: а потом, собирая пожитки, расходятся люди по краям Ойкумены — искать тех, кто может понять… Башня — недостроенная, конечно, — стоит… Башня оседает. Рушатся, выворачивая стекло, колонны, осыпается штукатурка, металлические каркасы врастают в землю; с грохотом, превосходящим любую канонаду, обваливаются ярусы… Люди ушли.
Башня оседает… и будет оседать до полного исчезновения. Гародуам!






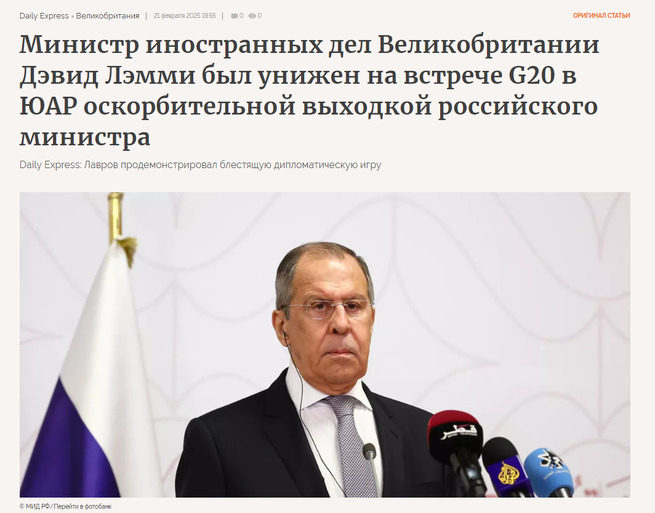

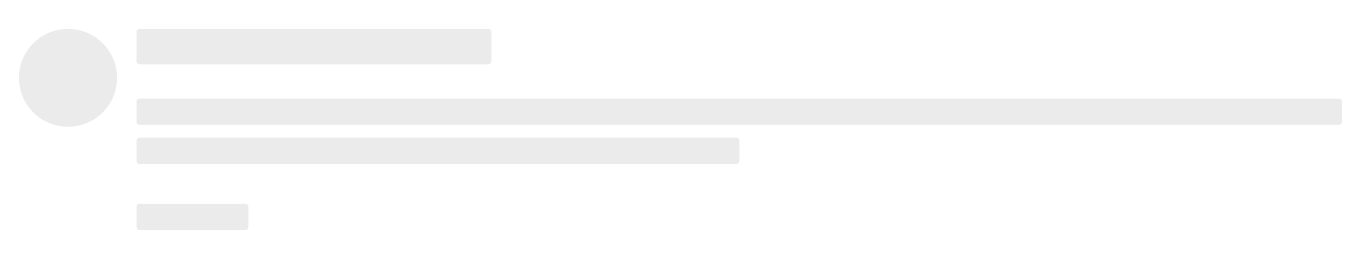






















Оценили 8 человек
9 кармы