
Владимир КРУПИН:
Великая радость — перечитывать «Повести Белкина»!..
Они каждый раз новые, и хочется сделать хотя бы попытку понять их волшебство, то, как автор использует прием рассказа от чьего-либо лица, как легко выходит за рамки приема, как берет в плен читателя, делает его соавтором, и как наряду с занимательным чтением внушаются мысли и чувства высокие.
...Покойный Иван Петрович Белкин с семнадцати лет до двадцати пяти служил в пехотном егерском полку, затем управлял имением, которое «в скором времени запустил». Своей склонностью «к чтению и занятиям по части словесности» он обязан деревенскому дьячку. Ясно, что личность Белкина выдуманная, прием писания от чьего-то имени был не нов в начале XIX века, им было удобно пользоваться не столько надеясь на снисхождение просвещенной публики, сколько для свободы писания. Повести эти, предуведомляет издателя ненарадовский сосед Белкина, «были, кажется, первым его опытом». Вдобавок, они и слышаны им от разных особ. Издатель «А.П.» делает такую сноску:
«Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А.Г.Н., «Выстрел» подполковником И.Л.П., «Гробовщик» приказчиком Б.В., «Метель» и «Барышня» девицею К.И.Т.
Сам Белкин в тридцать лет «занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер...» Словом, спросить не с кого. Листами неоконченного романа ключница заклеила на зиму окна флигеля, и единственное, что осталось от Ивана Петровича, вот эти повести. Вскоре после первого издания последовало второе, и в нем сказано прямо: «Повести, изданные Александром Пушкиным». В том порядке расположения повестей, им самим установленном, Пушкин как автор вначале является редко, потом расходится, и к финалу, к «Барышне-крестьянке», мы настолько подчинены его насмешливой воле, что подчиняемся ей весело и сами додумываем продолжение, но не повести, а самой жизни, возле которой оказались.
Кажется, автора нет вовсе в повести «Выстрел». История рассказана от имени молодого помещика. История рассказывается будто нарочно нелитературно. Взять карточную игру, первые слова подряд нескольких предложений: «Мы... Он... Сильвио... Офицер... Сильвио... Офицер... Сильвио... Офицер... Мы... Сильвио... Мы... Офицер...» Может быть, только начало абзаца «Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков...» не воспринимается белкинским еще и потому, может быть, что повесть эта — трехсоставная, в ней три монолога: Белкина (о себе и о Сильвио), самого Сильвио (о ссоре с графом) и графа (о конце истории с выстрелом).
Сходство сюжета со случаем из жизни Пушкина известно давно — он стрелялся с офицером Зубовым в Кишиневе, явясь на поединок с черешнями и отказавшись от своего выстрела после того, как противник стрелял первый и не попал. Но как бы это ни было интересно, как бы мы ни восхищались выдержкой и волею Пушкина, в данном случае важна повесть. Случай с Зубовым был известен современникам поэта лучше, чем нам. К тому же нехорошо переводить события личной жизни в литературные. Вначале повесть «Выстрел» обрывалась на отъезде Сильвио и было неизвестно, увидится ли он с графом. «Окончание потеряно», — приписал Пушкин, но через два дня дописал его.
Во второй повести, в «Метели», после первых слов «В конце 1811 года» сразу же врывается автор, следует фраза оценочная: «…в эпоху, нам достопамятную», а дальше опять Белкин возвращает нас к началу: «...жил в своем поместье Ненарадове...», то есть в том, в котором опочил неизвестный биограф Ивана Петровича. Но вот время подходит к окончанию войны, и в текст врезается возвышенное отступление: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания...» Белкин только на год старше Пушкина, в эти времена они мальчишки, но здесь восторг детства сопряжен с позднейшим пониманием победы над Наполеоном.
В «Сильвио» хоть и звучат три выстрела, но все живы, в «Метели» умирает от ран Владимир. Заявленный тон повестей легкий, радующий, известие о смерти печально, автор, чувствуя это, разбавляет текст иронией. Появляется в доме Марьи Гавриловны загадочный Бурмин. Близится минута их объяснения — «Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа». Последняя строка: «Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...» заканчивается отточием, тогда как в «Барышне-крестьянке» подобная сцена (сходство в том, что узнается предназначенность друг другу) — точкой.
«Гробовщик». Повесть идет по нарастающей по силе напряжения, здесь и вовсе мистика — вечеринка, если не бал, мертвецов. Первое чтение убеждает, что это так и есть, уж потом знаешь, что все это снится. Со второй красной строки появляется автор и ведет дальше до конца:
«Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу».
Конечно, «Гробовщик» — повесть не белкинская, как и следующая: «Станционный смотритель». Она, эта повесть, наиболее грустная. Она о смерти человека. Эпиграф у нее простой, просто вводящий в тему, тогда как у предыдущего «Гробовщика» эпиграфом стоят апокалипсические слова Державина: «Не зрим ли каждый день гробов, седин дряхлеющей вселенной?» — Нет, здесь только: «Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор».
«Кто не проклинал станционных смотрителей...» и так далее, весь этот незабываемый текст до того, как «оборванный мальчик, рыжий и кривой» приведет нас на кладбище.
«— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом».
Действие повести начато «в 1816 году, в мае месяце», за год до этого Белкин «вступил в службу». Продолжение следует через «несколько лет». А заключительная поездка «недавно еще», то есть недавно может быть по отношению к Белкину, умершему в 1828 году, или недавно по отношению к дате 1830 года, то есть к году письма соседа Белкина. В последнем убеждают рассудочные строки отступления: «Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин чина почитай ввелось в употребление другое, например, ум ума почитай? Какие возникли бы споры!» — Фразы, подобные этой, никак не сходятся с написанным во вступлении образом Белкина, не вяжутся с его размышлениями первой повести о Сильвио.
В «Барышне-крестьянке» сразу сообщается, что папа барышни Лизаветы Григорьевны обрабатывал поля «по английской методе». Кто же, девица «К.И.Т.» или Белкин комментирует, что «на чужой манер хлеб русский не родится»? Реакция англомана Муромского на критику Берестова заставляет вспомнить междужурнальные сшибки: «Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты».
Но начало приема, начало чудесного вовлечения нас в соавторство начинается дальше, после того как сообщено о ссоре отцов, о приезде загадочного молодого Берестова, и следует: «Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить…» — Тут сразу видно, что повесть назначена для печати, тогда как повести Белкина писались как первые опыты, сообщает о Белкине его сосед. В завершение рассуждения о женщинах провинциальных и столичных стоят слова, вновь обличающие опыт наблюдений:
«В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характеры и делает души столь же однобразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако...»
"Барышня-крестьянка"
Повесть написана для читателей своего круга («Боратынский ржет и бьется...»), поэтому часты насмешливые замечания широкой начитанности: «...Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии». Далее: тут же кажущееся противоречие в реплике Лизы:
«— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!
— Да как же вы нетерпеливы!»
А в «Гробовщике» лукавое многократно цитированное место против подробностей: «Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что...» — В разговоре Лизы и Насти то же: и подробности услышим, и представим и Настю, и барыню.
Первое свидание: «Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала...», вдруг отточием текст обрывается и сразу: «...но можно ли с точностью определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись...» — Вот это «итак» и «задумавшись» не дают отнестись к выходке Лизы как к забаве, хотя первые слова приглашают в соучастие, в соавторство, настраивают на тональность. То, что случай с переодеванием не простая шалость, говорят и авторские слова, объясняющие переживания Лизы: «...совесть ее роптала громче ее разума». Еще далее:
«Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными; итак, я пропущу их, сказав вкратце...»
Снова волшебство — дано и идущее время растущей любви Лизы и Алексея и оставлено место для домысла, но домысла направленного. Тут же стоят уверенные слова «знаю, что большая часть моих читателей...». В отличие от немногого числа, раньше указанного, — «те из моих читателей, которые не живали в деревнях...», здесь уже «большая часть».
Визит Берестовых к Муромским. Здесь в приглашении отобедать снова выключение из легкого жанра, здесь Алексей впервые назван по отчеству. Тут же и Лиза, которая ищет выхода. И она уже не просто Лиза. «Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю». Вообще на английский манер она названа только раз, как-то не пристает ей имя Бэтси.
И все-таки наш автор умеет даже в напряженном действии улыбнуться. Алексей привезен отцом в гости почти насильно, он любит крестьянку Акулину, «сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение». Важна вводная фраза «как нам известно». И без этой фразы известно, но важно, что известно «нам» вместе с автором.
Лиза выходит к гостям загримированной, «...все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах». Зачем про ломбард? Девушка на возрасте, отец впервые задумывается о ее судьбе.
Влюбленный, как он думает, в другую, Алексей все же «успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал». Лиза выставила ножку как барыня или в насмешку как Акулина? Это игра, они совсем дети «в простоте» своих сердец.
Вскоре мы уже прочные союзники с автором, и автор смело решает за нас: «Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий». — Здесь и не «большая часть читателей», и не «те из моих читателей», просто «читатель догадается...».
Дело дальше. Уже и старший Берестов думает о женитьбе сына и, примирившись с Муромским, он прочит его Лизу за своего Алексея. Что касается Лизы, то отец ее думает по-старорежимному. «Ну, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бэтси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит».
И наконец, развязка. «Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо...» — Совсем по-водевильному входит отец Лизы, видит молодых объясняющимися и считает, что «дело совсем уже слажено...».
«Читатель избавит меня от излишней обязанности описывать развязку». — Именно так: избавит от излишней обязанности, хотя страх как интересно читать дальше. Эта насмешливая легкость, с которой мы вовлечены в соучастники действия, составляет загадку. Она не специально, она от таланта. Вряд ли Пушкин специально продумывал этапы взятия читателя в плен, это в природе большого искусства. Пушкин — сама природа искусства.
«Если Бог пошлет мне читателей...» — так начнется следующая за повестями Белкина «История села Горюхина». — Прием написания от кого-то был задуман враз с «Историей села Горюхина», та тоже от первого лица, но не именно от Пушкина. А в бумагах, например, о «Станционном смотрителе» написано так, как будто Пушкин пишет от первого лица: «...История дочери. Любовь к ней писаря. Писарь за нею в Петербург. Видит ее на гулянии. Возвратясь, находит отца мертвого. Могила за околицей. Еду прочь. Писарь умер. Ямщик мне рассказывает о дочери». — Исполнение переменило замысел, но смысл невольной или вольной вины дочери в смерти отца остался: «Еду прочь, — пишет Пушкин. — Ямщик мне рассказывает...»
Но, закрывая со вздохом сожаления последнюю повесть, понимаешь, что как бы ни разобрать авторский прием, следовать ему не можно. Это тайна. Может быть, она не разгадана даже автором. Еще и в том тайна, что в легкие истории любовных интриг, ссор, венчаний, снов Пушкин ввел эпоху, показал ее бытовые и нравственные приметы, выступил сам их судьей или предоставил суд читателю.
Нет у Пушкина ничего случайного, не случайно в доме смотрителя, где «горшки с бальзаминами и кровать с пестрой занавеской», на стене висят картинки, изображающие библейскую историю блудного сына. Это как предупреждение Дуне и намек читателю, намек неясный, но он вспомнится потом, когда Дуня будет плакать на могиле отца. Она будет богата, будет ехать с барчатами и с черной моськой, она не успеет к нищему, спившемуся из-за нее отцу.
Да и любая из повестей — урок нравственности. Вернемся к «Выстрелу». Граф стреляет в «злодея» Сильвио два раза, а Сильвио ни разу, — свой единственный выстрел он расходует на то, чтобы пробить картину в том месте, где она пробита графом. «Будете ли вы стрелять или нет?» — «Не буду, — отвечал Сильвио, — я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести».
И вот этот граф, который фактически сломал жизнь Сильвио, ведь из-за графа Сильвио вышел в отставку, граф — баловень судьбы, остается в своем имении, с красавицей женой, а про Сильвио известно, что он, кажется, «убит в сражении под Скулянами». Очень сложно судить того и другого — в ссоре перед дуэлью виноват, конечно, Сильвио, сказавший графу «какую-то плоскую грубость». Именно «какую-то», какую, уже не помнится. Граф хочет убить Сильвио, он целится, пуля пробивает фуражку. Дуэль остановлена, но не злоба, злоба растет; «с тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении», — говорит Сильвио. И вот — вся жизнь искалечена мыслью о мщении. И ведь казалось бы, вторая дуэль, в которой благородство Сильвио явное (он вновь предложил жребий, в котором вновь повезло графу — стрелять первым), казалось бы, это благородство извиняет Сильвио, но нет — зло слишком долго тяготило его, и вот финал — гибель в чужой стране, да еще и неизвестно, точно ли это.
А осуждение графа — дело читателей.
Вина за «непростительную ветреность» лежит на Бурмине («Метель»). То, что он обвенчался с незнакомой девушкой, — проказа для него, тогдашнего офицера-гуляки. Но есть святость брака, крепость венца. «Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо». Именно так Бурмин рассказывает Марье Гавриловне, называя ту неизвестную ему девушку своей женой. Честь Бурмина заставляет, признавшись в любви к Марье Гавриловне, тут же отказаться от счастья. Проказу свою он называет преступной. Он не помнит места, где случилось венчание, не имеет «надежды отыскать ту, над которой подшутил так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена». Отомщена тем, что он не имеет права любить. И как облегченно вздыхаем мы, когда открывается, что девушка эта и есть Марья Гавриловна.
Уроки нравственного даются не вдруг, только неоднократное чтение «Барышни-крестьянки» вынуждает задать вопрос: а почему бы Берестову не полюбить Настю? Ведь он ухаживает за ней, и энергично. Но замечаем, что Настя и не думает всерьез о барине, о своей же любви к нему и не помышляет. Почему? Разве потому, что она из другого социального слоя? Нет, не поэтому. Акулина, которую полюбил Алексей, причем полюбил всерьез, до того, что хочет жениться на ней, ведь эта Акулина — крестьянка. Тут дело в уровне мышления, в родственности сердец. Первая неуступчивость Акулины заставляет уважать ее, а дальнейшее открытие свойств ее ума и души влюбляет в нее. В чем тут дело — в различии Насти и Лизы, в невозможности Насти достичь развития Лизы, неизвестно. Каждая из девушек живет в своем мире, и обе они необходимы друг другу. Когда у Алексея не вышло притвориться слугой барина («Алексею хотелось уравнять их отношения»), он становится самим собой, а не тем, чью роль он играл для барышень («Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности»). Но переодетая Лиза неуступчивой простотой Акулины открывает под временной модой истинного человека. А познакомься они иначе, поженись, в браке их так и остался бы привкус игры в общепринятые маски. К тому же Алексей уверен, что это он развивает ум Акулины, если бы иначе — убежал бы по примеру всех боящихся женского ума.
Есть тайна и в том, что каждое новое издание «Повестей Белкина» рождает новые мысли. Кажется, что размер страницы, шрифт, переплет, оформление еще не нашли той формы, в которой пушкинские строки засияли бы полнотой его гения. Сколько было изданий, радостного запаха свежей краски, блеска лощеной и глянцевой бумаги, но все равно тянет увидеть первое издание, то, где «ер» и «ять», где слово «Бог» с большой буквы, то, корректуру которого держал автор.
Думается иногда, кому больше говорят повести Белкина, читателям — современникам Пушкина или нам, поздним потомкам? Хочется думать, что нам, потому что пришло время. То, что было естественным тогда, воспринимается сейчас иначе. Например, в повестях сейчас под занимательностью сюжета, под насмешливой легкостью текста все более проступает образ автора — гражданина своей страны. Вспомним, как он защищает провинцию, решая близостью к природе утвердить более свободное развитие каждой отдельной личности («В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы»). Трудно представить другую Акулину — дочь гробовщика и сестру ее (в желтых шляпках и красных башмаках) на утренней прогулке, совершаемой Лизой-Бэтси-Акулиной, они — дочери — отравлены городом.
Гражданство Пушкина в настойчивом проведении большой мысли патриотизма. От шутливой насмешки над неприменимостью в России англоманского ведения хозяйства до возгласа об эпохе войны 1812 года: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество!»
Пушкин постоянно напоминает пишущим собратьям о преимуществе русской жизни как материала для прозы и поэзии в сопоставлении с первенствующими тогда литературами французской и английской. Вспомним «мадам мисс аксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала “Памелу”, получала за то две тысячи рублей, и умирала от скуки в этой варварской России».
Сопоставление гробокопателей с гробовщиком для «просвещенных читателей» могло казаться тогда чуть ли не наглостью. Но время все дальше отодвигает силу впечатления при перечитывании разговоров на кладбищах у Вальтера Скотта и Шекспира, вряд ли может быть в истинной русской литературе примерно такой разговор, как... «угодил к Курносой, сам без челюстей» (речь о черепе), «церковный сторож бьет его по скулам лопатой». Или: «стоило ли давать этим костям воспитание, чтобы потом играть ими в бабки?» Или (с черепом в руках): «Здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз» («Гамлет»).
Потустороннее, фантастическое, мистическое всегда было и в русской литературе, но даже без намека издевки над смертью. Даже мертвец, простирающий «костяные объятья», называется по имени. «Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища...» Это «товарища» уравнивает их всех, вряд ли они, умершие в разные сроки, были товарищами при жизни. Можно сказать, что, двигаясь дальше, наша литература показала пример неуважительного отношения к смерти, например в «Мастере и Маргарите», написанной через сто лет после «Гробовщика», в сцене бала у сатаны. Но на бал этот собираются люди, отмеченные печатью зла, — убийцы, доносчики и им подобные.
Пушкин дает еще и такой урок — он направляет умы и интересы читающих на все лучшее, современное ему и вообще отечественное, делает это путем цитирования в тексте или ставя строки соратников по перу в эпиграфы. Державин, Вяземский, Богданович, Жуковский, Боратынский, Бестужев — и это только из эпиграфов к «Повестям Белкина». Незабытое, но плохо используемое современными писателями искусство эпиграфа, думается потому, что цитата, полная смысла, но краткая в сравнении с произведением, которому предшествует, может и затмить произведение. То есть цитата заставляет остальной текст быть достойным ее. А у блистательного Пушкина могло бы и не быть эпиграфов; что, в самом деле, значительного в словах «стрелялись мы»? Но Пушкину важно поддержать товарища. Кроме эпиграфов, в текст вкраплены цитаты и из других современников: из А.С.Грибоедова, А.А.Перовского (1787—1836), А.Е.Измайлова (1779—1831), H.И.Дмитриева (1760—1837), Я.Б.Княжнина (1740 (?) —1791), А.А.Шаховского (1777—1848), Н.М.Карамзина, Д.И.Фонвизина и других.
Даты рождения и смерти указаны у всех, кроме Грибоедова, Карамзина и Фонвизина; считается, что их мы должны знать. Но кого ни спросишь, читали ли «Наталью, боярскую дочь» Карамзина, редкий говорит, что да. В оправдание нечитавшие говорят, что литература XVIII века якобы морально устарела и прочее. Но это от незнания, без нее не могло быть Пушкина.
Не Ахиллесов гнев и не осаду Трои,
Где в шуме вечных ссор кончали жизнь герои,
Но Душеньку пою, —
пишет Ипполит Богданович. «Душенька» его есть остроумное пародирование древнегреческих трагедий, снижение их пафоса, путь к реализму. Душенька — земная красавица — вступает в спор с богиней любви и красоты Венерой. Но чтобы, как писали раньше, вполне насладиться чтением, опять же надо знать и то, от чего отталкивается уже не Пушкин, но Богданович. Он, говоря о сочинениях, которые «острый ум удобен произвесть», перечисляет:
Во Греции Менандр, во Франции Мольер,
Кино, Детуш, Реньер, Руссо и сам Вольтер,
В России, наконец, подобный враг пороков,
Писатель наших дней, почтенный Сумароков...
И так постоянно — чтение Пушкина уводит все дальше, к первоисточникам, но когда возвращаешься от них, тем более очаровывает Пушкин. Вот «Наталья, боярская дочь». Написанная точным, насмешливым, высоконравственным пером поэта, прозаика, историка, она не только помогает лучше узнать эпоху послесмутного времени, но, в приложении к данному случаю, к «Барышне-крестьянке», помогает представить уроки русского языка, даваемые Алексеем Акулине. Знал, проказник, чем увлечь девушку. Повесть Карамзина о любви. Читаешь и думаешь, какие же афоризмы выписывала Акулина из повести, ведь исписала ими «круглый лист». Выпишем и мы несколько, думая, какие же замечания могла она делать при этом, «от которых Алексей истинно был в изумлении», приговаривая: «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе»:
«...сердце красной девушки есть удивительная вещь: чем оно довольно ныне, тем не довольно завтра — все более и более, и желаниям конца нет»;
<...>
«В старину не было ни клобов, ни маскарадов, куда ныне ездят себя казать и других смотреть; итак, где же, как не в церкви, могла тогда любопытная девушка посмотреть на людей?»;
<...>
«Много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство русское искони почиталось жилищем красоты и приятностей...»;
<...>
«Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали?»
Интересно, например, и это:
«...год перевернулся на оси своей: зеленые ковры весны и лета покрылись пушистым снегом, грозная царица хлада воссела на ледяной престол свой и дохнула вьюгами на русское царство, то есть зима наступила...»
Вот это снижение с пафосных высот романтизма до простоты реализма было очень дорого нашему поэту. Интересно сопоставление ситуаций: Наташа, боярская дочь, переодевается в юношу, чтобы не отстать от любимого даже на войне, а Лиза переодевается крестьянкой. Также любопытно сопоставление венчания тайком: у Карамзина оно также в деревенской бедной церкви, как и в «Метели», ночью, но, в отличие, старый священник возвращается в действие, чтобы вторично благословить молодых, но уже публично, при счастливом отце.
А сколько еще поучительного будет замечено при следующих прочтениях и в нашей жизни и в последующих. Как, например, вдруг ощутилась фраза: «Музыка играла завоеванные песни». — И под эти песни маршируют солдаты, разговаривая и «вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова».
Но это тайна, почему именно фраза, которая вписана гусиным пером, вдруг через 150 лет являет нам свой особый смысл, о котором не знали современники автора и не думал сам автор. Объяснение тайнам пушкинской прозы одно — она вся продиктована свыше, и Пушкин просто записал ее. Ведь это Моцарт говорил, что он не сочиняет свою музыку, а слышит ее и записывает. А в том, почему именно Пушкин избран небесами, нет тайны, он лучший из людей того времени, и эпоха доверила ему сказать о себе. И в награду за то, что сказал он правдиво, эпоха с радостью назвалась Пушкинской. О мучении и радости чтения хорошей прозы наш современник написал так:
«Когда... ты пытаешься понять, каким образом все это было достигнуто, какой живой водой окроплено, ты снова перебираешь слова, следуя по ним, как по ступенькам бесконечной лестницы, пытаясь проникнуть в их удивительную тайну, заставляющую их звучать, пахнуть, светиться и волновать. И ты все видишь, потому, что в книге трудно что-либо скрыть, всю вязь слов, музыку их, обозначенную нота за нотой, стыки между фразами и паузы между мыслями — все видишь и тем не менее ничего не понимаешь...»
В завершение следует добавить, что все пять «Повестей Белкина» занимают объем, равный едва ли половинке какой-либо нынешней повести. Тут можно сказать, что жизнь усложнилась, убыстрилась, что мы не Пушкины, звезд с неба не хватаем, в общем, пишущим на русском языке всегда будет утешением то, что «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» уже изданы, и, цитируя из них напоследок, заметим, что «нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание».










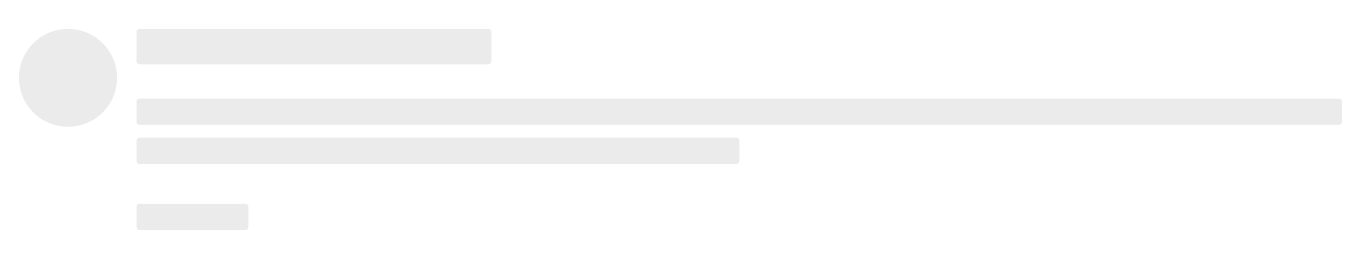













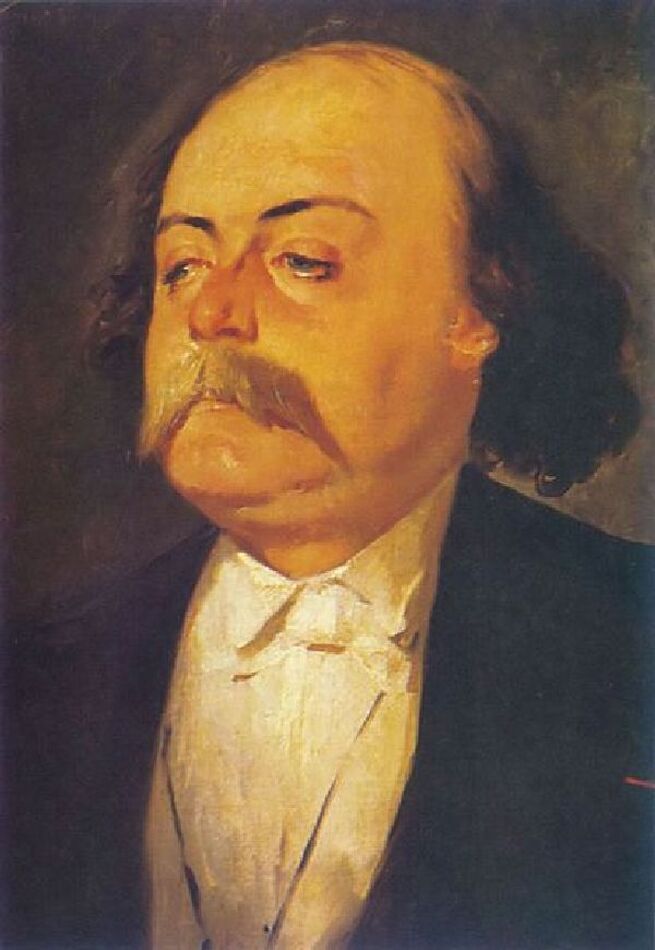








Оценили 7 человек
14 кармы