- Да, - проговорил Ресибир, - еще бы мне не знать немецкого! Уж кто-кто, а я-то этот благородный язык знаю и люблю… - он помолчал, затянувшись сигаретой, - хотя он, строго говоря, не является моим родным. Хотя ,- опять-таки, - я, как честный человек, должен признать, что понятия не имел, что немецкий -– не является мне родным. Боюсь, что говорю непонятно, но такова жизнь… Она не так уж редко подсовывает нам подобные зеркальные галереи, бесконечные ряды отражений от отражений, перед которыми мы стоим, не зная, как войти, как выйти, и кончатся ли они когда-нибудь… Все эти: «Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь…» – помните?
- Помним-помним… Своего ты добился, нас заинтриговал, поэтому будь добр, - давай подробности… Почему именно немецкий? Какой такой родной-неродной?
- Дети – устроены вообще таким образом, чтобы приспосабливаться ко всему. Ребенок – иное существо, это не маленький взрослый человек, а особого рода гиперадаптивное животное. До определенного возраста они сживаются с чем угодно, что угодно – воспринимают как так и надо. Свое уродство или болезнь, жизнь в больнице, в тюрьме, в концлагере, в осажденной крепости. Все – как так и надо, - и никаких рефлексий! Вот и я жил так, как я жил, и воспринимал жизнь такой, какова она есть. Меня не удивляло, почему я такой смуглый и черноволосый среди почти что сплошных блондинов и рыжих, то, что меня время от времени пытались дразнить мне, понятное дело, тоже не нравилось, но тоже, в конечном итоге, воспринималось, как должное. Не сомневаюсь, что я, только попытавшись, тут же смог бы говорить по-португальски, и по-испански, - но знание этих языков лежало во мне таким образом, что его как будто бы и не было… Как сон в сравнительно раннем детстве, - знаете? Вроде бы и было что-то, а вроде бы - и нет его. И воспоминания из того времени, стоит чуть задеть чувствительное место предстают перед внутренним взором именно что как картинки, - только со звуками, красками, объемом, движением. И запахами. Представьте себе – пятьдесят второй, год еще для Германии страшно, почти неподъемно трудный, и то, что впереди назревает некий перелом к лучшему, - очевидно еще далеко не для всех, и есть еще приюты, полные разновозрастных сирот военного времени, Западная Зона оккупации. Это, знаете ли, еще очень чувствовалось. Я, двенадцатилетний, удрал от всех, хотя знаю, что накажут, и что наказание – неотвратимо. Лето, совершенно потрясающая, - как я теперь понимаю, - погода. По угрюмости нрава моим любимым местом было место довольно специфическое. На высоком берегу стояло какое-то здание, мальчишки болтали, что – господский дом, но господские дома редко строят на самом краю откоса, так что – вряд ли, а по архитектуре разобраться было мудрено, потому что, - он опять глубоко затянулся. – Потому что, видите ли, от самого здания мало что сохранилось. Очень мало. Там взорвалось что-то очень уж мощное, и от дома осталась, практически только задняя, - та, что к обрыву, - стена, высотой примерно сантиметров шестьдесят. До – кучи кирпичного щебня, и ниже – тоже. Все. Немцы – это особые люди, но ничто человеческое им не чуждо, и в мерзкие, бедные, отчаянные, окаянные послевоенные годы приспособили склон за стеной – под свалку. Мы, мальчишки, порой рылись там, и за это нас наказывала фройляйн Ландсдорф, длиннозубая, желтолицая особа лет пятидесяти, не то, чтоб вовсе садистка, а – очень уж неукоснительная, и еще, - знаете? – как-то так знающая толк в наказаниях. Съестного там, понятное дело, не было ни миллиграмма, мы и не искали, знали, что бесполезно, а рылись просто так, потому что были мальчишками. Вот я, удрав, облокотился на тот самый остаток от стены там, где он был пониже, и любовался. На свалку. На паршивое, чахлое редколесье, заваленное немыслимым, вовсе уж никуда не годным хламом… Наверное – там и запахи были соответствующие, но в ту пору, при тогдашнем моем жизненном опыте, это не волновало меня почти никак. Ни о чем не думал. И вдруг какая-то нечистая сила, - понимаете? – подхватывает меня за бока чуть пониже подмышек, пер-реносит меня через стену – и ставит на склон ниже стены. Правда, - врать не буду, - страхует меня, удерживая от падения вниз… И тут же – хохот. Веселый такой, совершенно беззлобный. Как будто бы человек хотел пошутить. Надо сказать, шутник выбрал неудачный объект для шутки, потому что первым делом я пришел в ярость, багровая пелена перед глазами, полная, нерассуждающая готовности убить и все такое прочее. Я, ухватившись за жилистый, перекрученный ясень, рванулся из рук шутника, но они и сами разжались, когда их хозяин убедился, что я – стою и не посыплюсь вниз. В бешенстве – поворачиваюсь, и… И у меня в единый миг проходит все мое ожесточение. Совсем, как и не было его вовсе. Отступив от стены на метр, стояла, уперев руки в бока, смотрела на мою злую, красную, растерянную физиономию и хохотала невысокая плотная девушка, или молодая женщина, мне тогда было все едино. Смех у нее был такой беззлобный и веселый, что, похоже, именно от него-то и прошла моя злость. Волосы у незнакомки были повязаны платком, а на это место она явилась в каких-то замызганных спортивных штанах, что в те времена и само по себе выглядело не слишком обычно. Рукава – закатаны, руки – на вид, знаете, тоже какие-то крепкие. К месту свалки она принесла два бака для кипячения белья, с приделанными к ним проволочными ручками и полные шлака от паршивого угля, которым в тех местах и в ту пору топили печи и плиты…А еще она была очень красивой, красивой той неброской красотой, что не вот бросается в глаза. Такая, знаете, рыжеватая блондинка с серыми глазами и правильными чертами лица. Талия – довольно тонкая, а в плечах и в бедрах, - скажем так, - не узенькая. И за пазухой запасец кое-какой тоже был. Главное же, что чувствовалось прямо с первого взгляда на Клару, это необыкновенная уверенность в себе. Она прямо-таки излучала спокойную, веселую самодостаточность, как печь – тепло. Есть такие люди.
- Ну и на что же ты там любуешься, малыш?
Решение пришло мгновенно:
- Так вон же, вон, - проговорил я, перескальзывая через стену обратно, - разве вы не видите?
- А что, что, - чуть нахмурилась она, придвигаясь к стенке и всматриваясь куда-то там, - ах, ты…
Последнее относилось ко мне, потому что, заняв позицию сзади и сумев привлечь ее внимание чем-то неведомым, но стра-ашно интересным, я ухватил ее за талию и поставил на стенку сверху. Честно, так же, как она меня минуту назад, страхуя ее от падения. Для своих лет я был, конечно, очень силен. И в куда более благополучные времена двенадцатилетние мальчики почти никогда не бывают такими сильными, а тут – поди ж ты! Считай с трехгодовалого возраста – по приютам, кормежка всю жизнь – сами понимаете, а – вот так. И малорослым не был, и даже слишком тощим меня назвать было трудно. Хотя к тому времени, правду сказать, с едой у нас в приюте стало, можно сказать, прилично. По крайней мере, - куда приличнее, чем два-три года назад. И еще, - к силе, - хватало в те поры у меня угрюмости и злости. Смертельная смесь для смуглого, нелюдимого чужака, - понимаете? – но я при угрюмости и злости каким-то непонятным образом вовсе не был агрессивен. Не лез в главари, ни над кем не издевался. Почему? Сам не понимаю. Наверное Господь оберег. Но и меня к тому времени перестали задевать или, тем более, лупить: однажды на меня толпой навалились сверстники, а я – пришел в ярость и расшвырял их, словно соломенных кукол. Можно сказать – следствием этого был и второй случай, когда эти – привели своих покровителей, трех парней лет по пятнадцать. Я перепугался и молчал, а двое из них взяли меня за руки и растянули, чтобы третьему было удобно бить. Лучше бы они этого не делали, - весь мой страх тут же прошел, просто потому что я начал действовать рефлекторно: рванулся изо всех сил, и эти двое – отлетели, и один из них – не удержался на ногах… Видимо, - обезьянам с самого начала не свойственно было бить, и именно по этой, видимо, причине, я тоже не ударил третьего: я поднял его тощее тело над головой и швырнул его в угол. У него оказались сломаны ребра, но, узнав обстоятельства дела, даже наша горячо любимая фройляйн не стала меня слишком строго наказывать. Двое других испугались меня на всю жизнь, один даже до форменного поноса. Вот это вот все и еще многое я как раз и рассказал ей, когда мы вволю насмеялись над нашими шутками, в которых долг оказался выплаченным до конца… Она была гениальным исповедником, спустя минуту – только диву давался, бывало, почему и с какой стати рассказал ей куда больше, чем намеревался, и откуда взял столько подробностей, которые, вроде бы, забыл напрочь. Среди всего прочего я рассказал ей о способах наказания, обычно применяемых фройляйн Ландсдорф, - без всякой задней мысли, не было у меня никакого чувства того, что со мной обходятся несправедливо или вообще как-то не так... Напротив! Фройляйн никогда не допускала ни малейшего произвола и ни малейших отступлений от правил. Которые сама же и установила. Мы знали, за какую провинность положен штрафной спорт, за какую – заключение в подвальный чулан, а за какую – неделя на хлебе и воде. Никаких любимчиков и никому никаких послаблений. Справедливость. Клара, видимо, так не считала. Она, услыхав подробности, чуть побледнела и закусила губу, а утром – явилась к этой самой Ландсдорф. Между ними, прямо на утренней перекличке, произошел какой-то разговор вполголоса, а потом Клара очень естественным движением взяла фройляйн за невообразимо, запредельно уродливый узел волос на голове и треснула физиономией об коленку. Мы все, независимо друг от друга, и каждый по отдельности, решили, что нам это привиделось, но ничего подобного: эта стоит на коленках и сморкается кровью, а Клара ей говорит:
- Не думаю, чтобы ты, ведьма, стала на меня жаловаться, потому что единственное, чего я не знаю, - кем именно ты была: капо или просто надсмотрщицей в лагере. Это – очень быстро выяснят.
Ей бы королевой быть: ни до, ни после я не встречал человека, обладающего такой харизмой. Таким умением подчинять себе нипочему, одной силой личности. С тех пор я стал жить куда посвободнее, иной раз я целыми днями пропадал у Клары, которая каким-то непостижимым образом присвоила себе выморочную ферму в пригороде – и жила себе. Жизнь уже начала приходить к обычной своей норме, хотя и была все-таки еще очень тяжелой, но я никогда не видывал Клару в унынии или бездеятельности, не было работы, за которую она побоялась бы взяться. И бралась – за все. Подряжалась нянчить детей, убирать первые возродившиеся конторы, делала мужскую работу у себя на ферме, и на окрестных фермах, потерявших хозяев… Вы, наверное, ждете какой-то там романтичной истории первой детской любви мальчишки – к зрелой женщине? Так вот: ничего подобного, никакой любви не было, хотя она поистине была ее достойна. Ее небольшое тело было сильно, как не у всякого мужчины, а выносливость вообще превосходила всякое вероятие. Я, во всяком случае, никогда не видел ее и уставшей. Очень кстати оказалось то обстоятельство, что она никогда меня не поучала. Просто все делала так, что поневоле научишься… Только кое-когда она подходила ко мне, брала за подбородок, заглядывала в глаза и задумчиво спрашивала:
- И откуда же ты тут взялся, такой черненький? Не-ет, я – не я буду…
И – сделала невозможное. Разыскала документы, свидетелей, шаг за шагом распутала мое… Мой путь во времена, когда я был слишком мал, чтобы запомнить свои обстоятельства. Выяснила имена моих родителей, и это оказалось весьма влиятельное семейство из Аргентины, у которых были, - или только намечались еще, - какие-то дела в рейхе. Отец постоянно представлял некоторые неофициальные, но весьма влиятельные круги своей страны, но он был младшим сыном, и в этом-то и состояла основная его проблема. Короче, - она помимо прочего еще и связалась с моим благородным семейством, и за мной примчалась целая банда… Ситуация на семейном фронте изменилась, и мое присутствие в составе своего семейства стало вдруг весьма важным… Ну, разумеется, не обошлось без всяких там детских глупостей, без всех этих: «Я с тобой останусь…» – да: «Никуда я отсюда не поеду…» – и всего такого, но она сказала четко и холодно:
- Ты сидел на моей шее почти три года, и это не было ни слишком легко, ни очень полезно для моих собственных дел. Мне нужно замуж выходить, а кому нужна двадцатисемилетняя, когда кругом сколько угодно молоденьких?
Все-таки немцы ужасны. Я стоял и молчал, будто пораженный громом, и в мою дурацкую голову пришла первая в жизни взрослая мысль: а ведь она права. Я опустил голову, чтобы в извечной своей тогдашней дьявольской гордыне не показать слез и дрожащих по-детски губенок, а потом простился с ней сдержанно и сердечно и уехал в этот чертов Новый Свет. О, как я оказался не ко двору в своем богатом, влиятельном, аристократичном по новосветским меркам семействе! Не ко двору при том, что очень нужен был, - как бы это поточнее выразится? – самим фактом своего существования. Я был угрюмым, скрытным зверенышем, органически не способным подчиняться каким бы то ни было попыткам управлять собой, постоянно влипающим во всевозможные дикие истории. Бичом божьим и позором семейства. Хотя, в общем, обошлось без серьезной уголовщины. А когда они допекли меня окончательно попытками как-то втиснуть меня в надлежащую семейную форму, я забрал документы и завербовался в армию… Очевидно, - я не был окончательно глуп и после нескольких жестоких уроков начал подчиняться дисциплине, поскольку это соответствовало моим целям, был выделен и отмечен за силу, выносливость и бесстрашие, проистекавшее по большей части от глупости. И попал в чуть ли ни первую из тайком формируемых частей специального назначения. Продвинулся и там, особенно в связи с тем, что инструкторами у нас были люди из СС. «Грюн» - СС. То, что я отлично знал немецкий, делало меня в их глазах почти человекоподобным существом. Меня ценили! Меня продвигали! Меня ждала очень даже недурная карьера начиная с самого низу, независимо от семейства… Да. Очевидно, - в человеческом устройстве тоже предусмотрена возможность чего-то, подобного резидентным программам, и в один прекрасный момент во мне включилась вторая часть школы тетки Клары: я вдруг увидел, какие идиоты все эти военные. Без исключения. Осознал, что моему уму нужно несравненно больше пищи. И я помирился со своим семейством, наслаждаясь своим лицемерием и артистическим ханжеством, поступил в университет и накинулся на науки так, как голодный накидывается на хлеб. А они, дурачки, решили, что я взялся за ум! Я, Алонсо, получивший кличку «Ресибир» именно за свою неизбывную склонность лезть на рожон! Или за то, что казалось окружающим такой склонностью. Так вот с тех пор и лезу, или же, наоборот, становлюсь супротивно обстоятельствам, прущим на меня…
- Эй, послушай, ты же начал говорить про эту самую женщину, а теперь почему-то перешел на свою великолепную персону…
- Ничего подобного. Я считаю себя ее продолжением, как если бы и впрямь был ее родным сыном. Если бы не ее вмешательство, не было бы никакой такой великолепной персоны. И – вот еще что: зная множество людей, относящихся к самым разным нациям, я утверждаю, что добрее доброго немца людей не бывает. И этой усатой свинье нет прощения хотя бы уже за то, что он умудрился как-то заморочить голову такому народу. Я был еще молод, я еще не знал правила, по которому ни в коем случае нельзя возвращаться, и поэтому, преуспев, я съездил в Германию, и нашел ее, и она, разумеется преуспела, и вышла замуж, и было у нее к этому моменту трое детей. Поглядев на ее мужа, я как-то так сразу догадался, кто был истинной причиной и двигателем его успеха. Она приняла меня доброжелательно, но не более того, и вообще все было не то и не так. Я смотрел на нее, но поражался именно своей глупости: какого черта я сюда приехал? Должна же, все-таки, была существовать хоть какая-то причина этому скучному, бессмысленному, тупому идиотизму? Очевидно, - ученик все-таки не может быть умнее учителя, и она, разумеется, остается куда более умным человеком… Все так, но, в конечном итоге, немцы все-таки ужасны…
- Спасибо, конечно, за сагу, разогнал ты нашу напряженную скуку… Но, бога ради, - объясни нам, тупым и непонятливым, - а к чему ты все это вспомнил?
- Скучный ты человек, - с обычной своей, специфической, сознательно выработанной флегмой по-настоящему темпераментного человека вздохнул Ресибир, - все-то тебе рациональные причины нужны… Во всем-то тебе до сути докопаться надо. Вот глядишь на полотно Ван Гога, - и сразу же понимаешь, что вся суть в составе красок. Да нет тут никаких отчетливых причин! Нету. Просто, наверное, глядя на этот костер, на это южное небо, я почему-то вспомнил ту картину: остатки стены, я – спиной к помойке, из под насупленных бровей вижу смеющуюся Клару, всю золотую от вечернего августовского солнца. Мимолетная картина, одно мгновенное впечатление, - и оно глубоко рассекло мою жизнь на «до» и «после»… Ни почему, без всякой внятной для ваших кристаллических мозгов причины, дон Об!
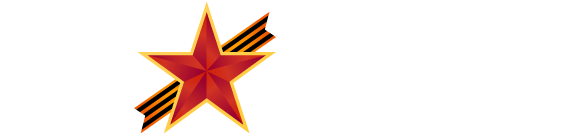








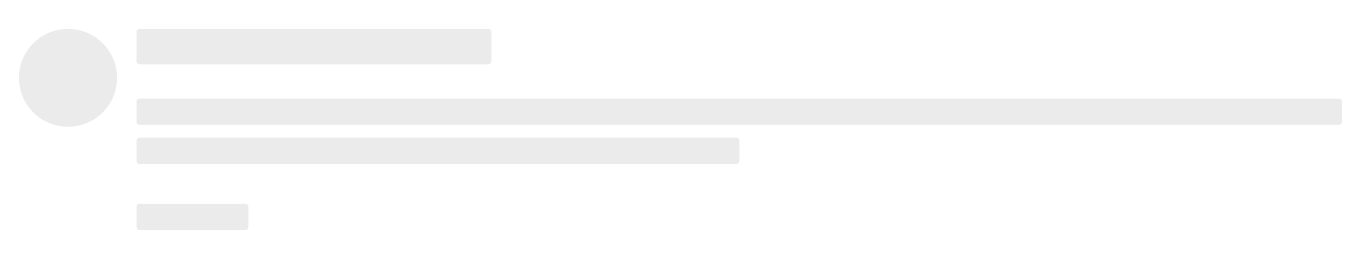


Оценили 5 человек
13 кармы